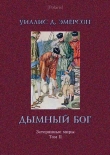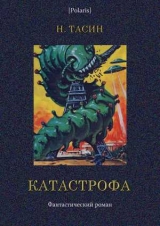
Текст книги "Катастрофа. Том II"
Автор книги: Н. Тасин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
XI
В Париже, точно же как и в провинции, только небольшая часть населения воспользовалась возможностью переселиться на поверхность, тем более, что переселение наталкивалось на большие трудности и затягивалось на целые недели: большая часть домов была разрушена, мостовые изуродованы, многие общественные здания пришли в полную негодность, точно так же как и водопровод, электрические станции и другие муниципальные предприятия.
Надо было наново все это налаживать, и работа наверху закипела вовсю.
В начале февраля надземный Париж стал уже более или менее обитаем, но миллионы людей все же предпочитали оставаться пока внизу.
– Подождем немного! – говорили они. – Еще неизвестно, что у них там выйдет. Лучше уж потерпеть здесь.
Обитатели надземного Парижа, спускавшиеся время от времени вниз, имели очень довольный вид и соблазняли оставшихся в подземном городе рассказами о прелестях жизни наверху.
– Как можете вы жить в этом подвале! – восклицали они. – То ли дело у нас наверху! Сегодня с утра так припекало солнышко… Солнце с морозом, – что может быть лучше?
– А зоотавры не беспокоят? – спрашивали их.
– Какие там зоотавры! Мы и думать о них забыли. Увидели, что у нас им пожива плохая, и повернули оглобли. Назад на Марс!
Эти рассказы волновали, будоражили и толкали к переселению наверх все новые элементы.
Вдруг, 20 февраля, ранним утром, в то время, когда сотни парижан собирались выбраться, вместе со своим домашним скарбом, наверх, оттуда стали спускаться платформы, битком набитые растерявшимися, насмерть испуганными обитателями надземного Парижа.
– Зоотавры! – бросали они придушенным от волнения голосом.
– Опять?!
– Да… Мы пережили ужасную ночь… Погибшие насчитываются тысячами… Нагромоздили новые развалины… Отстроенная было Городская ратуша снова разрушена до основания…
И рассказчики и слушатели были бледны и бросали испуганные взгляды вверх, к спускам, как если б они ждали, что вот-вот оттуда ринутся вниз крылатые чудовища. Платформы во всех концах подземного Парижа продолжали спускать сотни и тысячи бледных, испуганных беглецов, таких жалких и пришибленных, точно все они побывали уже в когтях зоотавров.
Напор был так велик, что опять пришлось пустить в ход суровые меры для того, чтобы хоть немного упорядочить возвращение вниз и не допустить до катастрофы. Несмотря на это, все же не обошлось без сотен раздавленных насмерть.
Налеты зоотавров возобновлялись каждую ночь, а так как эвакуация надземного Парижа затянулась на целую неделю, то ежедневно гибли новые тысячи парижан.
Наконец, 28 февраля утром были спущены последние платформы с беглецами.
То же происходило и в остальной Францией. Везде зоотавры произвели страшные опустошения и погубили тысячи человек. И везде объятые паникой люди спасались, точно гонимые фуриями, в подземные убежища.
Настроение было подавленное. Люди ходили как в воду опущенные, с поникшими головами, с потухшими взорами, вздыхали, говорили вполголоса. Церкви круглые сутки были переполнены, и верующие горячо молились в них за упокой души погибших и за собственное спасение от грозной напасти.
Подземный Париж казался облеченным в траур. Погасли смех и шутки, не слышно было громкого говора. Если прежде люди еще верили в лучшие дни, в то, что это только временное убежище и что они скоро смогут снова выбраться на широкий простор, то теперь всякая надежда казалась утраченной навсегда; теперь бетонные своды казались тяжелой крышкой гроба, из-под которой уж никогда не удастся выбраться.
– Кончено! – с безнадежным отчаянием говорили люди. – Туг, под землей, и умирать, видно, придется.
И если им случалось поднимать глаза вверх, в них была смертная тоска, как у людей, заживо похороненных в могиле.
Тщетно пыталось правительство рассеять тяжелую тоску, свинцовой тучей нависшую над подземной столицей; тщетно устраивались частые празднества, и оркестры играли национальные гимны: парижане и на празднествах имели вид людей, сопровождающих погребальную процессию, а бравурные звуки национального гимна слушали с таким выражением, как если б это был похоронный марш.
Работали вяло, словно не видя смысла в работе, раздражались из-за каждого пустяка, предъявляли бессмысленные требования. То в одной, то в другой отрасли вспыхивали, большей частью без всякого серьезного повода, забастовки. Рабочие нередко сами не знали, чего они хотят, и часто, добившись удовлетворения своих требований, придумывали новый предлог для отказа от работы.
– Да объясните же, наконец, толком, чего вы хотите! – возмущенно спрашивали их заведующие работами.
Но рабочие не могли бы объяснить, чего им недоставало. А недоставало им все того же солнца, и неба, и безбрежного простора.
Дни шли за днями, а тоска и упадок энергии все сильнее давали себя чувствовать. Производительность падала, и соответственно с этим росли цены. Ввоз в Париж сокращался с каждым днем, и этот баловень Франции, спокон веков привыкший жить на счет провинции, стал ощущать пустоту в желудке. Бретань почти совсем перестала посылать ему свои молочные изделия, Нормандия – свои фрукты, Пикардия – свой скот, Савойя – свой виноград, Шампань – свои вина: они и сами переживали тяжелый хозяйственный кризис, и им было не до того, чтобы кормить Париж.
Вместе с дороговизной росло и недовольство. Крайние революционные партии поднимали голову. Анархисты открыто вели энергичную пропаганду, исподволь подрывая и без того не особенно прочный существующий порядок. Они бросали в толпу сотни пламенных призывов к беспощадной борьбе против государства и проповедовали утверждение на развалинах его свободных братских общин, в которых каждый был бы сам себе господином и навсегда стряхнул бы путы, которыми сковывало его современное общество.
Недовольство перебрасывалось и в провинцию. Во всех углах Франции слышался глухой ропот. Сотни агитаторов разъезжали из конца в конец страны, произнося громовые речи, которые тем легче находили отклик в массе, что положение с каждым днем ухудшалось. Провинция, давно уже будировавшая против столицы, как бы спешила использовать благоприятный момент для решительной борьбы с ее тиранией.
Приказы центрального правительства часто оставались без исполнения. Местная печать усваивала все более воинственный тон. «Подземный Лион» печатал боевые статьи, в которых призывал к насильственному свержению правительства. «Тем хуже для Парижа, – писал он, – если он будет цепляться за эту шайку глупцов и подлецов, которая проявила полную неспособность стать, в такой тяжелый момент, выше своих узкокорыстных интересов. Лион и, надеемся, вся страна, не пойдут в этом случае за Парижем, и он останется одиноким, изолированным. А что такое Париж без Франции? Ничто. Надутое ничтожество, вообразившее, что оно призвано вершить судьбы всей страны и чуть ли не всего мира. Жалкий паразит, который станете корчиться от голода, как только мы вздумаем отказать ему в дальнейших подачках».
Пресса Марселя, Тулузы, Бордо, Лилля, Страсбурга, Ренна, Бреста, Руана и десятка других городов не отставала от лионской и изо в день вела ожесточенную кампанию против Парижа и правительства.
Более благоразумная часть населения понимала, что эти сепаратистские тенденции, чрезвычайно обострившиеся на почве всеобщего недовольства, крайне опасны. Но провинция была так взбудоражена, враждебное отношение к правительству было так сильно, что очень немногие находили в себе мужество идти против течения. Когда марсельская газета «Подземный мир» выступила в защиту правительства и стала призывать к дружной работе на благо всей Франции и к прекращению раздоров, – она чуть не подверглась разгрому толпы и скоро вынуждена была прекратить существование за неимением читателей.
XII
Правительство, разумеется, прекрасно понимало всю серьезность положения.
Стефен, еще более осунувшийся и исхудавший, неутомимо бросал страстные призывы к благоразумию. Совершенно не думая о своей личной безопасности, он то и дело появлялся среди толпы, умолял, убеждал, доказывал.
Однажды он, никем не сопровождаемый, неожиданно появился на митинге, организованном союзом местных анархистов. Когда он вошел в переполненный толпой зал, стоявшие у дверей узнали его, и среди них произошло движение. Раздались возгласы:
– Президент! Президент Стефен здесь!
Толпа заволновалась. Стоявшие дальше от входа поднимались на цыпочки и вытягивали шеи, чтобы увидеть президента. Находившийся в это время на трибуне оратор, как человек, хорошо изучивший психологию толпы, понимал, что неожиданное появление здесь Стефена, всегда пользовавшегося большой популярностью, может свести на нет весь эффект его речи. Привычным жестом призвав толпу к вниманию, он воскликнул:
– Граждане! У нас тут появился новый слушатель: глава правительства, президент Стефен, собственной персоной! Я не сомневаюсь, что с целью обезопасить свою особу от возможных не совсем приятных сюрпризов, он позаботился окружить себя целой сворой переодетых шпионов.
– Это неправда! – послышались возмущенные возгласы. – Президент Стефен далеко на трус! Он это неоднократно доказывал.
– Может быть, вы и правы, – продолжал с кислой улыбкой оратор. – Не это важно. Важно то, что глава правительства здесь, на скамье подсудимых, перед судом народной совести…
– Если я подсудимый, – громким, спокойным голосом перебил оратора Стефен, – то я вправе требовать, чтобы меня выслушали.
– Просим! Просим! – послышались крики. – Дать ему слово! На трибуну!
При общем напряженном ожидании, Стефен, пройдя через расступавшуюся перед ним толпу, поднялся на трибуну. Тысячи глаз были жадно устремлены на его высокую, несколько согнувшуюся фигуру.
– Граждане! – заговорил он. – Я пришел сюда, чтобы вместе с вами обсудить положение. Мы переживаем тяжелые дни. Продовольственный кризис с каждым днем все сильнее дает себя чувствовать. Производство в упадке. Почему? Кто в этом виноват? Тут сыплются обвинения против правительства, но в чем его вина? Не может же оно на собственных плечах привозить недостающие нам продукты из провинции. Не может же оно собственными силами пустить в ход парализованные беспрерывными забастовками фабрики и заводы. Нет, граждане, напрасно взваливают на нас всю ответственность за создавшееся положение. Люди просто изнервничались, тоскуют по солнцу, по прежней жизни, опускают руки, – вот где корень зла. Дело тут не в злой воле правительства: оно неоднократно доказывало свою полную готовность идти навстречу желаниям народа; оно не остановилось перед почти полной конфискацией крупных капиталов и национализацией частных предприятий. Недаром его так ненавидить «Союз друзей порядка».
– Это верно! – раздались крики. – Этих господ здорово пощипали!
– Правительство готово на проведение в жизнь самых широких, самых радикальных реформ, – продолжал Сте-фен.
– Прежде всего, оно должно упразднить само себя! – послышался голос.
– Мы и на это согласны, – спокойно ответил Стефен. – Поверьте, что наш путь тоже не усыпан розами, и мы охотно уступим место другим. Но, граждане, власть нужна, необходима, особенно в такой тяжелый момент. И она должна опираться на волю народа, на его доверие. Если мы убедимся, что народ нам не доверяет, мы минуты больше не останемся у власти. Даю вам в этом честное слово от своего имени и от имени моих коллег. Больше скажу: мы с радостью уйдем, ибо тяжело вечно быть на скамье подсудимых и служить козлом отпущения за все неудачи. Мы получаем массу угрожающих писем, нас обливают грязью, называют ворами…
– Быть может, не совсем без основания? – послышался из задних рядов насмешливый голос.
По залу пробежал ропот негодования. Толпа, казалось, готова была растерзать того, кто это крикнул.
– Это подлость! – раздавались возмущенные возгласы.
– Наш президент не заслужил такого оскорбления! Вон отсюда!
– Успокойтесь, друзья мои! – снова заговорил Стефен.
– Если б я вздумал портить себе кровь из-за таких мелочей, меня бы давно уже и на свете не было, а если б я собрал все бросаемые в меня, часто из-за угла, камни, я мог бы выстроить себе роскошный палаццо.
Раздался смех. Симпатии слушателей все больше склонялись на сторону Стефена.
– Но будем говорить серьезно, – продолжал он. – Итак, мы готовы уйти, и я первый. Одного только я боюсь: анархии и неизбежно связанной с ней братоубийственной гражданской войны. В Париже, да и во всей Франции, есть немало людей, которые только и ждут случая половить рыбку в мутной воде. Им-то и нужна анархия, и они сознательно толкают к ней народ.
Оратор выпил глоток воды и, повысив голос, воскликнул:
– Граждане! Анархия, гражданская война, страшны на земле, но неизмеримо страшнее они под землей. У меня кровь стынет в жилах при мысли о возможных последствиях кровавой междоусобицы в этих подземельях. Несмотря на все техническое совершенство наших новых подземных обителей, это все же кротовые норы, и мы в них не больше чем кроты, слепые, лишенные солнечного света кроты. Граждане, если мы не хотим собственной гибели, гибели нашей культуры, будем всеми силами защищать внутренний мир и порядок! Потоки братской крови не улучшат нашего положения и только сделают нас в тысячу раз беднее и несчастнее. Там, где ничего нет, и революция теряет свои права. Я знаю, что существующий у нас порядок очень далек от идеала, что весь наш социальный строй нуждается в радикальном ремонте, и я, от имени правительства, призываю вас к дружной работе в этом направлении. То, чего мы не доделаем здесь, мы довершим там, на земле, куда, я твердо верю, мы рано или поздно все же выберемся. А пока что, пусть нашим лозунгом будет: «Долой анархию! Долой гражданскую войну!»
Раздались бурные аплодисменты, в которые резкой ноткой врезывался время от времени свист и крики: «Долой правительство! Да здравствует революция!»
Когда оратор, который полчаса тому назад вынужден был уступить место Стефену, снова взошел на трибуну и пытался разбить впечатление от его речи, толпа не хотела его слушать.
Часто после этого Стефен запросто появлялся на митингах, брал слово, говорил, убеждал, предостерегал против опасностей гражданской войны. Но положение ухудшалось, продовольственный кризис с каждым днем обострялся, и недовольство росло. Толпа проявляла все большую нервозность и все холоднее встречала на собраниях ораторов, призывавших к благоразумно. На одном митинге Сте-фена встретили громким свистом и криками: «Долой! Мы заранее знаем, что вы можете нам сказать! Наслушались!» По его адресу сыпались угрозы, оскорбления, и он вынужден был, с тяжелым сердцем, покинуть собрание.
– Господин президент! – сказал ему один последовавший за ним рабочий. – Если вы мне позволите дать вам совет…
– Пожалуйста, мой друг. В чем дело?
– Не ходите больше на собрания. К вам относятся с глубоким уважением, но у вас немало врагов, для которых ваша популярность, как кость в горле…
– Меня могут убить?
– Ни за что нельзя ручаться, господин президент!
– Ну, так что ж? Если безумцы восторжествуют и начнется гражданская война, я предпочитаю умереть, чем быть свидетелем ее ужасов.
И он продолжал появляться, безоружный, без всякой охраны, на самых бурных собраниях, как бы бросая вызов разбушевавшейся стихии.
Недавно открывшийся, после долгого перерыва, парламент бурно реагировал на происходившее в стране. Крайние правые, большей частью принадлежавшие к союзу «Друзей порядка», изо дня в день обрушивались с ожесточенными нападками на правительство. Особенно неистовствовал «стальной король», толстяк Прюно, который не мог простить Стефену оказанного ему, несколько месяцев тому назад, сурового приема.
– Франции теперь нужны люди железной энергии! – кричал он, весь багровея от напряжения, так что его короткая апоплексическая шея, бычачий затылок и лысина сливались в сплошной пузырь, налитый кровью. – Нам нужны люди, которые могли бы провести нас через выпавшие на нашу долю тяжкие испытания…
– А главное, которые не посягали бы на ваши капиталы! – бросил оратору один из депутатов, вызвав этим взрыв смеха на большинстве скамей.
Ходили слухи, что «стальной король» и его единомышленники из союза «Друзей порядка» субсидируют целый ряд анархистских листков и, вообще, не жалеют средств для того, чтобы восстановить народ против правительства.
– Вы ведете опасную игру! – предостерегали их и в парламенте и со столбцов печати. – Если вам удастся вызвать революцию, вы первые же падете ее жертвами.
Но они не унимались и продолжали, в тесном союзе с выплывшими откуда-то темными личностями, подкапываться под правительство.
XIII
В воскресенье, 15 марта, Париж с раннего утра был взбудоражен приходившими из разных концов Франции телеграфными известиями о вспыхивавших там восстаниях.
На улицах толпились тысячи людей, оживленно комментируя то и дело приходящие телеграммы. Особенно велико было скопление народа перед редакциями «Подземного Парижа», «Новой эры» и некоторых друтих крупных газет, которые огромными буквами воспроизводили в своих витринах последние известия из провинции. Тысячи глаз жадно следили за появлением новых телеграмм и тысячи голосов читали их вслух по мере их появления.
– В Лионе власть перешла в руки революционеров. Высшие чины администрации и члены муниципалитета частью перебиты или арестованы, частью бежали.
– В Марселе всю ночь шла баррикадная борьба. К утру инсургенты захватили Городскую ратушу, на которой теперь развевается красное знамя.
– В Лилле гарнизон перешел на сторону народа. Революционеры восторжествовали почти без кровопролития.
– На улицах Гавра кипит бой между войсками и инсургентами. Вооруженная толпа овладела общественными складами и подожгла здание префектуры.
– Телеграфное и телефонное сообщение с Бордо прервано. По рассказам бежавших оттуда жителей, положение там крайне серьезно. Возможно, что в настоящий момент город уже в руках восставших.
Около полудня в Париже появились десятки тысяч листков с призывом в свержению правительства и захвату власти. Их наклеивали на стенах домов и столбах, раздавали на улицах и перекрестках, бросали с аэромоторов. Точно буревестники, носились белые листки в воздухе, и было что-то зловещее в том, как они медленно и бесшумно падали на город.
Час спустя Париж задрожал от оглушительного взрыва: во дворец правительственных учреждений, с пролетавшего над ним аэромотора, невидимыми и неведомыми руками брошена была начиненная разрывными газами бомба. Она разворотила всю правую часть дворца и обратила в кровавую кашу несколько десятков находившихся здесь человек, большей частью мелких служащих и случайных посетителей. Перед дворцом образовалась глубокая воронка.
Сила взрыва была так велика, что более или менее серьезно пострадали почти все дома на площади Согласия, а несколько вагонов проходившего в этот момент поблизости городского жироскопа были сброшены с рельс и, точно лошади с перебитыми ногами, беспомощно лежали на земле. Радиусом на добрых полкилометра вокруг во всех домах были выбиты стекла.
Это была первая рана, которую нанесла Парижу начинавшаяся гражданская война. Первая кровь была пролита. За ней просились наружу потоки новой горячей крови, как если бы ей было тесно в жилах и она рвалась на простор.
Взрывы следовали один за другим. Они гремели как удары набата, возвещавшего начало революционного пожара. Зловещими раскатами проносились они над городом, ударяя тысячами молотов по нервам и возбуждая острую, смертельную тревогу. Одни, гонимые страхом, бежали домой, под защиту крепких стен и железных затворов; другие, наоборот, бросались к центральным кварталам города, над которыми уже реял в облаках огня и дыма злорадно торжествующей ангел смерти. Улицы и площади с каждой минутой все больше заливались лавой человеческой, которую как бы выбрасывал какой-то гигантский вулкан, разверзшийся от взрыва.
Фабрики и заводы, словно по данному сигналу, стали, и рабочие возбужденными группами бежали к центру.
– Началось! – слышались то торжествующие, то придушенные страхом голоса.
Там и сям попадались отряды солдат и полицейских, преграждавшие толпе дорогу. Волны человеческого потока бились, как морской прибой о скалы, об эти живые преграды, отскакивали назад, обтекали соседние улицы и все же настойчиво пробивали себе путь вперед.
Около двух часов пополудни Париж был объявлен на осадном положении. В наскоро расклеенном по городу воззвании правительство грозило нарушителям порядка беспощадными репрессиями. Слова воззвания были жесткими и режущими как сталь; чудилось, что за ними таится кровь, которая вот-вот выступит наружу и зальет мостовую.
Немедленно все подступы к центру города были заняты войсками, которые энергично оттесняли толпу к периферии. Вначале и солдаты и толпа сохраняли относительное хладнокровие; но уже гневным блеском сверкали глаза, сурово хмурились брови и сжимались губы; в людях просыпался зверь; жестокий, жаждущий крови, он выпускал когти и готов был каждую минуту сорваться с цепи. Он только выжидал подходящего момента.
И момент этот наступил.
Под бетонными сводами, прямо над площадью Согласия, на которой были сосредоточены главные военные силы, появился аэромотор. Он медленно и плавно описал несколько кругов, точно облюбовывая позиции, потом на секунду неподвижно застыл в воздухе – и один за другим, почти без перерыва, раздались три оглушительных взрыва: то были бомбы, сброшенные с аэромотора в самую гущу солдат.
С минуту ничего нельзя было разобрать за облаками дыма. Когда дым немного рассеялся, можно было увидеть десятки изуродованных трупов и корчащихся на мостовых раненых, оторванные головы, руки, ноги, окровавленные лохмотья. Уцелевшие солдаты в панике бросились было бежать, и площадь местами опустела; но несколько минут спустя они вернулись. Сотни ружей угрожающе поднялись к сводам; раздался сухой треск ударявшихся в них пуль; но аэромотора уже и след простыл.
Воспользовавшись смятением солдат, толпа в несколько тысяч человек прорвалась через разомкнувшуюся на минуту цепь и залила площадь. На нее-то и обрушился гнев солдат. Не дожидаясь команды офицеров, многие из них открыли по ней почти в упор частую стрельбу. Послышались стоны, проклятья. Толпа снова отхлынула, оставив на мостовой новые трупы и новых раненых; некоторые из раненых пытались подняться на ноги или же уползти подальше от рокового, очерченного огнем круга, но большей частью тотчас же снова падали. Объятые паникой люди спешили укрыться в ближайшие дома и дворы, у которых происходила бешеная давка.
Комитет обороны, пополненный префектом полиции и начальником национальной гвардии, собравшись во дворце Стефена, заседал беспрерывно, с самого утра, руководя по телефону действиями военных и полицейских сил. Доходившие до него, по телефону же, сообщения о ходе событий с каждой минутой становились все тревожнее.
Часа в три пополудни пришла весть, что в разных концах Парижа, преимущественно на площадях Республики, Бастилии, на улице св. Антония и на Монмартре, толпа стала строить баррикады, сваливая для этой цели вагоны городского жироскопа, грузовые телеги, нагромождая доски, телеграфные столбы, вывороченные из мостовой брикеты и все, что попадало под руку.
– Разрушить эти баррикады во что бы то ни стало! – отдал приказание, от имени Комитета обороны, полицейский префект.
Полчаса спустя большинство баррикад были разметаны с помощью легкой артиллерии, причем погибли сотни их защитников. Инсургенты отступили. Но очень скоро над городом появилось около десятка аэромоторов, которые стали осыпать войска и полицию бомбами. Взрывы следовали за взрывами, производя страшные опустошения в рядах солдат и полицейских. Часть бомб попадала на соседние дома, нанося им глубокие, доходившие до самого фундамента раны. Некоторые дома при этом загорались, и к ужасам взрывов, к стонам и крикам толпы прибавился треск пламени.
– Пустить в ход воздушную эскадру! – приказал по телефону Комитет обороны.
Тотчас же со дворов полицейской префектуры и казармы Национальной гвардии поднялись вверх двадцать приспособленных для боевых целей блиндированных аэромоторов.
Борьба снизу перенесена была вверх, под бетонные своды.
– Спасайтесь! Подальше отсюда! – слышались крики в заметавшейся в ужасе толпе.
Люди стали шарахаться во все стороны, бежали изо всех сил, задыхались, давили друг друга. Со смертельным страхом в ничего не видящих глазах, они мчались вперед, думая только о том, чтобы возможно скорей выбраться из этого рокового круга, над которым витала смерть. Но круг был слишком велик, обнимал собой весь подземный Париж, и не было в нем уголка, где люди могли бы чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности.
Тысячи беглецов, достигнув окраины города, мчались дальше, по направлению к Иври, Кламару, Сен-Дени. Другие прятались в погреба и подвальные помещения.
В каких-нибудь четверть часа улицы и площади почти совершенно опустели; только там и сям на мостовой валялись убитые и раненые. Париж вдруг стал безлюдным, мертвым городом, который оглашался только треском пожаров.
Между тем, наверху десятки аэромоторов готовились к решительной схватке. В течение нескольких минут они, как бы по взаимному соглашению, медлили с открытием военных действий. Потом, гулкими раскатами отдавшись под сводами, прогремел выстрел. Около одного из аэромоторов вспыхнуло белое облачко, которое, постепенно расплываясь, долго держалось в воздухе. Аэромотор, принадлежавший инсургентам, загорелся, описал, как раненая птица, несколько судорожных, неправильных кругов и камнем полетел вниз. Находившиеся на нем бомбы взрывались одна за другой, и когда он всей своей тяжестью грохнулся на мостовую, он представлял уже сплошной пылающий костер.
Бой разгорался. Минуту спустя, инсургентам удалось обить аэромотор с национальными гвардейцами. Он упал на крышу одного дома, в котором тотчас же вспыхнул пожар.
Все чаще и чаще вспыхивали под бетонными сводами белые дымки, все оглушительнее становился треск, и аэромоторы, один за другим, тяжело падали на мостовую и на крыши домов. Один из них упал в канал и долго плавал на поверхности воды, рядом с бесформенными обломками аппарата и обуглившимися трупами летчиков.
Скоро ясно стало, что победа клонится на сторону правительственной воздушной эскадры: в ней оставалось еще больше дюжины аэромоторов, в то время как в распоряжении инсургентов их было уже не больше полудесятка. Продолжать при таких условиях борьбу было бы явным безумием, и инсургенты стали сдаваться. Один за другим их аэромоторы выбрасывали белый флаг. Конвоируемые неприятельской воздушной эскадрой, они спустились на пустынную теперь площадь Согласия; находившиеся на них летчики были обезоружены и под сильным конвоем отведены в тюрьму.
– Ненадолго! – уверенным, вызывающе насмешливым тоном сказал своим конвоирам один из главных организаторов восстания, механик Альберт Грамон, когда его вели в тюрьму.