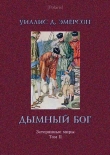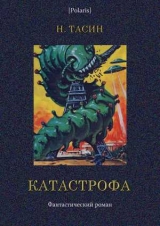
Текст книги "Катастрофа. Том II"
Автор книги: Н. Тасин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
XIV
Грамон не ошибся.
Едва кончился воздушный бой, Комитет обороны получил донесение, что значительная толпа инсургентов, воспользовавшись общим смятением и почти совершенным отсутствием охраны правительственных зданий, захватила находившийся на площади Республики арсенал.
– Необходимо во что бы то ни стало выбить из него инсургентов! – взволнованно кричал в телефон префект полиции.
– Невозможно! – ответил говоривший с ним комендант Парижа. – Толпа успела прекрасно вооружиться и имеет в своем распоряжении пять сильных электрических батарей, которыми можно уничтожить полгорода. Если Комитет обороны настаивает, я поведу войска в наступление, но предупреждаю, что потери с обеих сторон будут огромные и, вернее всего, бесполезные.
Стефен нервно бегал по комнате, то и дело хватаясь в отчаянии за голову.
– Это ужасно, ужасно! – кричал он. – Эти безумцы погубят Париж, погубят всю Францию! Их необходимо укротить, хотя бы ценой страшного кровопролития. Ради Бога, пустите в ход все наличные силы! Нас может спасти только твердость…
Скоро на площади Республики завязался жестокий бой между завладевшими арсеналом инсургентами и правительственными войсками. Электрические волны огромной силы производили страшные опустошения в рядах обоих враждующих лагерей, поражая насмерть тысячи людей. Силы инсургентов пополнялись подкреплениями, беспрерывно подходившими с площади Бастилии и с улицы св. Антония.
Через полчаса бой кипел почти на всех главных артериях Парижа.
Один из пущенных инсургентами снарядов попал во дворец Стефена, и над его полуразрушенной крышей показались длинные языки пламени.
– Эти негодяи нас тут живьем сожгут! – воскликнул Гаррисон. – Надо перейти в другое место.
Комитет обороны перешел в один из частных домов на соседней к площади Согласия улице.
В воздухе, совсем низко, над самыми крышами, стояла густая пелена дыма, и дышать становилось все труднее. Треск пламени и рушащихся зданий заглушал шум борьбы, стоны раненых и вопли охваченных паникой людей, которые в поисках безопасного уголка метались из дома в дом, из улицы в улицу, из квартала в квартал.
Получаемые Комитетом обороны сообщения с каждой минутой становились тревожнее, и члены его все больше впадали в отчаяние. Стефен походил на капитана корабля, который, стоя со своими офицерами на капитанском мостике, ясно видит, что корабль осужден на гибель и что спасти его нельзя. Он то и дело подбегал к телефону, брал трубку, но через минуту снова нервно бросал ее, как если б она обдавала его огнем.
Пожары учащались. По счастью, бетон и железо, из которых были построены дома, представляли плохой горючий материал; пожрав все деревянные части и обстановку квартир, огонь, как голодный зверь, жадно лизал длинными красными языками стены, но те не поддавались, и он, бессильно корчась, умирал. Через каких-нибудь полчаса загоравшиеся дома только дымили, словно гигантские, недавно потухшие костры.
Среди этих дымящихся пепелищ все ожесточеннее становилась борьба между правительственными войсками и инсургентами. Оттесненные было к окраинам, инсургенты снова скоро прорвались к центру, захватывали дома, укреплялись в них, убийственным огнем осыпали неприятеля, потом занимали новые дома, и так, шаг за шагом, пробивались все дальше.
Около пяти часов пополудни они заняли площадь Согласия, этот центральный узел подземного Парижа, где находилось большинство правительственных учреждений. Членам заседавшего поблизости Комитета обороны грозила опасность быть перебитыми или попасть в руки неприятеля.
– Надо бежать из Парижа! – кричал префект полиции.
– Куда? – спросил Гаррисон.
– В Версаль, Сен-Клу, Жовизи, куда угодно! Оставаться здесь было бы безумием.
– Значит, все потеряно? – с отчаянием в голосе крикнул Стефен.
– Да, это лавина, которая все затопит. Во всяком случае, здесь мы ничего не сможем сделать и только сами зря погибнем.
Но бежать было не так-то легко: все средства сообщения были парализованы, пути разрушены, рельсы выворочены.
– Необходимо достать аэромотор! – сказал Гаррисон. – И не один, а по меньшей мере два!
– Это легче сказать, чем сделать! – ответил префект. – Вся почти воздушная эскадра, наверное, уже в руках восставших.
– Надо попытаться. Если Комитет против этого ничего не имеет, я отправлюсь на поиски, – заявил Гаррисон.
– Вас убьют, как только вы покажетесь на улице!
– Бог милостив, авось, уцелею! – спокойно ответил Гаррисон.
Он ушел и четверть часа спустя прилетел на аэромоторе. Вслед за ним у самого дома опустился другой аэромотор, у волана которого сидел один из ближайших помощников Гаррисона, инженер Гарнье.
Но в ту минуту, когда члены Комитета обороны собирались уже сесть на аэромотор, город вдруг, без всякого перехода, погрузился в кромешную тьму: каким-то неизвестно с какой стороны пущенным снарядом вдребезги разбило искусственное солнце.
Крик ужаса вырвался из тысяч грудей. Пока было светло, смерть, которая носилась в воздухе, казалась не такой страшной. Была возможность бежать от нее, искать спасения, прятаться. Это был враг видимый, с которым можно было бороться. Но теперь, когда город вдруг захлестнуло потоками черной, непроницаемой тьмы, чудилось, что смерть таится везде и всюду, на каждом шагу, впереди, сзади, коварная, торжествующая, злорадная.
– Электричество! Пусть зажгут электричество! – раздавались со всех сторон полные отчаяния крики.
Но электрическая станция была разрушена снарядами, и город продолжал тонуть в кромешной тьме. Только там и сям, над загоревшимися домами, подымались не успевшие еще потухнуть языки пламени, которые бросали вокруг бледные, дрожащие отсветы. Они освещали зловещим заревом только небольшое пространство, и обступавшая их со всех сторон тьма казалась еще непроницаемее. Люди зажигали карманные электрические фонарики, нащупывая себе с их помощью дорогу. Тысячи огоньков, таких слабых и беспомощных в борьбе с окружающей тьмой, то вспыхивали, то потухали на улицах, площадях и в окнах домов.
– Необходимо во что бы то ни стало исправить электрическую станцию, иначе все погибло! – воскликнул Гаррисон.
И, освещая себе путь своим карманным фонариком, он побежал наверх к телефону.
– Алло! Электрическую станцию! Скорей, ради Бога! Говорит Гаррисон, Кресби Гаррисон… Что? Ничего не видно? Зажгите фонарик…. Дело идет о спасении Парижа!
Только уж минут через десять, в течение которых Гаррисон с ума сходил от нетерпения, ему удалось соединиться с электрической станцией.
– Алло! Кто у телефона? Старший механик? А где директор? Что? Убит? И инженер Каро тоже?.. Да, да… Ну, слушайте: необходимо во что бы то ни стало исправить станцию… Что? Невозможно? Вздор, надо напрячь все силы! Я требую этого от имени Комитета обороны… Что? В живых осталось только три человека? Тащите первых попавшихся… с револьвером в руках… Я тоже сейчас явлюсь…
Гаррисон бросил телефонную трубку и побежал вниз.
– Кто идет со мной исправлять электрическую станцию? – крикнул он, выбежав на улицу и высоко поднимая над головой свой электрический фонарик.
– Я! Я! Я! И я тоже! – послышались из темноты голоса.
К желающим присоединились почти все члены Комитета обороны. По настоянию Гаррисона, Стефен, министр внутренних дел и префект полиции остались на всякий случай у телефона.
Электрическая станция находилась метрах в трехстах, на улице Риволи. Добровольцы, которых набралось до двух десятков человек, все с зажженными фонариками в руках, медленно, осторожно нащупывая дорогу, шли за Гаррисоном. Эта группа людей, среди которых блуждающими огоньками мелькали фонарики, казалась мистической религиозной сектой, совершающей во тьме ночной какие-то таинства.
Небольшой отряд Гаррисона, то и дело натыкаясь на тела убитых и обломки зданий, добрался до площади Согласия и собирался уже повернуть на улицу Риволи, как вдруг, совсем низко, что-то зашипело и длинной огненной молнией прорезало воздух; почти в то же мгновение раздался оглушительный треск.
– Снаряд! – крикнул кто-то.
Люди инстинктивно сбились в тесную кучу.
За первым снарядом последовал второй, потом третий, четвертый, пятый. Откуда-то поблизости доносился треск разрушаемых зданий, а когда треск прекратился, явственно слышались стоны раненых.
Один Гаррисон не потерял присутствия духа.
– Вперед! – кричал он. – Необходимо возможно скорей осветить город, иначе он станет для всех нас могилой!
Некоторые в страхе укрылись под воротами ближайших домов, но большинство последовало за Гаррисоном.
На улице Риволи отряд, сильно растаявший, наткнулся на группу людей, которые возились у дверей соседнего дома. Гаррисон направил на них свой фонарик и стал всматриваться. Те немного попятились.
– Что за люди? Что вы тут делаете? – крикнул он.
– А сам ты кто такой, что так командуешь? – спросил один из группы, направляя на Гаррисона свой фонарик. – Э, да это господин Гаррисон собственной персоной! Тот самый, который загнал нас в эту чертову дыру!
Гаррисон, между тем, при свете своего фонарика, присмотрелся к компании. У всех были в руках какие-то узлы; некоторые держали кучу платья. Ясно было, что это грабители, вышедшие, под покровом темноты, на добычу.
– Вы что это? Грабежом вздумали заниматься? – строго спросил Гаррисон.
– А хотя бы и так! – вызывающе ответил тот же голос. – У тебя, что ли, позволения спрашивать?
– Негодяи! – крикнул Гаррисон. – Кругом такой ужас, а вы…
Он не успел кончить. В руках предводителя шайки блеснул револьвер. Но Гаррисон предупредил его: выхватив из кармана свой револьвер, он выстрелил, и тот со стоном упал на землю.
Раздались, один за другим, еще несколько выстрелов. Началась свалка.
Несколько минуть спустя, Гаррисон очнулся на земле, чувствуя острую боль в левом плече. Он поднес к нему руку и ощутил кровь. Несмотря на потерю крови, он чувствовал в себе достаточно сил, чтоб подняться на ноги. Нажав пружину своего фонарика, он при свете его разглядел на земле несколько убитых и раненых, которые глухо стонали.
– Есть тут кто живой? – крикнул он.
Отозвались несколько человек. Гаррисон узнал по голосу главного заведующего общественными работами Мореля и двух-трех других добровольцев.
– Что с вами? Вы ранены? – спрашивали Гаррисона.
– Пустяки! – отвечал он. – Вероятно, пуля задела плечо. Идем. Мы и без того потеряли много времени с этими негодяями. Наш отряд, по-видимому, сильно растаял?
– Осталось шесть человек.
– Этого достаточно. Только, ради Бога, скорей! В Париже немало людей без совести и чести. Они разграбят весь город. Потом, когда нам удастся осветить его, мы с ними расправимся.
Он наскоро оторвал рукав своей рубашки, обвязал им рану и решительно двинулся вперед.
Маленький отряд все чаще натыкался на группы грабителей, которые при свете карманных фонариков взламывали двери и пробирались в дома. Но ему было не до них.
– Скорей! Ради Бога, скорей! – нетерпеливо торопил Гаррисон.
XV
Целых двадцать часов подземный Париж был окутан черной, непроглядной тьмой. Миллионы сердец сжимались смертной тоской, как если бы над ними, живыми, вдруг захлопнулась крышка гроба.
И все эти долгие часы, каждый из которых казался вечностью, шли грабежи.
Грабительские шайки, в которых преобладали преступники, бежавшие из разрушенных или покинутых стражей тюрем, врывались в дома и забирали все, что могли. Если им оказывали сопротивление, они пускали в ход ножи, револьверы; но это случалось редко. Большей частью жильцы, тесной кучей забившись куда-нибудь в угол, оцепенев от страха, предоставляли грабителям полную свободу действий. Самыми ужасными были минуты, когда грабители направляли на забившихся в угол людей свет своих электрических фонариков, чтобы рассмотреть их лица. Несчастные ежились, закрывали руками глаза, втягивали головы в плечи, как если бы этот узкий сноп направляемого на них света нес с собою тысячу смертей. Дети захлебывались от плача, но у взрослых большей частью не хватало голоса, и только время от времени из груди их вырывался глухой, подавленный стон.
К переживаемым ужасам прибавлялась полная неизвестность относительно происходившего в городе. Люди не знали, почему он вдруг погрузился в кромешную тьму, что делается на улице или хотя бы в соседних домах. Придушенным шепотом высказывались самые фантастические предположения, продиктованные страхом. Время от времени доносился треск обрушивавшихся поблизости домов, и это наводило на мысль о зоотаврах: уж не пробрались ли они сюда, в подземный Париж?
А когда треск прекращался и наступала тишина, она еще сильнее заставляла сердца сжиматься от страха. Широко раскрытыми глазами смотрели люди в окружающую темноту и прислушивались к мертвой тишине, в которой чудилось что-то коварное, предостерегающее.
Мучительно долго тянулись минуты и часы, наполненные нечеловеческой мукой. Многие поседели за эти роковые часы, другие сошли с ума; некоторые, особенно среди стариков и женщин, умерли от разрыва сердца.
Только лишь на следующий день, около полудня, электрическая станция была исправлена, и в разных концах города вспыхнули электрические фонари и лампы.
Крик радости вырвался из тысяч грудей, как если бы над заживо погребенными людьми поднялась вдруг крышка гроба, и они увидели свет солнца.
Грабители, застигнутые этим неожиданным светом врасплох, бросились врассыпную, теряя по пути часть награбленных вещей. На недавно еще безлюдных улицах и площадях стали появляться военные и полицейские патрули. Раскрывались окна и двери, и тысячи людей, толкаемых острым любопытством, выбегали на улицу, чтобы узнать, что произошло в эту долгую, страшную ночь.
И не успели еще глаза, привыкшие в эту ночь к темноте, освоиться со светом, как снова началась борьба на жизнь и смерть между двумя враждующими лагерями. Инсургенты спешно мобилизовали силы на площади Республики, в предместье св. Антония, на Бастильской площади и в прилегающих улицах. Войска стали занимать ближайшую к площади Согласия часть города.
Несколько минут спустя с обеих сторон открыт был огонь. На смену полной ужасов ночи пришел угрожающий тысячью смертей день.
Гаррисон с товарищами вышел из исправленной электрической станции и направлялся через площадь Согласия к тому дому, где находился Комитет обороны. Он был бледен от потери крови, от бессонной ночи и тяжелой, почти беспрерывной многочасовой работы. Лицо его было испачкано машинным маслом, одежда изорвана и висела клочьями. Он стал совершенно неузнаваем, и даже те, которые хорошо знали его в лицо, с первого взгляда принимали его за какого-нибудь оборванца.
Не лучше выглядели и его товарищи.
Снаряды все чаще и чаще прорезывали воздух, шипя, как брошенное в воду раскаленное железо. Вокруг того места, куда они падали, долго дрожали дома, со звоном разбивались стекла и падали листья с деревьев.
– Они не унимаются, эти безумцы! – говорил Гаррисон. – Мало им пережитых уже ужасов!
Каждый раз, как вверху раздавалось шипение снаряда, он и его спутники поднимали головы вверх и следили за направлением его полета. Иногда, когда снаряд грозил упасть поблизости, они перебегали с одной стороны улицы на другую или же бросались в соседние улицы.
Вдруг, когда они были уже в нескольких десятках шагов от того дома, где находился Комитет обороны, на противоположной стороне улицы с оглушительным треском разорвался снаряд. С минуту ничего не было видно за густым облаком дыма, осколков камня и стекла. Когда облако рассеялось, на мостовой, в лужах крови, валялись несколько человек.
Среди них был и Гаррисон. Он был смертельно ранен в голову и правый бок.
Весть об этом с быстротой молнии облетела квартал, а потом и весь город.
– Гаррисон убит! Гаррисон убит! – тревожным шепотом переходило из уста в уста.
Люди со всех сторон сбегались к месту катастрофы.
Прибежал и Стефен. Он бросился к своему другу, наклонился над ним и, с трудом сдерживая подступавшие к горлу рыдания, спросил:
– Что с вами, дорогой друг? Вы ранены?
– Я умираю… – едва слышно простонал Гаррисон. – Передайте парижанам… что я…
Силы изменили ему, и голос оборвался. Он попытался было подняться на локте, но не мог; заметив это, Стефен приподнял его голову.
– Что вы хотели бы передать парижанам? – спросил он, совсем близко наклоняясь над умирающим.
Но глаза Гаррисона уже затянулись пеленой смерти, и на посиневших губах выступила пена. Он испустил глубокий вздох, – вздох прощания с землей, с жизнью, с людьми, со всем, чем он жил и что было ему дорого.
Стефен бережно опустил его голову, как бы боясь причинить ему боль, закрыл ему глаза, потом встал, снял шляпу и медленно перекрестился.
В течение нескольких минут в городе царила глубокая тишина. Казалось, что подземный Париж хочет почтить религиозным молчанием того, кто был его духовным отцом и одним из главных создателей.
Но в дни тревог и смятенья живые не любят подолгу останавливаться над телами павших. Скоро снова зашипел в воздухе снаряд, неся с собой смерть, разрушение и животный ужас.
XVI.
Только через два дня прекратилась уличная борьба и наступило затишье.
Подземный Париж походил на поле сражения, над которым долго носилась смерть, злорадно торжествующая, опьяненная кровью, пожиная обильную жатву.
С обеих сторон были тысячи убитых и раненых. С улиц, площадей и полуразрушенных домов спешно убирали трупы. Целая армия механиков и простых рабочих спешно восстанавливала то, что было разрушено в слепой ярости гражданской войны.
Инсургенты были разбиты наголову. Часть бежала за пределы Парижа, другие были арестованы и заключены во временные, импровизированные тюрьмы, так как старые были разрушены.
Похороны жертв гражданской войны были обставлены с грустной торжественностью. Печально отдавался под бетонными сводами звон колоколов собора Парижской Богоматери; глубокой тоской волновали сердца медленные звуки похоронного марша; над толпой колыхались обвязанные черными лентами национальные флаги и покачивались катафалки, которые казались черными таинственными ладьями, плывущими в океан вечности.
Впереди всех, точно адмиральский корабль этой черной эскадры, плыл катафалк с останками Гаррисона, украшенный венками и траурными лентами. Со спокойной уверенностью вел за собой Гаррисон толпу покойников в океан вечности, – с той же спокойной уверенностью, с какой он, недавно еще, указывал ей путь в океане жизни.
На кладбище, перед крематорием, Стефен, после прочувствованной речи в честь всех погибших, посвятил несколько слов памяти своего безвременно павшего друга. Толпа слушала его в религиозном молчании, с обнаженными, низко поникшими головами.
– Граждане! – говорил Стефен. – Из всех понесенных нами тяжких утрат, это самая тяжкая, самая скорбная. Мы навеки прощаемся здесь с великим гражданином, отечеством которого был весь мир. Он умер, но дело его не умрет, пока будет биться хотя бы одно сердце человеческое. Он указал нам путь спасения от грозной опасности и заложил первый камень первого подземного города. Его гению и энергии миллионы людей обязаны спасением от верной смерти. Ярким светочем горело это мужественное, благородное сердце. Честь и слава неутомимому борцу за счастье человечества! Да будет запечатлена память о нем навеки, переходя из рода в род, из поколения в поколение. Золотыми буквами вписал он свое имя в великую книгу Истории, и с почетом и уважением будуть произносить это имя даже наши далекие потомки. Да почиет он в мире и да будет ему легка земля, на которой он оставил такие глубокие следы своего творчества. Мы, остающиеся в живых, будем, по мере сил, продолжать его дело. Над прахом его мы поклянемся забыть все, что нас разделяло, и дружно, общими силами, возьмемся за работу по восстановлению выбитой из колеи жизни. Это будет лучшим способом чтить память великого друга человечества Кресби Гаррисона.
Тела погибших были преданы огню, и прах их почил в урнах, а живые взялись за дело.
Люди-муравьи с таким же усердием стали отстраивать свой муравейник, с каким вчера только разрушали его. Тысячами копались они в земле, ремонтировали дома, чинили пути, прокладывали вывороченные рельсы. Париж получил тяжкие раны, и их надо было залечить возможно скорее.
Через несколько дней над городом засияло новое искусственное солнце, такое же исправное, бесстрастное и холодное, как и прежнее. Не радовались ему люди, а, наоборот, бросали на него враждебные взгляды, как бы говоря: «Ты опять тут, постылое!»
Жизнь понемногу налаживалась. Фабрики и заводы пошли полным ходом. Была объявлена беспощадная война праздности. Все способные к работе поставлены были к станкам и машинам. Комитет обороны взял все производство под свой личный контроль; совместно с выборными от рабочих, он устанавливал расценки, регулировал условия труда, следил за правильным распределением прибылей между всеми рабочими и служащими данного предприятия, улаживал возникающие конфликты. Забастовки были запрещены, и те, которые призывали к ним, сурово карались.
– Теперь не время для забастовок! – говорил Стефен, навещая ту или иную мастерскую. – Рабочие являются почти полными хозяевами предприятий, капиталисты оттеснены на задний план и без согласия фабрично-заводских комитетов шагу не могут сделать. При таких условиях забастовки – преступление, и правительство их не потерпит, – по крайней мере, в эти тяжелые дни, когда требуется напряжение всех сил.
Действительно, фабриканты и заводчики были сведены на роль служащих при своих предприятиях. Если тот или иной из них не хотел примириться с новыми порядками, Комитет обороны просто-напросто устранял его и, совместно с фабрично-заводскими комитетами, назначал нового управляющего.
Союз «Друзей порядка» рвал и метал, принимал воинственные резолюции, апеллировал к общественному мнению и с помощью продажной печати вел неустанную кампанию против правительства. В своей ярости господа из Союза дошли до того, что организовали обширный заговор против Комитета обороны, причем первой жертвой был намечен Стефен. По счастью, заговор был своевременно раскрыть, и главные организаторы его, со «стальным королем» Прюно во главе, были арестованы.
Когда Прюно привели в тюрьму, его хватил апоплексический удар, и он к вечеру умер. Союз «Друзей порядка» пытался превратить его похороны в импозантную манифестацию против правительства. «Мы надеемся, – писали субсидируемые им газеты, – что население Парижа явится отдать последний долг человеку, который столько поработал для процветания отечественной промышленности.» Но надежды эти оказались неосновательными: почти никто не явился на похороны, и «стальной король» ушел в вечность, провожаемый только небольшой кучкой соратников.
«Сошел в могилу один из крупнейших и наиболее воинственных представителей капитала, – писал на другой день центральный орган социалистической партии “Подземный рабочий”. – Это один из последних могикан. Капитал вынужден сдавать одну позицию за другой, и недалек день, когда полноправным хозяином жизни станет Труд».
В провинции восстание тоже почти везде было подавлено. Даже те города, в которых восставшим удалось было захватить в свои руки власть, тоже скоро приведены были к покорности. В большинстве случаев дело обходилось без кровавых столкновений, и центральное правительство чаще всего бывало избавлено от посылки в те или иные города войск для восстановления порядка: достаточно было одной угрозы применить силу. Провинция поняла, что Париж, оправившийся от последних потрясений, достаточно силен и что угрозы его не пустой звук.
К тому же, местные восстания почти везде приводили к торжеству подонков общества, совершенно парализовали производство, еще сильнее обостряли продовольственный кризис и вызывали глухое брожение. Обманутый в своих надеждах народ отворачивался от новых властителей, и по старой, долгими годами вкоренившейся привычке, все же обращал взоры к Парижу. Случалось, что та или иная захватившая власть группа вынуждена бывала уступить место какой-нибудь кучке авантюристов, которая несколько дней спустя, в свою очередь, бежала перед новыми претендентами на власть. Росла анархия, шли повальные грабежи, жизнь делалась невыносимой, и население все сильнее тосковало по твердой власти. При таких условиях, появления в городе небольшого отряда правительственных войск бывало достаточно для восстановления нарушенного порядка.
Только Лион и Лилль долго не сдавались.
В Лионе, который одним из первых поднял знамя восстания, засевшие в Городской ратуше инсургенты, преимущественно из анархистов, располагали довольно крупными силами и категорически отказывались выпускать власть из рук. На все требования центрального правительства они отвечали насмешками или угрозами и деятельно готовились к обороне. Город был превращен в военный лагерь; под страхом расстрела было мобилизовано все способное носить оружие население. С целью помешать прибытию войск из столицы, железнодорожная линия близ Лиона была разрушена на десятки километров.
– Мы их возьмем измором! – говорил в Комитете обороны Стефен, который больше всего боялся пролития крови.
И действительно, в Лионе, который оказался отрезанным от всей остальной подземной Франции, очень скоро стал свирепствовать голод. Недовольство росло, и перед Городской ратушей, где заседала Революционная директория, то и дело происходили враждебные манифестации.
– Хлеба! Дайте нам хлеба! – кричали тысячи голодных.
Правительство, которое не в состоянии накормить народ, раньше или позже всегда обречено на гибель; пустые желудки плохо воспринимают революционные лозунги. И когда отправленная из Парижа дивизия пехоты подошла к Лиону, тысячи лионцев вышли ей навстречу, приветствовали радостными возгласами солдат и вместе с ними энергично стали расчищать путь к городу.
Несколько часов спустя директория бежала, и над Городской ратушей водружен был французский национальный флаг, – тот самый ненавистный инсургентам флаг, который развевался на общественных зданиях Парижа и всей почти остальной Францией.
Несколько труднее далась Парижу победа над Лиллем. Захвативший здесь власть Народный совет опирался на десятки тысяч хорошо вооруженных и дисциплинированных рабочих текстильной промышленности. Войска местного гарнизона тоже с самого начала восстания перешли на сторону инсургентов, которые, таким образом, располагали значительной армией.
Целый день шли на улицах Лилля бои между инсургентами и присланными из столицы войсками. Победил, разумеется, Париж.