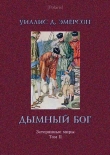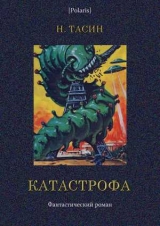
Текст книги "Катастрофа. Том II"
Автор книги: Н. Тасин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
V.
Несмотря на то, что подземный Париж был уже настолько закончен, что мог вместить все население надземного, землекопные работы в нем продолжались. Часть трудовой армии была демобилизована, но около сотни тысяч человек были удержаны на работе: надо было рыть туннели до ближайших населенных мест, прокладывать по ним рельсовые пути, налаживать телеграфное и телефонное сообщение.
Работы велись одновременно в разных направлениях: на Версаль, Фонтенебло, Блуа, Мо, Шартр.
Первый город, до которого докопались парижане, был Версаль.
Это произошло 24 августа около полудня. Рабочие, находившиеся при землекопных машинах, вдруг услыхали какой-то странный шум, который исходил из возвышавшейся перед ними толщи земли. Они жадно стали прислушиваться.
– Там люди! Слышны голоса! – раздались возбужденные, радостные крики.
– Мы докопались до версальцев!
Весть эта с быстротой молнии разнеслась по всему подземному Парижу. Тысячи людей бежали «в Версаль», как говорили в толпе.
– Слыхали? Путь в Версаль свободен! – кричали на бегу парижане.
Трамваи и аэробусы брались с бою. Они были до того переполнены, что многим приходилось пробираться пешком, хотя от центра Парижа до того места, откуда услышан был шум, было добрых пятнадцать километров.
Пока толпа туда добралась, последний слой земли, отделявший парижан от версальцев, уже был прорыт, и они тысячами хлынули в образовавшийся проход. Обе стороны выражали бурную радость, обменивались рукопожатиями и приветственными возгласами. Женщины целовались и плакали от умиления, как если бы близкие им люди вдруг вышли из могил на свет Божий.
Расспросам конца не было.
Версальцы сообщили, что они, с своей стороны, прокопались уже с юга до Шартра и с севера до Бове.
– Ура! – кричали в ответ парижане. – Теперь мы сможем разгуливать под землей по целой провинции.
– Еще через какой-нибудь месяц можно будет ездить, не поднимаясь наверх, в Гавр, Марсель, Нанси, куда угодно.
Вечером, во дворце правительственных учреждений, был устроен торжественный прием представителей версальского населения.
Стефен, радостный, сияющий, горячо жал им руки и обратился к ним с приветственной речью.
– Вы, дорогие друзья, первые иногородние братья наши, которых мы на глубине сотен метров приветствуем в нашей новой подземной обители! – взволнованным голосом говорил он с бокалом в руке, обращаясь к гостям. – Здесь, в недрах земных, которые еще никогда, от самого сотворения мира, не видали человека, мы братски протягиваем вам руки и зовем на дальнейшую совместную работу с враждебными силами. Сегодня мы, неустанно долбя грудь земли, пробились к вам, потом расчистим себе дорогу к другим нашим братьям. Везде кипит работа. Везде люди, как кроты, роют землю, чтобы соединиться со своими согражданами, и недалек уж день, когда Франция, наша великая Франция, будет и под землей, как она была еще недавно на земле, единой, тесно спаянной, связанной великой задачей возрождения и сохранения нашей тысячелетней культуры. Не сегодня-завтра мы сможем так же или почти так же свободно передвигаться по всей Франции под землей, как мы это делали до появления зоотавров. А потом, мало-помалу, нам удастся завязать подземные сношения и с другими государствами. Конечно, это потребует еще долгих и тяжких усилий, но тем слаще будет торжество, тем радостнее победа!
Стефен высоко поднял свой бокал и торжественно закончил:
– Граждане! Пью за нашу великую Францию, великую на земле и под землей. Пью за ее славную тысячелетнюю культуру, которой не страшны никакие зоотавры! Пью за Париж и Версаль, за все города и веси нашей родины!
Когда утихла буря восторгов, вызванная речью президента, поднялся с бокалом в руке мэр Версаля, известный депутат Этьен Перрье, красивый старик с лицом патриарха, обрамленным густой седой шевелюрой и длинной белой, как лунь, бородой:
– Дорогой президент! Дорогие парижане! – сказал он. – Париж не раз вызывал нарекания. Провинция обвиняла его в гордости, властолюбии и прочих грехах. Но он все же всегда был, есть и останется мозгом Франции. От него исходят все великие проекты, все благородные начинания. Он и на этот раз, в переживаемые тяжкие дни, указал Франции и всему человечеству путь спасения. Я пью за великий, вечно юный, вечно дерзающий Париж! Да останется он и под землей неугасимым светочем, озаряющим путь Франции и всему миру!
Празднество затянулось до поздней ночи. Кафе и таверны были переполнены оживленными группами парижан и версальцев, причем первые так вошли в роль гостеприимных хозяев, что и сами они и их гости часто пошатывались и не всегда ясно могли выражать свои мысли.
Какой-то основательно подвыпивший парижанин шел по улице не совсем твердыми шагами, обняв одной рукой за шею своего гостя версальца, а другой энергично размахивая в воздухе.
– Да, брат, вот тебе и подземный Париж! – бормотал он. – : Жили-жили на земле – и вдруг сквозь землю провалились! Штука, брат! Эвона какие домища воздвигли! Дворцы! Тут тебе и театр, и магазины, и фабрики, и трамваи, а как-то не того… Душа не лежит… Главное, неба нет и солнца… Какое это солнце! Так, подделка одна…
Он вдруг поднял угрожающе сжатый кулак к искусственному солнцу, обливавшему ярким, ровным светом весь город, и гневно закричал:
– У, дьявол круглорожий! Эй, кто там! Туши его, проклятое! Видеть его не могу!
Он долго еще сердито бормотал что-то, а искусственное солнце продолжало бесстрастно лить свой холодный, негреющий свет на безукоризненно прямые улицы подземного Парижа и на обступающие их с обеих сторон каменные громады. Хмурые, угрюмые стояли дома, как бы обвеянные тяжелой, серой скукой, и казалось, что они тоже тоскуют по солнцу, живому, настоящему неподдельному солнцу, вечно меняющемуся, умеющему смеяться и хмуриться.
VI
К концу октября подземный Париж был уже связан, широкими и высокими туннелями, с самыми далекими окраинами Франции.
Эти туннели казались щупальцами, которые гордая, властолюбивая столица протягивала во все стороны, подчиняя своей власти провинцию. Всюду проникали эти щупальца. Через подземные города и деревни тянулись они все дальше и дальше, доходили до границ, упирались в море. По ним шли в провинцию декреты, распоряжения, указания: Париж как бы спешил наверстать то, что он упустил в те два-три месяца, когда власть над страной фактически ускользнула от него.
И провинция, как конь, сбросивший с себя на время седока, но потом опять почувствовавший крепко натянутую привычной рукой узду, снова признала власть Парижа. А когда некоторые города, преимущественно на юге и в Бретани, возмечтавшие было о полной независимости от центра, проявили дух непокорства, по щупальцам-туннелям полетели к ним такие властные окрики и угрозы, что они тотчас же смирились.
Париж с каждым днем все более входил в свою, на время оставленную было, роль властелина Франции. Разладившийся было гигантский административный аппарат заработал вовсю, простирал свою власть на самые далекие углы страны, во все вмешивался, на все накладывал свою печать. Многие старые чиновники смещались и на их место присылались из Парижа новые.
В туннелях, через подземные города и деревни, спешно заканчивалось проведение рельсовых путей, по которым во всех направлениях забегали жироскопы. Десятки тысяч километров телеграфной проволоки связывали, точно чрезвычайно чувствительной нервной системой, всю страну и центральными узлами сходились к подземному Парижу. Пассажирские аэробусы совершали правильные рейсы между столицей и Гавром, Лиллем, Лионом, Марселем, Брестом и другими пунктами Франции. Сотни, тысячи аэромоторов-лилипутов, точно птицы, шныряли под бетонными сводами подземных городов и деревень. Прорытый в Париже канал удлинялся с каждым днем, встречался с каналами ближайших городов, оттуда проводился дальше; в скором времени широкие водные пути прорезали всю страну, и по ним, в разных направлениях, забегали пароходы, барки, лодки.
– Недостает только подводных дредноутов! – шутили парижане.
В первое время движение по жироскопам, аэробусам и пароходам было так велико, что часто приходилось по несколько дней ждать очереди, прежде чем получить место. Никогда еще французы не проявляли такой страсти к путешествиям: более полугода, с самого появления зоотавров, они были прикованы к месту и только в очень редких случаях им представлялась возможность выходить за пределы своего города или деревни. Теперь так заманчиво казалось проехаться по новой, подземной, еще не виданной Франции, взглянуть, как устроились под землей другие города, посмотреть рельсовые и водные пути!
Наплыв пассажиров был так велик, что не хватало подвижного состава и приходилось спешно строить новые вагоны, аэробусы и пароходы. Правительство увидело себя вынужденным декретировать, чтобы рабочим всех государственных, муниципальных и частных предприятий были разрешаемы, по очереди, двухнедельные отпуска, чтобы дать им возможность поездить по стране.
В течение некоторого времени население Парижа, почти поголовно, перебывало в наиболее крупных центрах Франций. Провинция, в свою очередь, тоже не оставалась в долгу. Жироскопы, аэробусы и пароходы то и дело высаживали в Париже тысячи обывателей Лиона, Марселя, Гавра, Нанта, Бреста, Гренобля, Тулузы. С жадным любопытством растекались они по улицам подземной столицы, ахали, удивлялись, восторгались. Сияющие гордостью парижане охотно брали на себя роль чичероне, наперебой хвастали перед ними своими площадями и дворцами, инсценировали для них ночное небо с луной и звездами.
Париж тем сильнее привлекал провинциалов, что здесь, больше чем когда-либо, были теперь сосредоточены лучшие артистические силы страны: большинство крупных артистов из провинции, едва только открылось железнодорожное, воздушное и водное сообщение, бежали в столицу, тем более, что во многих подземных городах, даже крупных, театры еще не были построены.
Впрочем, скоро было приступлено к проведению фоноскопической сети, которая из Парижа расходилась по всей Франции, так что зрители далекой от Парижа Бретани или Савойи получали возможность, сидя у своих родных очагов, прекрасно видеть и слышать все, что происходит на сцене столичного театра. По фоноскопу же передавались во все углы Франции парламентские речи, проповеди, произносимые в парижском Соборе Богоматери лучшими проповедниками, лекции знаменитых профессоров.
Подземный Париж, еще в гораздо большей степени, чем надземный, отвлекал от провинции лучшие силы, высасывал ее кровь и соки, жадно впитывал в себя все, что было в стране яркого, талантливого, гениального, незаурядного. Он властно, деспотически навязывал всей стране свою духовную гегемонию, держал ее в интеллектуальном рабстве, ставил ее в постоянную зависимость от себя. Париж становился всем, провинция почти ничем, каким-то придатком столицы, пьедесталом для грандиозного монумента, который он изо дня в день воздвигал самому себе, фоном для его славы.
Некоторые крупные провинциальные центры, которым угрожала опасность захиреть, быть совершенно обескровленными, делали отчаянные попытки борьбы против этого всепоглощающего, всеобъемлющего централизма.
Первым забил тревогу Лион, претендовавший на титул второй столицы Франции. Лионская пресса изо дня в день печатала громовые статьи против тирании Парижа. «Мы не сепаратисты, не федералисты, не анархисты, – писал в одной из статей “Подземный Лион”. – Мы никогда не задавались вздорными тарасконскими мечтами об отделении от нашей общей матери Франции и всегда были далеки от мысли поднять против нее знамя восстания. Единственное, чего мы добиваемся – это права на жизнь, на самостоятельное культурное существование. Лион со своими двумя миллионами жителей, с обширной и богатой провинцией, благословенные поля и виноградники которой кормят пол Франции, заслужил это право. Мы страдали от тирании Парижа на земле; вступая в новую подземную эру, мы вправе были наняться, что положение изменится к лучшему; но – увы! – оно стало еще более невыносимым: ревниво охраняя свои прерогативы, Париж как бы спешит доказать, что он твердо решил и под землей удержать свою гегемонию и прибегает к тысячам способов для ее утверждения и укрепления».
Встревожился и Бордо. Он никак не мог забыть, что в 1914 году, в самом начале европейской войны, судьба возвела его, – правда, на очень короткое время, – в ранг столицы Франции; он как бы ощущал еще на своей голове эфемерную корону, которая, по его глубокому убеждению, была ему гораздо более к лицу, чем Парижу, и которая еще сильнее кружила бордосцам голову, чем доброе бордосское вино. И теперь он ворчал, будировал, возмущался. Пресса его метала громы и молнии против диктатуры Парижа и ставила центральному правительству на вид, что оно ведет очень опасную игру. «Пусть там, на верхах, не забывают, – писал “Маленький бордосец”, – что при всей нашей лояльности, наше терпение может истощиться. Мы, разумеется, не вступим на путь тарасконских авантюр, не станем бряцать оружием; но в нашем распоряжении имеется более действительное оружие: бойкот Парижа, полное игнорирование его. Никакие угрозы не могут заставить нас ездить в Париж, смотреть и слушать его артистов, читать его литературу. И если вся провинция, или хотя бы даже часть ее, объявит столице такого рода пассивную войну, парижане от этого вряд ли выиграют».
Лилль, Руан, Марсель и некоторые другие крупные центры тоже пытались вырваться из-под железной ферулы Парижа. По инициативе Лиона стали поговаривать о необходимости объединить силы для совместной борьбы и, прежде всего, созвать съезд для формулирования справедливых требований провинции.
В ожидании решительных, коллективных мер борьбы с духовной гегемонией Парижа, провинция предприняла ряд партизанских действий. Лион построил великолепный театр и усиленно зазывал в него лучших артистов, соблазняя их чрезвычайно высокими гонорарами; он раскинул по всему югу густую фоноскопическую сеть, чтобы дать возможность всем без исключения южанам, не двигаясь с места, наслаждаться игрой своих артистов, энергично вербовал абонентов, пускал в ход широковещательные рекламы. Лионская пресса зорко стояла на страже интересов родного города и подогревала энтузиазм своих читателей. «Мы должны добиться того, чтобы парижане предпочитали наш театр своему собственному, – писал “Подземный Лион”. – И мы этого добьемся».
Бордо, Лилль, Марсель и все другие уважающие себя города соперничали не только с Парижем, но и с Лионом и между собой. Все строили великолепные театры, грандиозные соборы, импозантные храмы науки; все наперебой приглашали самых знаменитых артистов, проповедников, профессоров, у которых так закружилась голова, что они стали вести себя как владетельные князья доброго старого времени и часами заставляли ждать в своих передних мэров и других нотаблей местных муниципалитетов.
У некоторых из артистов дело дошло до настоящей мании величия, часто принимавшей крайне острые формы: так, известный тенор Франсуа Лягранж, прежде чем подписать ангажемент с дирекцией бордосского театра, поставил следующие условия: 1) ему должна быть отведена роскошно обставленная квартира в городской ратуше, 2) к его квартире должен быть приставлен почетный караул из муниципальных гвардейцев и 3) мэр Бордо должен лично являться к нему перед каждым спектаклем, чтобы отводить его в театр.
– Вы понимаете, это я не для себя! – отрывисто бросал он с изумлением смотревшим на него нотаблям, которым он даже не предложил сесть. – Это для искусства, для святого искусства! Мы, жрецы его, должны поддерживать его престиж перед профанами.
Увы! Бедный Лягранж скоро пал жертвой святого искусства: он попал в сумасшедший дом.
VII.
Уже более полугода Европейские Соединенные Штаты оставались пустым звуком, формулой, лишенной конкретного содержания. Зоотавры разъединили Европу, свели на нет ее с таким трудом налаженный союз. Более или менее регулярные сношения стали невозможны. Каждое государство оказалось предоставленным самому себе, и собственными силами, за собственный страх и риск, боролось с грозной напастью.
Париж не раз запрашивал по радиотелеграфу Лондон, Берлин, Рим, Мадрид, Петербург, Стокгольм и другие столицы Европы о положении дел, но запросы эти либо совсем оставались без ответа, либо ответы были крайне неясны и запутаны.
Приходилось вооружиться терпением и ждать, пока подземные работы достигнут границ Франции.
Уже в середине октября из Страсбурга, по телеграфу Мор-за, было получено в Париже сообщение о том, что на восточной границе Франции, у Оффенбурга, удалось, наконец, докопаться до немцев.
Стефен и некоторые члены кабинета министров тотчас же полетели, в роскошном, специально отделанном для них аэробусе в Страсбург, чтобы лично приветствовать немцев. Там их ждал восторженный прием. Город, наполовину переполненный теперь немцами, был богато декорирован французскими и германскими национальными флагами, украшен цветочными арками и светящимися гербами обоих народов. Из рассказов немцев выяснилось, что подземная Германия почти уже совершенно закончена, причем на восточной границе докопались до Польши и России, а на северной – до Дании и Северного моря.
Несколько дней спустя получены были добрые вести и из Италии; за Италией настал черед Испании, Швейцарии и Бельгии. Французы с восторгом узнавали, что то в том, то в другом пограничном государстве подземные работы почти совсем уже закончены.
Франция и в частности Париж были охвачены беспредельным энтузиазмом. Радовало, что и в других государствах люди сошли под землю. Радость была тем сильнее, что за последнее время упорно циркулировали слухи, будто эа границей отказались от постройки подземных городов и прибегают к каким-то новым способам защиты от зоотавров. Это возбуждало горькие думы.
– Напрасно мы так пороли горячку! – слышались нарекания. – Этак, чего доброго, весь мир по-прежнему наверху останется и только мы одни сами себя в могилу закопали.
Но страхи оказались напрасными, и миллионы французов облегченно вздохнули: на людях и смерть красна!
– Вместе закопались, вместе потом и выбираться будем! – весело говорили они.
И опять стали с бою брать вагоны жироскопов, аэробусы и пароходы. Всякому хотелось поскорее совершить подземное путешествие за границу, посмотреть, как устроились немцы, итальянцы, швейцарцы, испанцы.
Южане направлялись преимущественно в соседние Швейцарию, Италию и Испанию.
Подземная Швейцария им не понравилась. Без своих гор, увенчанных белоснежными, ярко сверкающими на солнце вершинами, без лазурно-синих, величаво-спокойных озер, она стала неузнаваемой. Швейцарцы бродили хмурые и производили впечатление людей, которые что-то потеряли и никак не могут найти. Тяжело ступали они в своих одетых по привычке горных башмаках, которые казались такими ненужными на ровных, словно отполированных мостовых, опираясь на горные палки и сгибаясь так, как если бы они взбирались на крутую гору. Не было уже кокетливых шале и пастушьих хижин с тяжелыми камнями на кровлях; вместо них были серые плоские дома, такие же угрюмые, как и сами швейцарцы, точно и они тосковали по белоснежным горным вершинам, по сверкающим глетчерам и лазурно-синим озерам.
Печально позванивали колокольцами коровы, козы и овцы; они оглашали воздух жалобным блеянием и мычанием и с тоской подымали вверх головы, точно ища так хорошо знакомых, родных горных склонов, покрытых сочной травой. Исхудавшие, со впалыми боками, вяло щипали они выращенную на подземных лугах траву, как если бы это была не настоящая трава, а плохой суррогат, терлись друг о друга мордами, словно ища сочувствия и тоскливо спрашивая, куда это вдруг девались славные горные пастбища. С безмолвным вопросом смотрели они и на подходивших к ним людей, и тогда казалось, что на глазах у них стоят слезы.
Великолепные, словно пронизанные солнцем отели Интерлакена, Шамони, Монтре, Шпица, Люцерна лежали наверху в развалинах, а те, которые взамен их были выстроены под землей, производили, несмотря на внешнюю роскошь, безотрадное впечатление. Им тоже, как и людям и животным, недоставало величавых горных вершин, широких горизонтов, игры солнечных лучей на вечных снегах. Пустынные, угрюмые, тяготясь собственной ненужностью, стояли они в ожидании гостей; но гости были чрезвычайно редки. В первое время, как только открылись сообщения с остальными странами Европы, начался было наплыв иностранцев; но он скоро прекратился. Люди, приезжавшие в Швейцарию с намерением провести здесь недели и месяцы, с первого же дня начинали испытывать тяжелую тоску и возвращались обратно.
Все реже и реже становились приезжие, и скоро швейцарцы совсем перестали их видеть у себя. И остались они одни с самими собой, наедине со своей тоской по солнцу, по белоснежным горным вершинам, которые сливались с облаками, и по лазурно-синим, спокойно-величавым озерам, над которыми с криком носились стаи чаек.
Грустно выглядела и новая, подземная Италия. Без своих обвеянных тысячелетней стариной памятников искусства, этих воплотившихся в камне поэтических саг седой древности, она потеряла то, что веками составляло ее душу, смысл самого ее существования. Царственный Рим, без собора св. Петра, без Колизеума, без величественных порталов и колоннад, на которых, как на скрижалях, была начертана история веков и тысячелетий, казался ограбленным, нагим и нищим. Тщетно жители его пытались воспроизвести под землей хотя бы часть своих величавых памятников старины, тщетно рылись они среди развалин и стаскивали вниз обломки колонн, барельефов, капителей, кариатид: самые опытные зодчие не могли создать из этих обломков ничего, кроме жалких пародий, которые казались насмешливыми гримасами веков над бессилием современного человека.
Мертвым и пустынным, несмотря на свое многолюдство, выглядел Рим, без своего Форума, без залитых солнцем площадей, без живописных групп натурщиков и натурщиц, без наезжавших со всех концов света художников и туристов; жалок был без своего царственного собора Милан, который недавно еще бурлил и клокотал от избытка жизни и энергии; больно было смотреть на Венецию, лишившуюся своих обвеянных мрачной поэзией каналов; Флоренция, Неаполь, Генуя, Турин, с их безукоризненно прямыми проспектами и бульварами, которые ничем не напоминали старые узкие и тесные улички, обвеянные преданиями веков, казались ничтожными, безвкусно одетыми отпрысками гордых аристократов.
Не слышно было в подземной Италии смеха и песен, которые спокон веков поднимались из ее городов и деревень к лазурному небу. Грустно бродили итальянцы, хирели без солнца, жадно тянулись тоскующими взорами туда, где они привыкли видеть море, свое родное, милое море, под час умевшее грозно хмуриться, но чаще дарившее людей чарующими улыбками, от которых так легко и весело становилось на душе.
– Каково-то выглядит теперь наше море! – с тоской говорили люди, как если бы речь шла о близком существе. – Погода сегодня, должно быть, прекрасная, и оно нежится, смеется под лучами яркого солнца.
– А быть может, – возражали другие, – разыгралась буря, и море злится, рвет и мечеть.
– Все может быть! – печально соглашались первые. – Разве тут можем мы знать, что делается наверху? Тут, слава Богу, нет ни ветров, ни бурь, ни дождей, ни солнца. Всегда хорошая погода!
Люди глубоко вздыхали. Они тосковали не только по солнцу, но и по ветру, по непогодам, по гневным гримасам матери-природы.
Когда докопались до Испании, толпы французов жадно бросились в Сан-Себастьян. Но их ждало горькое разочарование: город, который они знали таким красавцем, который так кокетливо гляделся в синее море своими белыми дворцами, отелями и казино, на набережной которого с утра до поздней ночи бурным ключом била жизнь, был теперь таким серым, плоским, скучным, что у посетителей больно сжималось сердце.
– Вы не ошибаетесь? Это действительно Сан-Себастьян? – спрашивали они испанцев.
– Да, это Сан-Себастьян! – грустно отвечали те. – Мы и сами его не узнаем.
Подземные дороги уже были проложены по главным артериям страны, и французы отправились в Мадрид. Увы! И он был совершенно неузнаваем. Знаменитая площадь, носившая гордое название Врат Солнца и действительно как бы находившаяся у самого преддверия солнечного царства, теперь производила безотрадное, унылое впечатление. Не слышно было не так еще давно стоном стоявшего над ней смеха, и даже мулы и ослы, тащившие по ней тяжелые колымаги, казалось, тоже тосковали по солнцу.
Такое же безотрадное впечатление производили и ближайшие к Мадриду городки, которые всегда служили местами паломничества туристов: Эскориал, над которым недавно еще витал мрачный дух эпохи Филиппа II, Толедо с его тысячелетним собором, которым так гордилась Испания, Аранхуэц с его сказочно прекрасными садами.
– А Севилья? А Гранада с ее Альгамброй? А Кордова с ее мечетью? – спрашивали французы.
Испанцы только безнадежно рукой махали в ответ.
Чтобы хоть чем-нибудь развлечь гостей, мадридцы устроили в их честь бой быков.
Обширный амфитеатр, вмещавший до 15 000 человек, был так переполнен, что казался вымощенным человеческими головами. Но это была не та толпа, которая там, в надземном Мадриде, плотными рядами теснилась, бывало, вокруг арены. Не слышно было шума, смеха, перекрестных острот, не видно было возбужденных лиц, горящих взоров. С тупым равнодушием смотрели люди на арену, да и сами быки, уже не вскармливаемые на тучных, круглый год озаряемых солнцем лугах Андалузии, были безжизненны, тупо-равнодушны. Тщетно пытались разъярить их уколами острых пик, тщетно вонзали им в шею начиненные порохом стрелы, от взрыва которых воздух наполнялся запахом горелого мяса и шерсти, – они оставались флегматичны, как рабочие волы, почти не защищались и вяло умирали под клинками тореадоров.
Когда на банкете, устроенном в честь почетных гостей президентом Испанской республики, знаменитый французский беллетрист Роберт Ляваль провозгласил тост за процветание подземной Испании, из многих грудей вырвался глубокий вздох безнадежной тоски.