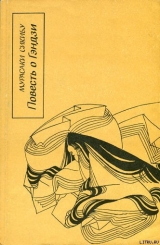
Текст книги "Повесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари). Книга 3"
Автор книги: Мурасаки Сикибу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Принцесса была слишком неопытна, и кормилицы неотлучно находились при ней. Они видели, как, открыв боковую дверь, Гэндзи вышел из дома.
В неясно светлевшем небе, мерцая, кружился снег, но вокруг было темно. Гэндзи ушел, а в воздухе долго еще витал аромат его платья.
– «Быть темной напрасно...» (284) – прошептала кормилица. В саду кое-где лежал снег, почти незаметный на белом песке.
– «У стены еще сохранился снег...»[8]8
У стены еще сохранился снег. – Гэндзи цитирует стихотворение Бо Цзюйи «Глядя на рассвет с башни Юйлоу»: «Один, опершись на перила красные, холодным утром стою. / Горы вокруг начинают светлеть, обновляется цвет воды. / В дымке бамбука брезжит рассвет, таится луна над горой./ Ветер, ряской играя, несет тепло по весенней реке. / Лишь в затененных местах у стены еще сохранился снег. / Барабанного боя не слышно пока, и в воздухе пыли нет. / Три долгих века чредой протекли и сколько – кто скажет теперь? – / Моих земляков побывало здесь, на этой башне Юйлоу?»
[Закрыть] – тихонько произнес Гэндзи и, приблизившись к покоям госпожи, постучал по решетке. Поскольку давно уже не случалось ему возвращаться в столь ранний час, дамы, притворившись спящими, открыли не сразу.
– Я так долго ждал, что совсем продрог, – пожаловался Гэндзи, подойдя к изголовью. – К тому же я боюсь вашего гнева, хотя и нет за мной никакой вины.
Он откинул прикрывавшее госпожу платье, и она поспешно спрятала мокрые рукава.
Госпожа была приветлива и, казалось, не таила в душе обиды, но в движениях ее, в словах проглядывала некоторая принужденность. Красота ее была безупречна. «Среди самых высоких особ не найдешь ей подобной», – подумал Гэндзи, невольно сравнивая ее с принцессой.
Весь день он провел в Весенних покоях, вспоминая минувшие годы и безуспешно пытаясь развеселить госпожу. Принцессе же отправил письмо следующего содержания:
«Утренний снег плохо отозвался на моем самочувствии, и я хотел бы немного отдохнуть».
– Я передала госпоже принцессе, – только и ответила кормилица, не потрудившись даже написать письмо.
«Ей следовало бы быть поучтивее, – подумал Гэндзи. – Что, если узнает Государь? Я не должен пренебрегать принцессой хотя бы первое время...» Но, увы, он так и не сумел заставить себя пойти к ней. «Ведь я знал, что так получится, – раскаивался он, – о, как же все это тягостно!»
Не могла успокоиться и госпожа. «Он ведет себя слишком неосмотрительно», – думала она, вздыхая.
Утром, проснувшись, Гэндзи, как полагается, отправил Третьей принцессе письмо. Особенно стараться не было нужды, но, тщательно подготовив кисть, он написал на белой бумаге:
«Разве преградой
Может стать между нами
Легкий снежок?
И все же сегодня утром
В таком смятении думы...» (281)
Письмо Гэндзи привязал к ветке цветущей сливы и, вручив его слуге, велел передать через западную галерею. Сам же остался сидеть у порога. Облаченный в белое платье, с веткой сливы в руке любовался он небом, посылавшим на землю все новые и новые снежинки, чтобы не было одиноко тем, что уже лежали в саду, «друзей поджидая»... (282, 283). Неподалеку, в кроне красной сливы, звонко запел соловей, и Гэндзи произнес:
– «Аромат остался на платье...» (285)
Спрятав цветы и приподняв занавеси, он выглянул наружу. Невозможно было представить себе, что перед вами человек, занимающий высокое положение в мире и имеющий взрослых детей, – так пленительно изящен и так молод он был. Зная, что ответа придется дожидаться довольно долго, Гэндзи вошел в покои, чтобы показать госпоже ветку цветущей сливы.
– Жаль, что не у всех цветов столь дивный аромат, – посетовал он. – Когда бы цветущие вишни так благоухали, я никогда бы и не помышлял о других цветах... (178) – Возможно, сливы чаруют нас потому лишь, что расцветают первыми. Вот если бы они цвели одновременно с вишнями...
Тут принесли ответ. Написанное на тонкой алой бумаге письмо было изящно свернуто, и щемящая жалость пронзила сердце Гэндзи. «Почерк у нее совсем еще детский, – подумал он, – лучше, пожалуй, пока не показывать письма госпоже. Я не хочу ничего скрывать, но боюсь, что содержание его может оказаться недостойным ее внимания и несовместным с высоким званием принцессы». Но попытайся он его спрятать, госпожа наверняка обиделась бы... Поэтому Гэндзи все-таки развернул письмо.
Поглядывая на него украдкой, госпожа лежала, прислонившись к скамеечке-подлокотнику.
«Стоит ли ждать?
В небе далеком вот-вот
Исчезнут-растают
Весенним ветром влекомые
Беспомощные снежинки».
Почерк у принцессы и в самом деле был весьма неуверенный, почти детский. «Право, в таком возрасте можно писать и получше», – подумала госпожа, украдкой разглядывая письмо и делая вид, будто оно совершенно ее не интересует. Если бы речь шла о ком-то другом, Гэндзи непременно сказал бы: «Как неумело написано!» Но принцессу ему было жаль, и он лишь заметил:
– Теперь вы и сами видите, что оснований для беспокойства у вас нет.
Днем Гэндзи отправился в покои принцессы. Он уделил особое внимание своему наряду, и дамы, впервые получившие возможность как следует рассмотреть его, не скрывали своего восхищения. Только кормилица и некоторые пожилые прислужницы терзались сомнениями: «Не слишком ли он хорош? Неизвестно еще, сколько горестей выпадет на долю нашей госпожи...»
Принцесса была юна и прелестна. Изысканное благородство роскошно убранных покоев подчеркивало ее трогательную хрупкость и беспомощность. Маленькое тело терялось в чрезмерно пышных одеждах. Вместе с тем она почти не смущалась, держалась спокойно и приветливо, словно невинное дитя, еще не привыкшее бояться незнакомых людей.
«Государя из дворца Судзаку многие упрекали в слабодушии, в науках он тоже не оказывал особенных успехов, – думал Гэндзи. – Но мало кто мог сравниться с ним в изяществе и тонкости вкуса. Отчего же он пренебрег воспитанием дочери? Ведь ее называют его любимицей».
И все же в принцессе было немало привлекательного. Во всем послушная Гэндзи, она почтительно внимала ему и как умела отвечала на его вопросы. Так мог ли он судить ее слишком строго? «Будь я молод, – думал он, – мое разочарование было бы настолько велико, что я скорее всего отвернулся бы от нее с презрением. Но годы научили меня терпению. Теперь-то я знаю, как трудно найти женщину, безупречную во всех отношениях. Женщин много, и у всех свои слабости и свои достоинства. Кому-то и принцесса показалась бы совершенством».
Мысли его снова и снова обращались к госпоже Весенних покоев. Долгие годы была она рядом с ним, но не наскучила ему, напротив, он открывал в ней все новые и новые прелести. Право же, Гэндзи вправе был гордиться своей воспитанницей. Расставаясь с ней на одну только ночь, он изнемогал от тоски и тревоги. С годами его чувство росло, и иногда он со страхом думал: «К добру ли?»
Тем временем Государь из дворца Судзаку перебрался в горную обитель и оттуда писал Гэндзи трогательные письма. Разумеется, он беспокоился о дочери, но, доверяя Гэндзи ее воспитание, просил ни в коем случае не принимать в расчет его собственных чувств. Тем не менее детская беспомощность принцессы явно тревожила его. Госпоже Мурасаки Государь написал отдельное письмо:
«Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за то, что я позволил себе передать на Ваше попечение столь юную и столь далекую от совершенства особу. Могу ли я рассчитывать на Ваше великодушие? Не оставьте же ее своими заботами. Ведь мы не чужие друг другу.
Отрекся от мира,
Но стремятся к нему по-прежнему
Думы мои,
Мешая идти вперед
По этой горной дороге.
Боюсь, что мое послание покажется Вам несвязным, но поверьте, „блуждающему впотьмах“ (3) так трудно сохранить ясность мысли».
Увидав это письмо, Гэндзи:
– Как трогательно! Вы должны ответить ему с подобающей почтительностью! – сказал и через одну из прислуживающих дам выслал гонцу чашу с вином.
«Как же мне ответить?» – задумалась госпожа, но, поскольку ничего особенно сложного, изощренного от нее не требовалось, написала первое, что пришло ей в голову:
«Если в мире еще
Для тревоги остались причины,
Стоит ли, право,
С такой тяжестью в сердце
Уходить по горной тропе?»
Да, кажется, она ответила именно так.
Гонец получил полный женский наряд и великолепное хосонага.
Любуясь редким по изяществу почерком госпожи Мурасаки, Государь невольно подумал о том, сколь жалкой должна казаться принцесса рядом с такой изысканной особой, и снова лишился покоя.
Тем временем дамы, ранее прислуживавшие Государю, одна за другой покидали дворец Судзаку, и каждый новый день был печальнее предыдущего. Госпожа Найси-но ками поселилась во дворце на Второй линии, где когда-то жила покойная государыня Кокидэн. Именно с ней, если не считать Третьей принцессы, Государю было труднее всего расставаться. Она изъявила желание тоже принять постриг, но Государь убедил ее отказаться от этой мысли, ибо, по его мнению, подобная поспешность была неуместна, и Найси-но ками ограничилась тем, что начала постепенно готовить себя к этому шагу.
Бывший министр с Шестой линии – не потому ли, что им пришлось слишком быстро расстаться? – все эти годы не забывал ее. У него не раз возникало желание снова встретиться с Найси-но ками и вместе вспомнить минувшее, но, понимая, что высокое положение обоих делает их особенно уязвимыми для людской молвы, и помня, к каким печальным последствиям привела их некогда собственная неосторожность, он не предпринимал никаких попыток снестись с ней. Однако в последнее время, когда Найси-но ками зажила тихой, уединенной жизнью, судя по всему отказавшись от всех мирских соблазнов, им снова завладело неодолимое желание увидеть ее. Не в силах совладать с собой (хотя и понимая, что поведение его предосудительно), Гэндзи стал писать к ней нежные письма, оправдывая себя тем, что простая вежливость обязывает его выказывать ей свое участие. Оба они были уже немолоды, и иногда Найси-но ками позволяла себе отвечать ему. С годами она стала еще утонченнее, почерк ее поражал удивительным совершенством, и Гэндзи снова лишился покоя. Вспомнив прошлое, он принялся докучать изъявлениями своих чувств одной из ее прислужниц, той самой Тюнагон, и первым делом призвал к себе брата этой особы, бывшего правителя Идзуми, надеясь, как бывало, заручиться его поддержкой.
– Я должен сообщить вашей госпоже нечто весьма важное, – сказал он ему. – Причем сообщить лично, а не через посредников. Если вы возьмете на себя труд убедить ее выслушать меня, я обещаю, что никто об этом не узнает. Вы, разумеется, понимаете, что мое положение ко многому обязывает и я должен проявлять предельную осторожность. Впрочем, я уверен, что вы никому об этом не пророните ни слова и мы оба можем быть спокойны...
Однако Найси-но ками было не так-то легко уговорить.
«Вправе ли я позволять себе?.. – думала она, вздыхая. – Чем глубже проникаю я в суть явлений нашего мира, тем яснее понимаю, как жестоко поступил со мной этот человек. И теперь, после всех этих лет, о каком прошлом могу я говорить с ним, кроме как о печальной судьбе Государя? Возможно, никто и в самом деле не узнает, но „если спрошу у сердца?“ (286)»
И она неизменно отказывалась встретиться с ним.
«Право же, мы находили средство обмениваться любовными речами даже тогда, когда это казалось совершенно невозможным, – думал Гэндзи, – и, как ни велика моя вина перед отрекшимся от мира Государем, стоит ли отрицать, что нас с Найси-но ками связывали самые нежные чувства? Как бы мы ни старались очиститься теперь, можно ли вернуть „стайку вспугнутых птиц“? (243) Так не все ли равно?» И, решившись, Гэндзи отправился на Вторую линию вослед за человеком из лесов Синода[9]9
…вослед за человеком из лесов Синода. – Речь идет о правителе Идзуми (леса Синода – достопримечательность провинции Идзуми, см., например, стих 287 из Свода пятистиший – кн. «Приложение»).
[Закрыть]. Вот что он сказал госпоже:
– Дочери принца Хитати, живущей в Восточной усадьбе, давно нездоровится, а я из-за царившей в доме суматохи до сих пор не удосужился ее навестить. Не совсем удобно отправляться туда среди бела дня у всех на глазах, поэтому я и решил поехать попозже, вечером. Прошу вас никому о том не говорить.
Чрезмерная взволнованность Гэндзи, равно как и неожиданное желание навестить особу, никогда до сих пор не удостаивавшуюся его внимания, показалась госпоже подозрительной. Не исключено, что она догадалась об истинной подоплеке его намерения, но ничем не выдала себя. Увы, после того как в доме на Шестой линии появилась Третья принцесса, госпожа уже не была так откровенна с супругом, как прежде.
В тот день Гэндзи не заходил в главные покои, лишь обменялся с принцессой посланиями. Днем он усердно пропитывал свою одежду благовониями, а когда настал вечер, выехал из дома, сопутствуемый четырьмя самыми преданными приближенными. Ехал он в карете с плетеным верхом, стараясь держаться как можно незаметнее, совсем как бывало в старые времена. С письмом он послал правителя Идзуми.
Можно себе представить, как растерялась Найси-но ками, когда кто-то из дам украдкой сообщил ей о том, что приехал господин с Шестой линии.
– Возможно ли? Что же сказал ему правитель Идзуми?
– Не принять его теперь было бы величайшей неучтивостью, – заявил правитель Идзуми и, воспользовавшись всеобщим замешательством, провел Гэндзи в покои. А тот, любезно осведомившись через дам о самочувствии госпожи и сказав все, что принято говорить в таких случаях, стал просить, чтобы она вышла к нему.
– Неужели вы не согласитесь поговорить со мной через ширму? – настаивал он. – Поверьте, я уже далеко не тот, каким был когда-то, вам нечего бояться.
В конце концов Найси-но ками со вздохом приблизилась к занавесям.
«Я не ошибся, она по-прежнему уступчива», – невольно отметил про себя Гэндзи.
Их нынешнее положение обязывало к сдержанности, но тем трогательнее была эта встреча... Госпожа Найси-но ками приняла гостя в Восточном флигеле. Дамы усадили его в юго-восточной передней, предварительно укрепив замок на нижней части перегородки.
– Я чувствую себя неискушенным юнцом, – жалуется Гэндзи. – Думал ли я, что встречу столь холодный прием? Ведь я могу, ни разу не сбившись, перечесть все годы, которые нас разделяют. Ну не жестоки ли вы?
Постепенно темнеет. Вокруг безлюдно и тихо, только из сада долетают трогательно-печальные голоса уточек-мандаринок, резвящихся в жемчужных травах пруда (288). «О, как все шатко, как все непродолжительно в этом мире!» – думает Гэндзи, глядя вокруг. Ему не хочется уподобляться Хэйтю[10]10
Хэйтю – Тайра Садафуми (? – 923) – поэт и придворный, прославившийся своими любовными похождениями.
[Закрыть], но в последнее время слезы все чаще навертываются у него на глазах. Сначала он говорит спокойным, рассудительным тоном, совсем не так, как бывало прежде, потом: «Неужели так и расстанемся?!» – воскликнув, пытается отодвинуть перегородку...
– Луны и годы
Встали преградой меж нами
Неодолимой.
Увы, чрез заставу Встреч
Только слезам путь открыт,—
говорит он, а Найси-но ками отвечает:
– Слезы льются из глаз —
У заставы чистый источник (289)
Никогда не иссякнет.
Но давно уже путь закрыт,
Нас к новым встречам ведущий.
Скорее всего она собиралась держать его в отдалении, но тут вспомнилось ей прошлое. «Разве не из-за меня попал он тогда в беду? – подумала она, чувствуя, как слабеет ее решимость.– В самом деле, почему бы в последний раз...»
Найси-но ками никогда не отличалась твердостью духа, но с годами, приобретя некоторый жизненный опыт, научилась лучше владеть собой. Она часто обращалась мыслями к далеким дням своей молодости и с сожалением думала о том, что, не будь она столь опрометчива, ее жизнь сложилась бы совсем по-другому. Однако сегодняшняя встреча так живо напомнила ей прошлое, что устоять было невозможно. Ее изящных черт еще не коснулось увядание, она по-прежнему была необыкновенно хороша собой. Страх перед мнением света боролся в ее сердце с нежностью к Гэндзи, и томные вздохи теснили грудь. Никогда, даже в дни их первых встреч, она не казалась Гэндзи такой прекрасной. С досадой глядя на светлеющее небо, он не находил в себе сил расстаться с ней. Скоро рассвело, и в невыразимо прекрасном небе звонко запели птицы. Цветы уже осыпались, и ветки деревьев были окутаны зеленоватой дымкой. «А ведь тот давний праздник глициний был в эту же пору...»[11]11
А ведь тот давний праздник глициний … См. кн. 1, гл. «Праздник цветов».
[Закрыть] – подумал Гэндзи, печально перебирая в памяти годы, с того дня протекшие. Когда госпожа Тюнагон, намереваясь проводить гостя, открыла боковую дверь, он, оборотившись, сказал:
– Как прекрасны глицинии! Кто поверит, что в мире существуют такие оттенки? Невероятно! Но, увы, я должен расстаться с ними!
Гэндзи медлил, явно не желая уходить.
Поднявшись над краем гор, ярко засияло солнце, и Тюнагон не могла сдержать восхищения, увидев лицо Гэндзи, засверкавшее поистине ослепительной красотой. С тех пор как она видела его в последний раз, прошло немало лет, но за эти годы он стал лишь прекраснее. «Почему госпоже нельзя видеться с ним? – думала Тюнагон. – Да, она служила во Дворце, но при том положении, какое она там занимала, вовсе не возбраняется... Виной всему покойная Государыня, когда б не она, никто бы и не узнал ничего. Из-за нее и пошла по миру дурная молва, заставившая их расстаться».
Слишком многое и в самом деле осталось недосказанным, но вправе ли человек, занимающий столь высокое положение, забывать о приличиях? Гэндзи боялся оказаться замеченным и тревожился, видя, что солнце поднимается все выше и выше. Приближенные, подведя карету к галерее, тихонько покашливали, поторапливая его. Подозвав одного из них, Гэндзи велел ему сорвать для себя ветку расцветшей глицинии.
Не забыть никогда,
Как тонул я в пучине бедствий,
Но, увы, тот урок,
Видно, даром прошел, я готов
Снова броситься в волны глициний.
На лице его изобразилось страдание, и Тюнагон растроганно вздохнула. Найси-но ками сидела смущенная, растерянная. Что станут теперь о ней говорить? Но цветы были так прекрасны...
Настоящая ли
Та пучина, в которую ты
Броситься хочешь?
Был урок не напрасен, волна
Вновь моих рукавов не коснется...
Хорошо понимая, что юношеская пылкость непозволительна в его возрасте и при его положении, Гэндзи все-таки не уходил до тех пор, пока не добился ее согласия на новую встречу. Впрочем, вряд ли его ждали на этом пути какие-то трудности, ведь в ее доме не было слишком сурового «хранителя заставы» (224).
Когда-то Гэндзи был привязан к этой женщине больше, чем к другим, и разве не печально, что так быстро пришлось им расстаться?
Увидев, как Гэндзи в небрежно накинутом платье украдкой проскользнул в опочивальню, госпожа Мурасаки, разумеется, поняла, что ее подозрения не были лишены оснований, но сделала вид, будто ничего не заметила. Гэндзи, пожалуй, предпочел бы, чтобы его осыпали упреками. «Неужели она настолько равнодушна ко мне?» – встревожился он и принялся с еще большим, чем обыкновенно, жаром уверять ее в искренности своих чувств, в своей неизменной преданности. Он мог бы и не упоминать о Найси-но ками, но ведь госпожа знала о ней, поэтому он сказал как бы между прочим:
– Я заехал навестить госпожу Найси-но ками из дворца Судзаку и побеседовал с ней через ширму. Все же о многом мы поговорить не успели, и мне хотелось бы еще раз встретиться с ней тайком, дабы избежать пересудов.
– Вы словно помолодели! – улыбаясь, отвечала госпожа. – Вы возвращаетесь к старому, начинаете новое, а к чему мне, несчастной, прибегнуть?
Как ни старалась она сдерживаться, слезы показались у нее на глазах, и так трогательна была она в своей печали, что Гэндзи не мог не залюбоваться ею.
– Меня огорчает, что вы скрываете от меня свои обиды,– сказал он.– Я предпочел бы, чтобы вы говорили мне прямо, в чем я, по-вашему, виноват. Я всегда стремился к тому, чтобы у нас не было друг от друга тайн. Право, я не ожидал...
Так утешая госпожу и оправдываясь, Гэндзи в конце концов признался ей во всем. Целый день провел он в Весенних покоях, стараясь ее развеселить, и не пошел даже к принцессе. Та, конечно, и не думала сердиться, зато встревожились прислуживающие ей дамы. Возможно, Гэндзи беспокоился бы о принцессе куда больше, будь она обидчива или ревнива, а так – он видел в ней милую, прелестную игрушку, не более.
Обитательница павильона Павлоний нечасто бывала в отчем доме, ибо принц не отпускал ее от себя. Между тем придворные обязанности тяготили ее, совсем еще юную, привыкшую к беззаботной жизни в доме на Шестой линии. Летом она почувствовала себя нездоровой, и нежелание принца даже на короткое время расстаться с ней чрезвычайно ее огорчало. А надо сказать, что причина ее недомогания была не совсем обычной. Все вокруг тревожились, понимая, что в столь юные годы... Наконец с большим трудом ей удалось получить разрешение уехать. Для нее были приготовлены восточные покои главного дома, в котором жила теперь Третья принцесса. Госпожа Акаси неотлучно находилась при дочери. Вот уж и в самом деле на редкость удачливая особа! Как-то, намереваясь навестить свою воспитанницу, госпожа Мурасаки сказала:
– Пусть откроют срединную дверцу, чтобы одновременно я могла приветствовать и принцессу. Мне давно хотелось с ней познакомиться, но все не представлялось случая, и я не решалась просить вас об этом. Чем раньше мы начнем привыкать друг к другу, тем легче нам будет жить в мире и согласии.
– Вы угадали самое большое мое желание,– улыбнулся Гэндзи.– Принцесса еще совсем дитя, я был бы крайне признателен вам, если бы вы согласились стать ее наставницей.
Впрочем, встреча с принцессой волновала госпожу гораздо меньше, чем встреча с госпожой Акаси. Она заранее вымыла волосы, принарядилась и стала так хороша, что в целом мире не найдешь прекраснее.
А Гэндзи отправился к принцессе.
– Вечером сюда придет госпожа Весенних покоев, чтобы встретиться с обитательницей павильона Павлоний,– сказал он.– Она выразила желание познакомиться с вами. Она очень добра и достаточно молода, вам не придется скучать в ее обществе.
– Но я робею,– смутилась принцесса.– О чем мне следует с ней говорить?
– Это будет зависеть от обстоятельств. Ответ должен быть сообразен вопросу. Постарайтесь держаться свободнее, не стесняйтесь,– наставлял ее Гэндзи.
Он всегда хотел, чтобы женщины подружились, и со страхом думал о том, что принцесса может показаться слишком непонятливой и неразумной. Так или иначе, госпожа сама заговорила об этом, и вряд ли стоило противиться ее желанию.
Тем временем госпожа Мурасаки, готовясь к предстоящей встрече, терзала себя сомнениями. «Может ли кто-нибудь в этом доме быть выше меня? – думала она. – Разумеется, я выросла в бедном жилище, но это единственное, в чем меня можно упрекнуть...»
В последние дни она много занималась каллиграфией, с удивлением замечая, что из-под ее кисти выходят одни лишь старые, томительно-печальные песни. «Наверное, и у меня в сердце живет тайная грусть...» – думала она, глядя на исписанные листки бумаги.
Скоро пришел Гэндзи. Он только что виделся с принцессой и госпожой нёго. Эти юные особы были так прелестны, что после них любая женщина могла бы показаться невзрачной, а уж та, с которой вместе прожито столько долгих лет... Но, взглянув на госпожу Мурасаки, Гэндзи подумал: «Лучше ее нет на свете!» И это истинно так, в мире редко встречается подобная красота.
Госпожа Мурасаки была в самом расцвете лет, в движениях ее, во всем облике проглядывало удивительное благородство. Достоинство, с которым она держалась, вызывало невольное восхищение окружающих, а пленительная изысканность черт вряд ли кого-либо оставила бы равнодушным. Казалось, в ней сосредоточилось все самое изящное, самое привлекательное, что только есть в этом мире. В нынешнем году она была прекраснее, чем в предыдущем, сегодня казалась восхитительнее, чем вчера, красота ее никогда не могла наскучить. И Гэндзи не уставал изумляться, на нее глядя.
Листки с небрежно начертанными на них песнями госпожа засунула под тушечницу, но Гэндзи заметил их и вытащил. Совершенным ее почерк назвать было нельзя, но чувствовалось в нем подлинное изящество и благородство.
«Неужели ко мне
Скоро осень придет унылая? (290, 291)
Смотрю я вокруг
И вижу – зеленые горы
На глазах меняют свой цвет».
Обратив на эту песню особое внимание, Гэндзи приписал рядом:
«Птиц водяных
Изумрудно-зеленые крылья
Неизменно ярки.
Но взгляни – пожелтели уже
Нижние листья хаги...» (292)
Так, печаль, в последнее время снедавшая сердце госпожи, иногда вырывалась наружу, и Гэндзи умилялся и восхищался, видя, как она старается ее скрыть.
В тот вечер он был свободен и, дав волю своему безрассудству, снова тайком отправился туда, где жила Найси-но ками. Разумеется, он понимал, что не должен этого делать, и терзался угрызениями совести, но искушение было слишком велико.
Нёго Весенних покоев стала еще красивее за эти годы. Она любила и почитала госпожу Мурасаки, пожалуй, больше даже, чем свою настоящую мать. Да и госпожа привязалась к ней совсем как к родной дочери, и не было у них тайн друг от друга.
Они долго беседовали, радуясь возможности поговорить о радостях своих и печалях, затем открыли срединную дверцу, и госпожа Мурасаки встретилась с принцессой. Та в самом деле оказалась совершенным ребенком, поэтому госпожа говорила с ней по-матерински ласково и рассудительно, не упустив случая напомнить о связывающих их родственных узах. Призвав к себе кормилицу принцессы, даму по прозванию Тюнагон, госпожа сказала:
– Я не смею указывать вам на то, что наши прически украшены одинаковыми шпильками (213), но, как бы то ни было, мы связаны неразрывными узами, и мне жаль, что до сих пор не представлялось случая... Надеюсь, впредь мы не станем избегать друг друга. Буду рада видеть вас в своих покоях. Не сочтите также за труд поправить меня, если заметите, что я недостаточно внимательна к вашей госпоже.
– Принцесса рано осталась одна, лишившись опоры в жизни,– отвечала кормилица,– вы и представить себе не можете, как я вам признательна. Вот ведь и Государь, ее отец, удаляясь от мира, только и надеялся что на вашу доброту, на вашу снисходительность к ее юной неопытности. Да и сама она в душе полагается только на вас.
– После того как Государь удостоил меня столь милостивого послания,– сказала госпожа,– я постоянно размышляю над тем, чем могу быть полезна принцессе. Но, к сожалению, при моей собственной ничтожности...
С ласковой снисходительностью беседовала госпожа Мурасаки с принцессой, они говорили о любимых картинках, о том, как трудно расстаться с куклами... Словом, обо всем, что близко детскому сердцу. «Она и в самом деле совсем еще молодая и очень добрая»,– в душевной простоте своей подумала принцесса, и прежней робости как не бывало.
С тех пор они часто обменивались письмами и, встречаясь – как правило, в те дни, когда в доме на Шестой линии устраивались какие-нибудь празднества,– с удовольствием беседовали друг с другом.
Люди, всегда готовые посудачить о тех, кто занимает высокое положение в мире, сначала любопытствовали:
– Хотелось бы знать, как относится к принцессе госпожа Весенних покоев?
– Не может быть, чтобы господин питал к ней прежнюю привязанность. Наверняка ее положение в доме пошатнулось.
Когда же стало ясно, что привязанность Гэндзи к госпоже за последнее время не только не уменьшилась, а, наоборот, увеличилась, не преминули позлословить и об этом, однако, узнав, что женщины не проявляют никакой враждебности друг к другу, потеряли к ним всякий интерес и перестали судачить.
На Десятую луну госпожа Весенних покоев по случаю сорокалетия супруга отправляла дары будде Якуси[12]12
Будда Якуси (санскр. Вхайсаджьягуру-вайдурья). – Будда-врачеватель, принявший обет исцелять людей от болезней, продлевать срок их жизни, спасать от бедствий и лишений. Изображается чаще всего сидящим на лотосе с горшочком снадобья в левой руке.
[Закрыть] в один из храмов на равнине Сага. Зная, что Гэндзи всегда претила чрезмерная роскошь, она ограничилась самыми скромными приготовлениями. И все же изображения будд, шкатулки для сутр и украшения для свитков были так хороши, что при виде их невольно вспоминалась земля Вечного блаженства. Были проведены торжественные чтения сутр Сайсёокё, Конгоханнякё, Дзумёкё[13]13
Сайсёокё (полностью Конкомёсайсёокё, санскр. Суварна прабхаса-сутра), Конгоханнякё (полностью Конгоханняхарамиккё, санскр. Ваджра праджна пара-мита-сутра), Дзумёкё (популярное в Японии эпохи Хэйан собрание молитв о долголетии) – сутры, которые читались обычно в самых торжественных случаях, во время молебствий о ниспослании благополучия стране, о защите ее от бедствий.
[Закрыть]. По этому случаю собралось множество знатных вельмож. Убранство храма отличалось чрезвычайной изысканностью, все вокруг, начиная с багряной осенней листвы, радовало взор. Возможно, именно поэтому люди и оспаривали друг у друга честь присутствовать на этом празднестве.
По поблекшим от инея лугам разносился непрерывный грохот подъезжающих повозок, цокот копыт. Монахи получили щедрое вознаграждение – никто не хотел отставать от других.
На Двадцать третий день кончался пост[14]14
На Двадцать третий день кончался пост. – Пост продолжался все время, пока в храме шли торжественные службы.
[Закрыть], а как в доме на Шестой линии и угла свободного найти было невозможно, госпожа устроила праздничное пиршество в доме на Второй линии, который всегда считала своим. Она сама занималась подготовкой нарядов и прочего, а обитательницы других покоев охотно помогали ей. Во флигелях обычно размещались прислуживающие дамы, но госпожа временно перевела их в другое место, предоставив освободившиеся помещения в распоряжение придворных, приближенных высоких особ и многочисленной челяди из дома на Шестой линии.
В передних покоях главного дома, убранных соответственно случаю, установили инкрустированное перламутром кресло[15]15
…установили инкрустированное перламутром кресло. – В древней Японии для сидения обычно использовались плоские подушки, в кресле (иси) мог сидеть только император или экс-император, и то в особо торжественных случаях.
[Закрыть]. В Западных покоях поставили двенадцать столиков, согласно обычаю разложив на них летние и зимние наряды, спальные принадлежности. Впрочем, все это было скрыто от любопытных взоров роскошными лиловыми покрывалами из узорчатого шелка. Перед креслом стояли еще два столика, покрытые коричневато-красной тканью, которой цвет сгущался книзу. Подставка для головных украшений была сделана из аквилярии, серебряная ветка с сидящей на ней золотой птичкой поражала изяществом и благородством очертаний. Эта прекрасная вещь, присланная обитательницей павильона Павлоний, была сделана по заказу ее матери. Четырехстворчатая ширма, стоявшая за креслом, дар принца Сикибукё, отличалась необыкновенной изысканностью и, хотя изображены были на ней всем известные картины четырех времен года, горы, реки и водопады, привлекала внимание причудливой, своеобразной красотой.
У северной стены размещались две пары шкафчиков с обычной утварью на них.
В южной передней собрались самые знатные вельможи, левый и правый министры, принц Сикибукё и многие, многие другие. Можно сказать, что сегодня здесь присутствовал весь двор.
В саду, слева и справа от помоста для танцев, установили навесы для музыкантов; к западу и к востоку поставили восемьдесят коробов с рисовыми колобками, а также сорок китайских ларцов с дарами для гостей.
В стражу Овцы прибыли музыканты. Были исполнены танцы «Десять тысяч лет» и «Желтая кабарга», а когда день подошел к концу, громко запели флейты, загремели барабаны и один из танцоров начал танцевать корейский танец «На согнутых ногах». Как только музыка смолкла, Тюнагон и Уэмон-но ками, очевидно восхищенные столь необычным зрелищем, спустились в сад и повторили несколько прощальных па, после чего, к величайшей досаде зрителей, скрылись под сенью алой листвы.
Люди, сохранившие в памяти тот давний вечер, когда по случаю Высочайшего посещения дворца Судзаку был исполнен танец «Волны на озере Цинхай», невольно подумали, что Тюнагон и Уэмон-но ками вполне достойны своих отцов. В самом деле, они были почти так же красивы и изящны, пользовались не меньшим влиянием в мире, а по службе продвигались даже быстрее. Многие же, подсчитав, сколько лет прошло с тех пор, заключили, что, видно, существует какая-то давняя связь между обоими семействами, недаром сыновья так же неразлучны, как некогда их отцы.
Сам же хозяин едва не плакал от умиления, и мысли его устремлялись к прошлому.







