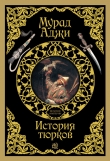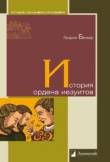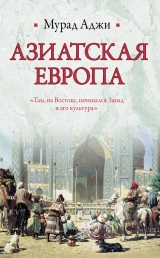
Текст книги "Азиатская Европа (сборник)"
Автор книги: Мурад Аджи
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 63 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Профессор С. А. Плетнева в книге «Половцы» так и пишет о «первом предательстве» кипчаков. Серьезное обвинение народу, пострадавшему от монголов!
Но ни первого, ни второго предательства, как выясняется, не было, они придуманырусскими историками, чтобы лишний раз очернить Дешт-и-Кипчак и весь тюркский народ. Никто не удосужился даже проверить достоверность рассказов о «предательствах» [62]62
Стоит, видимо, отметить, что выражения типа «предательство», «трусость», «вероломство» и т. д., которые едва ли не обязательны для российских исторических трудов о народе Великой Степи, не из научного лексикона. Это политические определения! Их и предлагали немцу Хаммеру, чтобы его работа выиграла конкурс Российской Академии наук… Как видим, научный скандал 1835 года хоть и забылся, но ничему не научил: обман продолжается поныне.
[Закрыть].
В летописи Ибн ал-Асира, на которого для убедительности ссылается и Плетнева, нет даже намека на «предательство» кипчаков, которые, может быть, показали себя слишком доверчивыми, слишком простодушными, но никак не изменниками… Видимо, настало время восстановить объективную истину о Великой Степи и ее народе. Хватит их ругать – не за что!
Следующую битву против монголов, 30 мая 1223 года, кипчаки вели вместе с русскими.Ибн ал-Асир рассказал об излюбленном приеме монголов, которые поспешно вроде бы отступали и, растянув силы соперника, быстро кончали с ним [63]63
Вот она, мудрость Чингисхана, вот его военный талант! Новая тактика боя, о которой на Руси не ведали.
[Закрыть]. Так было и на этот раз. «Отступающий» отряд вывел погоню на Калку, где ее поджидали главные силы монголов. Здесь и началась бойня… «Кто спасся, тот прибыл в свою землю в самом жалком виде, вследствие дальности пути и поражения», – написал мудрый араб.
А у русских опять всё изложено по-другому: в исходе битвы на Калке, оказывается, виноваты тюрки. Они одни! И вновь – предатели… Удивительное постоянство. Даже Карамзин не поскупился: «Малодушные Половцы не выдержали удара Моголов: смешались, обратили тыл…» Хотя любой здравомыслящий человек, прочитав такое, вправе спросить, а какой тыл может быть у преследующей армии, растянутой на десятки километров? Была же погоня!
Да и в «малодушии» ли кипчаков причина поражения? Если тот же Карамзин пишет, что два русских князя – Киевский и Черниговский – даже не вступили в бой. Испугались. Они отсиживались с дружинами в укрытии, а Мстислав Галицкий, руководивший битвой, оказался никчемным полководцем: этот главнокомандующий проиграл из-за собственной бездарности.
Упомянутая Плетнева от карамзинского «малодушия» пошла дальше, придумав кипчакам «второе предательство» и «бегство с поля боя». Но остановитесь, господа! Оставьте хоть каплю справедливости в своих измышлениях. Во-первых, не было поля боя. А во-вторых, разве степняки бежали?
Вот что писал о кипчаках-воинах англичанин Дж. Флетчер, которого мы уже цитировали (разумеется, речь не о битве при Калке): «Смерть до того презирают, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить неприятелю, и, будучи разбиты, грызут оружие, если не могут уже сражаться или помочь себе». И вот что он пишет чуть далее: «Солдат русский, если он начал уже раз отступать, то все спасение свое полагает в скором бегстве».
Так кто же бежал с Калки? Кто обратил тыл?
Оказывается, Мстислав Галицкий! Он. Очевидцы видели, как этот полководец, пожелавший «воспользоваться честию победы», убежал, бросив войско. Объявив себя русским предводителем, имея 80 тысяч воинов, проиграл монголам, у которых в строю было только 20 тысяч. Четырехкратное превосходство упустил!
И в гибели тысяч русских после проигранной битвы тоже виноват Мстислав Галицкий. Кто, как не он, перепуганный, мчался с Калки, а переехав Днепр, «велел истребить все суда, чтобы Татары не могли за ним гнаться». Так записано у Карамзина, который не мог скрыть правду. И добавить к его словам нечего… Спаслась лишь десятая часть русского ополчения, на поле сражения вместе с остальными легли 6 князей и 70 бояр.
Но не с этого поражения началось «татаро-монгольское» иго и исчезновение кипчаков как народа. Как фиксирует Ибн ал-Асир, да воздаст ему Аллах за благородную правду, битва на Калке имела нешуточное продолжение: оставшись без русских, тюрки не исчезли, не дрогнули, а, выждав время, они собрались и наголову разбили монголовнеподалеку от Итиля. Лишь жалкая горсть уцелела от монгольского войска, ее и увел обратно хан Судебей, покоритель Средней Азии и Закавказья.


Находки из курганов Древнего Алтая
Странно, не правда ли? «Малодушные», «трусливые», «убегающие с поля боя» кипчаки – и победители непобедимых монголов… А бедные русские об этом и не знали?
Или знали, но по своей давней привычке держали в тайне? К слову, и монголы об этом продолжении Калки не говорят, относя его к разряду случайностей. Может быть, и так… Но возвращался хан Судебей из Великой Степи налегке.
Теперь кажется понятным, почему француз де Кюстин предлагал «запретить чтение всех русских историков с Карамзиным во главе». Действительно, лучше уж оставаться во мраке неведения, чем жить рядом с ложью, обряженной в одежды правды. Издевательством звучат слова самого Карамзина: «История есть священная книга народов, зеркало их бытия и деятельности, скрижаль их откровений и правил, завет предков потомкам».
Русская «скрижаль откровений и правил», к сожалению, написана в традициях греческой историографии, где ложь обязательна. И не отсюда ли, от стараний сочинителей, у российских народов нет «завета предков»?! Не будем забывать, что по большому счету речь идет о памяти народа, о его культуре и просвещенности. Невежественный народ – это толпа. Спровоцированное наукой невежество – это государственное преступление.
На чистоте тюркских душ играли часто. Им лгали, а они верили… В XIII веке в этом преуспели монголы: во главе их войска стоял Чингисхан и кипчаки сперва не смотрели на монголов как на врагов. Но после битв на Кавказе и на Калке они увидели двуличие монголов, поэтому без жалости разгромили их. Поражение на Итиле было, как холодный душ: даже Чингисхан понял – открытого боя с Великой Степью он не выдержит.
Всё решил случай, как это бывало в истории народов.
Однажды Мангуш, сын хана Котяна, охотился в степи. В чистом поле ему встретился хан Аккубуль, давний соперник их рода. Им бы разъехаться!.. Вся история повернулась бы иначе. Но они не разъехались, сошлись. Словом, в поединке Аккубуль убил юношу. Едва только печальная весть долетела до Днепра, до владений хана Котяна, как он собрал войско Запорожское и пошел на Дон, во владения хана Аккубуля. Вдоволь погуляли на Дону запорожцы.
Раненый Аккубуль еле спасся, и, не найдя силы для ответного удара, он отправил брата Ансара к монголам за помощью. Тот и привел монголов на Дон.
Не вторжение, а именно ПРИГЛАШЕНИЕ в 1228 году – через пять лет после Калки! – стало роковым для Дешт-и-Кипчака. Монголы вновь обманули, птенцы из гнезда Чингисхана припомнили кое-что рассорившимся кипчакам, они не пощадили и Аккубуля – собирать войско тюркам было уже поздно.
Дешт-и-Кипчак при монгольском правителе получил на Руси новое имя – Золотая Орда. Из цветущей страны он потом превратился в захолустье Монгольской империи, которая держалась на кипчаках. И это была очередная нелепость в истории тюрков – ключи от своих кандалов они всегда носят в собственных карманах [64]64
Когда-то, прислуживая Риму и Византии, кипчаки сами, своими руками и рознью погубили империю Аттилы. И вот теперь – монголы. Всё повторилось вновь… История ничему не научила тюрков.
[Закрыть].
Два с половиной века монгольского рабства надломили тюрков как народ: многое само забылось, многое заставили забыть. Страх и желание выслуживаться медленно входили в кровь степного народа. Как собака тянется к руке хозяина, так и они потянулись к монголам, потом начали лизать руки москалям.
…Нет, все-таки хорошо, что слово «Дешт-и-Кипчак» стерли тогда с географических карт – меньше позора. А так исчез – и исчез… Правда, сейчас появились независимые Азербайджан, Узбекистан, Украина, Казахстан – законные наследники Дешт-и-Кипчака, его истории и культуры… Только вспомнят ли там о Великой Степи, о своей «стертой» Родине?
Власть монголов простиралась почти на все тюркские земли. Об этом ярко написал в 50-х годах XIII века персидский автор Джувайни в книге «История завоевания мира». Мимо этой книги, конечно, не прошел барон Тизенгаузен, который собирал все о Дешт-и-Кипчаке.
В рассказе Джувайни звучит восхищение доверчивыми кипчакскими «неудачниками», которым судьба уготовила тяжелое испытание, и они достойно держались, вызывая восхищение иранца. Не оказался скупым на добрые слова и автор китайского сочинения «История первых четырех ханов из рода Чингисхана».

Аппликация из тонкого цветного войлока на ковре (Древний Алтай). Типичный тюркогуз
Лишь в России не находили правдивых слов в адрес южного соседа, которого в XIII веке постигла страшная беда. При монголах восточноевропейские степи вдруг стали «древнерусскими». Так утверждает российская наука [65]65
Вторжение монголов в Дешт-и-Кипчак профессор Плетнева, например, трактует как «захват южнорусских степей»! Ни больше и ни меньше. Разумеется, не она одна придерживается этой официальной российской позиции.
[Закрыть].
Но когда, с какого года им принадлежали тюркские степи? В какой войне и с кем они завоевали их?
Вторжение монголов на Русь носило своеобразный характер. Вот текст тому в подтверждение: «До прихода монголов многочисленные русские варяжского происхождения княжества, только в теории признававшие над собой власть Киевского великого князя, фактически не составлялиодного государства, а к населяющим их племенам славянского происхождения не применимо название единого русского народа.
Влиянием монгольского владычества эти княжества и племена были слиты воедино,образовав сначала Московское княжество, а впоследствии Российскую империю (выделено мною. – М. А.)». Это слова известного монгольского историка Харадавана.
Выходит, монголы и создали Московское княжество, усилили его и ввели в свою политическую орбиту. Им нужен был союзник на севере Европы и одновременно противник Великой Степи. Союз монголов и русских очевиден еще и потому, что на Руси никогда не было ни одного(!) монгольского правителя. Русские князья всегда княжили сами… Увы, таковы факты, которые следуют из монгольских, да из российских, хроник.
Дань в первую очередь интересовала на Руси монголов, за ней раз в год и приходили они. А собирали ее мастерски!
От уплаты дани освободили Церковь. В 1270 году хан Менгу-Тимур издал указ, начинавшийся словами: «На Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и обижать митрополитов…» Хан Узбек расширил привилегии духовенства, введя для нарушителей смертную казнь «без различий, русский он или монгол».
Для сбора дани монголам и нужно было Московское княжество, которое они создали к XIV веку. Лишь в редкие годы передоверяли это дело тверским князьям. Так что ужасы о татаро-монгольском иге исходили не от мифических «татар». Своему «наместнику» на Руси монгольский хан вручил знак отличия – шапку.
Вот оно откуда – «тяжела ты, шапка Мономаха»… Ее подарили Московскому князю в XIV веке, когда город утвердился в роли сборщика дани. Великий хан вручил ее за верную службу своему наместнику на русской земле. С тех пор шапка – символ самодержавия на Руси [66]66
В конце XV – начале XVI века греки придумали легенду, по которой этот символ самодержавия якобы прислал византийский император Константин II Мономах Киевскому князю Владимиру…
Но это очередная нелепость.
[Закрыть]. Такая же шапка была у Великого хана и у других ханов.
Тогда же соседи-данники придумали слово москаль,им назвали «московских сборщиков».
Москва особенно преуспела при князе Иване I (?—1340), прозванном Калитой [67]67
Слово «Колита» – тюркское. «Кол» – рука, «ити» – собирать. Дословно «Собирушка».
[Закрыть].Великий был человек, настоящий политик, собиратель всея Руси, заложивший политические и экономические основы Московского государства. При нем открылась в Москве и митрополия.
Однако решающим в истории Московского княжества был все-таки 1472 год, тогда в Кремль привезли засидевшуюся невесту Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора. Свадьба Ивана III открыла Москве двери в Европу, делая княжество преемником уже не существующей Византии… Очень перспективный дипломатический ход, он принес Москве скорую свободу от власти Орды!
Не торговлей, не войной возвышалась Русь, а смиренностью к монголам и жестокостью к русским. Это вполне устраивало греков, метивших на место монголов на Руси… Московское княжество росло быстро, прибавляясь землями соседей. Ничто не останавливало его. Роскошь и распутство поражали приезжих. Город жил, питаясь «трупом общества», как точно выразился маркиз де Кюстин.
Англичанин Климент Адамс, посетивший Русь в 1553 году, был ослеплен великолепием княжеских палат: «Посредине палаты стоял невысокий стол… Тут было множество драгоценных вещей, ваз, кубков, большей частию из самого лучшего золота…»

Церковь в подмосковной Коломне (кипчакской Колломе – по-тюркски «охранение») – образец храмовой архитектуры Великой Степи. Такие же постройки сохранились в Казани, Астрахани и других городах, заложенных кипчаками
Блеск, правда, смущал тех, кто видел, как по соседству с Москвой умирали от голода и нищеты другие русские княжества. Иным князьям не оставляли средств даже на приобретение одежды, а народ ходил «из одной деревни в другую за угольком»… Это тоже не ускользнуло от острых глаз иностранцев.
Прежде только часть собранной дани Москва передавала Орде. Что-то причиталось ей за работу, что-то просто уворовывалось, а что-то бралось с населения сверх меры. Деньги в городе были. Потом вся дань с Руси уже оседала в кремлевских подвалах… Это заставило подумать о защите Кремля. О собственной армии!
Выплачивая дань, Московское княжество раньше покупало себе защиту. Как ни унизительна была та процедура, а она – плата за охрану границ. Например, Александр Невский не победил бы на льду озера. Пешие русские ополченцы (не армия!) побежали под улюлюканье «псов-рыцарей». Концовка сражения 5 апреля 1242 года осталась за конницей, степняки не дали врагам Руси ни малейших шансов [68]68
То, что приписали Александру Невскому, абсолютная ложь, она не согласуется, например, с историей Швеции и нынешней Финляндии. Невская битва происходила между этими странами. И – без участия русских! Русские с другого берега Невы наблюдали за ее концовкой. Среди наблюдавших был и Александр со своим дозорным отрядом (около полусотни всадников), а никак не во главе русского войска, потому что у Руси не могло быть войска. Она же дань платила как раз за то, чтобы ее защищали.
[Закрыть].
В начале XIV века монголы потребовали, чтобы русские отдавали им дань серебром. Но серебра на Руси не добывали. Пришлось изыскивать за границей. Так стали приобщать Москву к международной торговле. Московская Русь знала прежде только ярмарки – не торговлю, а обмен товаров [69]69
Безусловно, оценка автора о становлении торговли на Московской Руси кому-то покажется субъективной. И он вспомнит Садко, западных купцов, приезжавших в древний Новгород и Киев… Все так. Но это не Московская Русь! Московское княжество нельзя считать историческим правопреемником той же Киевской Руси или Белой Руси. Следовательно, нельзя и приписывать Москве их историю – это разные народы и разные страны. Пусть славянские, по терминологии российских историков, но разные. Например, монеты на Киевской Руси были с давних пор, а Москва узнала о деньгах только от Орды. Первые ее рубли были отрубленными (отсюда – рубль) кусочками серебряной проволоки, от которых отрезали мелочь – копейки. Между прочим, «копейка» – слово тюркское, в переносном смысле означающее «мелочь».
[Закрыть].
В столице Золотой Орды, Сарай-Берке, русские основали большую торговую колонию и повели торги под монгольской защитой. Свидетельством тому, насколько русская торговля обязана Великой Степи, служит перечень слов, относящихся к торговле, финансам, товару, его хранению и транспортировке. Все купеческое дело идет от тюркского корня!
Русских «торговых» слов просто не было. Сказанное видно даже в записках Афанасия Никитина. Конечно, он был не первым русским купцом, увидевшим заморские страны, но он первым написал о них. Видимо, до него купцы были малограмотными. В его записках тюркские слова стоят рядом с русскими. Но академическая Россия упрямо отвергает и это очевидное, называя двуязычие «макароническим языком». Мол, «тюркский жаргон служил разговорным в купеческой среде…». Даже явное подается с лукавством.
Но вот отрывок из текста Афанасия Никитина: в Индии же как «пачекътуръ, а учюзе-дерь: сикишь иларсень ики шитель; акечаны иля атрьсеньатле жетель берь; булара досторъ: а кулъ каравашь учюзъ чар фуна хубъ бемъ фуна хубесия; капкара амь чюкъ кичи хошь». На каком языке текст? Где здесь тюркский жаргон и русский разговорный язык?
А вот перевод: в Индии же как «малостоящее и дешевое считаются женки: хочешь знакомства с женкою – два шетеля; хочешь за ничто бросить деньги, дай шесть шетелей. Таков у них обычай. Рабы и рабыни дешевы: четыре фуны – хороша, пять фун – хороша и черна…».
В записках Афанасия Никитина тюркские и русские слова стоят рядом, они как правая и левая рука одного человека. Потому что рядом жили два народа, двуязычие было нормой в общении ученика и учителя.
Можно взять другие примеры. Везде одно: примеры взаимодействия кипчаков с московитами. Скажем, слово «казна»– прямое заимствование, деньги и таможняпроисходят от слова «тамга», обозначающего казенную печать, ставившуюся на товарах в знак уплаты пошлины. Червонец– от «ширвана» (золотая монета). Товарозначает «скот» или «имущество». Товарищ– «деловой партнер», «помощник». Пай, чемодан, сундук, торба…То же можно сказать о словах, относящихся к одежде купца-путешественника, – карман, штаны, шапка, колпак, кафтан, сапог, каблуки десяток других. То же о словах, относящихся к транспорту и связи того времени: ямщик, яма(почта), телега, бричка, избушка, тарантас.Даже слово «книга»– и оно заимствовано в пору, когда дремавшая Русь, сняв лапти, вышла на международный простор.
Вот что получили русские от «татаро-монгольского ига». И цветущую Москву в придачу!
Действительно, было ли «татаро-монгольское иго» на Руси? И каковым оно было?

Находка из курганов Древнего Алтая
Говоря о том сложном периоде, не следует упускать из виду и еще одно чрезвычайно важное обстоятельство – Москва выступала агентомОрды в среде северных княжеств. Вот что писали о ее нравах западные соседи: «Народ этот (московиты) хитрый и вероломный, неискренний и непостоянный; возвратившись в свое отечество и сделавшись там вождями (нашими), они с большой дерзостью опустошали наши области». Но у Руси были основания так вести себя: за ней стояли монголы, вселявшие уверенность. Московитам надо было показывать себя. И они показывали.
Отсюда – от ордынской поддержки! – и все успехи: захолустный городишко Владимирского княжества превратился в важный, бурно растущий город Монгольской империи. Аппарат управления в нем полностью повторял тот, что был у монголов. Собственно, он и строился по их образцу, с их участием… Ордынские традиции пустили здесь корни на века. Город задумывался для сбора дани, для подавления соседних народов.
Москве, чтобы управлять, подавлять, собирать, отнимать, забирать, требовались новые люди – чиновники. Их место занимали дворяне – люди служивые, знающие, верткие, большей частью переманенные из Орды.
В москали, точнее, в московскую бюрократию привлекали не заработки, а неограниченные возможности личной власти. Не сохой, не шашкой добывали они себе пропитание, а воруя, собирая взятки. Бюрократия – это устойчивейшее явление жизни России, пережившее всех и вся. Она наднациональна, внеполитична и тем вечна!

Кафтан кипчакского хана из Чингульского кургана (Запорожская область)
При каждой смене правителей москальство торжественно присягало: не покушаться на жизнь царя, «иного никого на Московское государство не хотелось видеть», не сноситься, не изменять, пресекать, доносить… И многое иное, остораживающее, включал негласный ритуал, застывший в формулах российского верноподданничества.
Оно ведет свое оформившееся начало с XVI века. При Алексее Михайловиче достигло зенита, а при Петре – отшлифованного совершенства, которое в дальнейшем не менялось: служилый люд России сменялся, но не менялись его привычки.
Русского бюрократа никто и никогда не учил делу дурному или скверному, до всего он доходил сам, демонстрируя блестящую самоорганизацию. Любое начинание исказит так, что добро станет злом, но злом – приносящим выгоду москалю. И в этом тоже вечность москальства. Формально оно – профессия по производству указов и повелений, которые, как волны в море, достигают самых далеких уголков страны и накрывают их рукой Кремля.
Держатели власти службу всегда ценили выше, чем национально-сословную принадлежность служащего. «История России – это история дворянства», – скажут о той эпохе историки… Словом, в Москву потянулись тюрки – иных приглашали, а которые приходили сами.
«Хитрый этот человек, – написано об Иване Грозном в трактате „О нравах татар, литовцев и московитян“, – назначал награду возвращающимся перебежчикам, даже пустым и бесполезным: рабу – свободу, простолюдину – дворянство, должнику – прощение долгов, злодею – отпущение вины». Лишь бы служили престолу… Но службой то, что делали перебежчики, все-таки назвать трудно: они не получали жалованья за свои старания! Какая же это служба?
Сперва им важно было угодить князю – научиться прислуживать, сносить любые оскорбления. «И если они сделают все по его желанию, то награждаются не деньгами, а местами начальников…» Фантастическая хитрость! Нет предела творениям «конторского человека». На одну должность сажали сразу двух претендентов: один должен был вытеснить другого усердием и доносами. А случись тяжба, ее решали на кулачном поединке. Существовало кулачное право. За место в Москве дрались.Проигравший платил штраф в казну…
Немало кипчаков переманила растущая столица Руси. Они в первую очередь и становились «москалями» – ехали служить, унижаться и драться за право унижать других. Добрая половина российского дворянства – это тюрки, выходцы из Степи. О чем говорят академические исследования, например «Русские фамилии тюркского происхождения» профессора Н. А. Баскакова.
Вместе с тюрками появились в Москве и ордынские традиции. Облик города быстро преображался: тюркская архитектура утвердилась и здесь.
Правда, сходства в архитектуре не удивляют: переселенцы, по традиции всех колонистов мира, несли на новые места имена покидаемых жилищ, их внешний вид. Москва переняла тогда многие монгольские институты, заимствовала у монголов вещи, которых у нее не было: налоговые ведомства, связь, средства подавления.
Средствами подавления были тюрьма, кандалы, кабалаи другие. Эти слова тоже пришли из Золотой Орды…


Находка из курганов Древнего Алтая
С учетом положения Москвы как агента Орды на Руси иначе прочитывается вся русская история. Например, почему Ивана Грозного потянуло в сторону Казанского ханства? Почему он завоевал Астраханское ханство, которое никакого отношения к Руси и к славянам не имело? Равно как и Западная Сибирь? Или почему он задушил митрополита Филиппа? Почему присвоил себе звание «царь»? Многое становится на места свои.
Да потому, что греки надоумили московского князя смотреть на себя и как на наследника монгольского хана!Нет, не случайно в Москве появились Софья Палеолог и ее многочисленная свита! Запад начал действовать. И действовать удачно… Иван Грозный увлекся настолько, что потерял голову, он не желал быть наследником византийского императора, хотя с известной натяжкой и мог бы. А видел себя только новым ханом. Его привлекала не мифическая власть в умершей Византии, а конкретная – в живущей Степи.
Он, писали современники, «вылущился от монгольского хана, как птенец из скорлупы». Казань и Астрахань «птенец» считал своими вотчинами, которые не платят дань ему, их повелителю. Начались сборы к походу на Казань.
В 1545 году русских, не имеющих ратного опыта, побили. Потом еще и еще. Наконец, наняв донских казаков, в 1552 году Казань взяли штурмом и утопили город в крови. Изуродованные тела детей, женщин, стариков для устрашения плотами спускали вниз по Итилю, названному уже Волгой – великой русской рекой.
Монгольский историк Харадаван, рассуждая в этой связи о монгольской политической культуре, сыгравшей «благотворную роль в русской истории», похоже, прав. В допетровской Москве «весь уклад жизни» носил именно отпечаток ордынского воздействия, «а ведь это то, на чем держалась старая Русь, что придавало ей устойчивость и силу», заключает автор.
Чиновник московского Посольского приказа Григорий Котошихин, бежавший в Швецию, тоже оставил сведения о той политической культуре в Московском государстве, когда Иван Грозный назвался «белым царем», то есть принявшим корону монголов.

Находка из курганов Древнего Алтая
Почему «белым»? Здесь своя нехитрая история. Отдавая старшему сыну Джучи во владение земли «до тех мест, до которых дойдут монгольские кони», Чингисхан велел вывесить белый флаг, а Дешт-и-Кипчак назвать Джучиево царство, его владыку – Белым ханом.
Русские правители, следуя этой традиции, в начале XVI века начали именовать себя титулом белый царь или белый хан,что прямо связывалось с «белой костью» [70]70
Ирония судьбы. Выражение «белая кость» есть дословный перевод (калька) с тюркского: «ак» – белый, «сюек» – кость, что означает «благородный».
[Закрыть]. То есть бахвалились родством с Чингисханом! Даже так Москва подчеркивала собственное превосходство на «всея Руси».
А Москва выказывала величие не на словах, она собирала армию чиновников – страшную и главную свою силу. Как отмечал Котошихин, до начала его службы дьяков было всего около ста, а подьячих тысяча, но к концу века канцелярская армия выросла до 4657 человек. Почти три тысячи из них сидели в приказах московских. Они и мутили воду. В них была та сила, которую боялись все. Воинство московское завертит, закрутит в бумажном водовороте любого.
Москва не только делами, но даже архитектурой повторила Сарай-Берке – столицу Орды. В ней сделали лучевую планировку: каждая улица начиналась от Кремля и дотягивалась до самой крайней, захудалой постройки, не упуская из виду ни большого, ни малого. Улицы уходили из города, становясь дорогами, связывающими столицу с окраинами… Взгляду, брошенному из Кремля, ничто не препятствовало. Бюрократическая паутина опутала город и всю страну.
Каменный Кремль построили в тюркском стиле, распространенном в Дешт-и-Кипчаке [71]71
Между прочим, и слово «кремль» было бы интересно для топонимики. На тюркском языке оно означало «крепость», «крепостная стена». А на русском?.. Впрочем, не исключено, что слово это пришло в тюркский язык из монгольского.
[Закрыть]. И в этом тоже не было случайности. Москва того времени мало чем отличалась от Казани или иного крупного города Степи: ее архитектура – шатровая! – была той, о которой еще во времена Аттилы рассказал византийский посланник Приск.
Впрочем, об архитектурном лице Москвы специально тогда не думали: было не до него, оно складывалось само собой, по аналогии с известным. А приехавшие тюрки знали только тюркское, «дешт-и-кипчакское». Его и строили. Приказы, конторы – вот что интересовало городскую власть. Не их внешний вид, а их внутренняя суть. Время было такое – смутное и бурное сразу.
Кремль желал пронизать территорию Руси новыми «рычагами управления и принуждения», привязать всех к Москве. Важно было любыми путями укрепиться в роли правителя, показать свою силу и незаменимость.
Показательны записки Поссевино, папского посла у Ивана IV. Царь убежден, писал посланник, что он – «могущественнейший и мудрейший правитель на свете», «наследник Монгольской империи»… (До царя Алексея Михайловича, то есть почти сто лет, Москва ходила в наследниках монголов [72]72
Этот исторический факт, видимо, не рассматривался в российской историографии, а в нем ответ на вопрос, почему Рим начал активное вмешательство в политику Руси? Вернее, почему так неожиданно закончилась династия Рюриковичей и началась династия Романовых, смотревших уже не на Восток, а на Запад? Кроме церковных проблем Рим волновали и другие: Европа не желала усиления Руси, она боялась нового нашествия с Востока и делала все, чтобы приручить возможного завоевателя, чтобы надеть на него ошейник и посадить на цепь… И это ей вполне удалось.
[Закрыть].)
Тогда и укрепилась за тюрками эта унизительная кличка – «татары», чтобы не путали их с новоявленными «белыми монголами». Каких только не появилось «татар» – волжские, тульские, крымские, сибирские, рязанские, донские, белгородские, кавказские и другие. Все кипчаки попали в «татары». Вернее, не все, а те, кто не пошел в услужение Москве, кто надеялся сохранить лицо и сберечь честь предков. Кипчаков-перебежчиков назвали уже по-новому – «русскими». Они и есть те русские, которые получились из татаро-монголов.
Англичанин Джером Горсей так и писал: «Царь и его люди, немилосердные татары…» Новым русским на Руси жилось очень вольготно, они были и грабителями, и судьями одновременно.

Казанский кремль хранит традиции тюркской архитектуры. Построен до взятия Казани (до XVI века)

Московский Кремль во многом унаследовал кипчакские архитектурные традиции – «шатровый стиль»
А русы, когда-то объявившие себя славянами, на глазах у всех превращались в монголов. И это им опять «удалось». Особенно при новом царе Симеоне Бекбулатовиче, тогда, в 1575 году, свои корни начал скрывать даже Иван Грозный [73]73
Новый русский царь Симеон Бекбулатович (?—1616) был сыном казанского хана, Иван Грозный пригласил его якобы разделить трон: на деле же была задумана грандиозная афера – на Саин-булата списали долги и обязательства Руси перед другими странами. Московская казна тогда пополнилась на целое состояние. А новому царю за участие в махинации дали Тверское княжество. Зато коварных «татар» все возненавидели стократ сильнее… Бедные Булаты, Ахматы, Мураты, они быстро вновь вспомнили свои русские имена.
[Закрыть]. Федор становился Булатом, Петр – Ахматом, Матвей – Муратом. Как память о тех безумных днях остались на Руси фамилии.
В «Сборнике материалов, относящихся к истории Золотой Орды» есть перевод из сочинения Ибн абдез-Захира, человека, сведущего в политике, он был секретарем египетского султана Бейбарса. Ему ли не знать тайн правителей, с которыми общался Египет?
Однако, прежде чем рассказать об этом отрывке, необходимо представить султана Бейбарса, личность величественную. Он – из тех тюркских детей, которых монголы продали в рабство на Ближний Восток. Там из мальчиков-рабов воспитывали воинов-рабов, мамелюков. К слову, предки маршала Мюрата были мамелюками. Мальчики показывали чудеса боевого искусства.
Одно из сражений закончилось тем, что Бейбарс взял власть и объявил себя основателем империи мамелюков, которая два с половиной века царствовала на Ближнем Востоке. Он, как истинный тюрк, всегда искал связи с родиной. И не только из-за ностальгического порыва. Однажды он разгромил монгольское войско, посягнувшее на земли мамелюков, теперь сам завязывал отношения с монголами.


Изображения фантастических животных из тюркских курганов словно перенесены на готические здания Европы
Записки секретаря султана как раз и интересны тем, что приоткрывают завесу над духовной жизнью Орды – она заботила султана-мусульманина. Он написал письмо хану Берке, который первым среди потомков Чингисхана принял мусульманство.
Из сообщений Ибн абдез-Захира видно, как трепетала стрелка на политическом барометре в Золотой Орде, занимая то одну, то другую позицию. Страх, любопытство и желание перемен лишали покоя хана. Он метался, желая найти в океане жизни тихую бухточку и покой.
Мечтая утвердиться в Степи на века, Берке искал дорогу к душам кипчаков, которые покоренными себя не ощущали (армия полностью была в руках тюрков и могла в любое время выйти из подчинения). Его предшественник, хан Батый, полагал, что если принять духовные ценности степняков, то кипчаки признают его своим законным правителем. Батыя также не оставляли мысли о христианстве в Степи, но римского или греческого толка, он не знал.
В христианстве, что его удивляло, существовало несколько течений, и каждое враждовало с другим. Кто прав?.. Христианская религия по одной этой причине не объединила бы Великую Степь, не удержала бы ее. Тенгрианство в представлении монголов-буддистов тоже имело свои «неудобства».
Хан Батый не нашел выход. Берке нашел: войти в мир Аллаха и монголам, и тюркам. Он даже столицу Золотой Орды заложил на новом месте, движимый чувствами «новизны». В принципе его решение было абсолютно верным.
Но кипчаки своих святынь без боя не отдали бы. Напряжение в обществе росло, а идея священной войны витала в воздухе. Мудрый Бейбарс поддержал монгольского правителя. Он побуждал его к «священной войне с неверными, хотя бы они были его родственниками».
В настойчивости, которую проявлял султан, чувствовалось, что этой войны он желает больше всех. Из Египта отправили в Орду отряд для помощи хану (и для разведки его сил!). Однако Бейбарс переусердствовал, что, впрочем, похоже на кипчака, не знающего чувства меры ни в чем.

Химера Нотр-Дама в Париже. Украшение здания в готическом стиле – продолжение тюркской художественной традиции
Вызывающую щедрость султана монголы расценили правильно. Они тонко почувствовали, что интерес Бейбарса к Орде кроется не только в его любви к религии. В конце концов он все-таки воин, а не мулла.
Подарки султана удивляли роскошью, главный – «Коран в обложке из красного атласа, расшитого золотом, в футляре из кожи, подбитой шелком; налой для него из слоновой кости и черного дерева, выложенный серебром». Царю также посылались «стрелы удивительной отделки, в кожаных футлярах; слуги; чернокожие прислужницы; попугаи удивительные, дикие ослы, несколько быстроногих коней, редкие нубийские верблюды, жираф» и многое другое, не считая горы драгоценностей из кладовых султана. Все это Берке принял. Однако, подумав, добавил, что он еще не прочно верит в Ислам.
«Султан вновь отправил послов к царю Берке, стараясь привлечь его на сторону Ислама». Завязалась политическая интрига, в нее вмешались греки и римляне, не желавшие усиления Египта и опасавшиеся мусульманизации Восточной Европы. Греки однажды даже захватили послов хана Берке и долго склоняли их к греческому христианству.