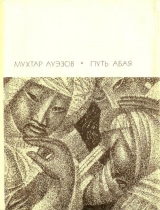
Текст книги "Путь Абая. Том 2"
Автор книги: Мухтар Ауэзов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 50 страниц)
Была пора, когда между аулами не было никакого сообщения, да и народ был изнурен голодом, поэтому, широко не оповещая о смерти Ербола, его хоронили только самые близкие родственники и друзья.
Как раз в эти дни, сидя около усопшего, Базаралы почувствовал, что и сам он тоже заболел. Стиснув зубы и собрав всю свою богатырскую волю, Базаралы преодолевал тяжелый недуг и продолжал распоряжаться похоронами.
В тот же день, приехав домой, он свалился. Его тело горело огнем. Только три дня сопротивлялось его ослабевшее, усталое сердце. Не успели даже самые близкие люди узнать о его болезни, как Базаралы скончался.
Услышав о новой потере, Абай вышел внезапно из своего безразличного состояния и громко зарыдал. Долгое время он не мог остановиться. Дух его рухнул, ему казалось, что его неудержимо влечет в бездонную пропасть. Долгие дни охваченный ядовитой, немой скорбью, в этот миг он пожелал в последний раз излить свою горечь словами.
– Кругом ограблен я жизнью! Стою одинокий, как могила шамана. Кто у меня есть и что мне осталось? – преодолевая многодневную свою немоту, зашептал Абай невнятно. – О злосчастное время мое, какой толькой пыткой ты меня не терзало?.. Есть ли еще яд, коего я не отведал?.. Смотрите в сердце мое, есть ли живое место на нем?.. В чем вина моя, тяжкий грех, чтобы так страдать безысходно?.. Или много мне и того, что все еще бьется печальное мое сердце? – Горькие мысли, пробуждаясь в нем, пробуждали и его самого…
Какитай, не выдержав муки Абая, заплакал и, чтобы скрыть свои слезы, выбежал вон из юрты. Рядом с Абаем остался один Дармен, который не сводил с него глаз, пристально следя за каждым его движением. А Абай продолжал, все глубже погружаясь в свою печаль.
– В безлюдной и бездорожной степи росло одинокое дерево. Оно жило многие месяцы, долгие годы. С надеждой и радостью раскрывало оно свои листья навстречу каждой весне… Каждый год цвело оно, и цветы опадали, а семена его ветер уносил в широкий мир… Много раз желтели, сохли и облетали его листья. Но дерево жило и плодоносило вновь и вновь. Но вот однажды молния ударила в одинокое дерево и расщепила его. Огонь опалил его ветви, уничтожил листья и семена. Поверженное, обугленное, сухое, оно обратилось к высокому синему небу: «Чем виновато я и перед кем? Разве я растило и сеяло зло и беду? Вот настала кончина моя, только ты было ее свидетелем, и к тебе мое слово. Ты видело и расцвет мой и гибель мою. Необъятное, отвечай! Пусть я умру, но останется ли жить потомство мое? Взошла ли юная поросль от семян моих, которые ежегодно уносил ветер? Хоть одно из них прорастет ли на дне оврага, потянется ли к небу молодою своей вершиной и, когда придет срок, отдаст ли земле плоды свои? В каком краю и в какие времена зашумят листвою сады мои, осеняя цветущие луга? Будет ли петь на ветвях от семени моего рожденных деревьев сладкогласый соловей, воспевая вечное цветение? В тени садов моих созреет ли новая пора счастливой жизни?! – Так, озаренный внезапно вспыхнувшим вдохновением, говорил поэт со своей судьбой. И так же внезапно умолк.
Оплакав дорогих ему людей высоким поэтическим словом своим, он снова впал в свой непонятный недуг. Дармен рассказал обо всем Айгерим:
– Боюсь, что в последний раз раскрывал нам Абай-ага великую душу! – И он поднес дрожащуя ладонь к глазам, мокрым от слез, которых он и не замечал.
Только передавая близким сказанное Абаем, Дармен вдруг начал по-настоящему постигать глубокий смысл его слов. Они раскрывались перед Дарменом, как песня всей жизни Абая, родившаяся в час смертельной борьбы в его потрясенной груди. А может быть, она слагалась годами, копилась по капле на самом дне его великого сердца, и ее появление на свет знаменовало собою второе рождение поэта? Пусть переданные прозой, даже в изложении самого Дармена, который мог ведь что-то и упустить, эти строки были так новы, так необычайны! Они превосходили все, что было создано Абаем до сих пор, исполненные истинного изящества зрелой мысли, подобные крупному жемчугу, извлеченному взволнованным морем из самой глубины бездонной пучины. В этих словах, как в слитке драгоценного металла, сгустился смысл высокой и самоотверженной жизни поэта и гражданина.
И, становясь соучастником вдохновенной скорби Абая, Дармен видел в нем самом это гигантское плодоносное дерево, всю свою жизнь щедро рассеивающее свои бесчисленные семена в открытых просторах голой степи.
Когда обратил могучий чинар свой дерзновенный вопрос к небу? В дни, когда молния сожгла его последние цветущие ветви, когда обнаженным остался его ствол. Только тогда изрек поэт свою грозную жалобу и свой приговор. Только три прекрасные ветви оставались еще у него. Первая – сын и поэт Магаш; вторая – любимец народа и друг Базаралы; третья – ровесник, от юных дней ставший родней всех родных, за всю жизнь не причинивший и тени огорчения, – светлый Ербол. Когда разом не стало их троих, чистым пламенем вспыхнуло сердце Абая и осветило мгновенно высокий его дух.
Дармен понял: своим вдохновенным словом Абай прощался навсегда, как друг, отец, гражданин и поэт с самыми близкими ему: Магашем, Ерболом и Базаралы.
Глубоко постигая, как только может постичь поэт поэта, образ, созданный Абаем, ясно увидев, что жизненный путь его названного отца окончен, Дармен впал в безутешное горе.
Абай теперь общается только с самыми близкими ему: Айгерим, Дарменом и Баймагамбетом. Они его одевают, сами приводят к столу и кладут ему пищу, но он почти ничего не ест. Если его выводят из дому, он беспрекословно, как малое дитя, подчиняется этим троим, покорно идет за ними. А эти трое – день и ночь неотрывно при нем, день и ночь в тревоге за него – поддерживают друг друга, делятся своими горестями, своими опасениями за Абая.
Когда пришло время кочевью уходить далеко от зимовки на Акшокы, люди потянулись к могиле Магаша, чтобы с ним попрощаться. Пришел туда и Абай с Баймагамбетом и маленькими сиротами усопшего. Он подождал, когда мужчины и женщины, заполнявшие ограду, уйдут, и вошел с детьми в надгробный мавзолей. Немного посидев вместе со всеми, он молча сделал знак Баймагамбету увести ребят. Посадив детишек в повозку, Баймагамбет терпеливо ждал. Два часа неподвижно просидел Абай у свежей могилы сына. Когда уже перед вечером он вышел на вольный свет, борода у него была совершенно белой, лицо землистого цвета, все тело расслабленное, изнуренное, словно он не сидел на одном месте, а пахал землю. Обратившись к Баймагамбету, он сказал коротко:
– Дни мои сочтены, нет мне исцеления, не считайте меня в живых.
Когда племянник или сын, Какитай или Акылбай, настаивали на том, чтобы привезти к нему доктора, Абай, отчужденно глянув на них, отрицательно качал головой. Он уже не нуждается во врачах. Все ночи напролет он лежит без сна. Лишь изредка произносит он одно-два бессвязных слова и вновь умолкает.
Три дня Айгерим, обливаясь горючими слезами, допытывалась у него: «Что с вами случилось?», «Что с вами, дорогой мой, мой сердечный?» Абай ничего не отвечал и ей. Только однажды поднял руку и ласково провел по ее голове, по лицу, по плечам.
Потом он тихонько поцеловал ее в глаза, из которых непрерывно лились слезы, и, как бы моля: «Ни слова больше», – сделал ладонью знак запрета. Абаю казалось, что мир раскалывается, рушится в хаосе.
Народ изнурен голодом, гибнет. Степные люди бродят без цели и без пристанища. То множество, которое именуется «народом», – самое святое для Абая, – разбрелось, рассеялось, перестало существовать. Надломилась опора жизни Абая – ушел Магаш. И сам он, Абай и его бытие, все обветшало, рассыпалось в прах. День за днем одна за другой покидают его душевные силы и способности.
Соответственно этому и тело его увядает, силы уходят, жизнь его изношена дотла. Многого он уже не чувствует. Его сознание как бы в дремоте, он не воспринимает того, что происходит вокруг. Поэтому и сон ему не нужен, еда тоже не нужна. У него нет слов, и как будто бы нет мысли.
Радость и горе, добро и зло, день и ночь становятся неразличимыми, сливаются в сплошной мрак.
И последними проблесками сознания он ощущает свое бытие изъятым из живой жизни других людей. Он снова плывет один в мутной, холодной, бездонной воде. И снова нет ей ни конца ни края. Только вдали, у небесной черты, едва различимая глазом, высится во мраке черная гора. А за ней – чуть приметная – занимается золотая заря. Она еще только едва брезжит, но чудится Абаю, что медленно и неуклонно разрастаясь, она уже приподнимает край ночи – вот-вот ослепительные лучи ее хлынут потоком и победят мглу. Всем существом своим устремляется Абай к этой далекой золотой заре, как к земле обетованной. А окружающий его холодный грозный мир влечет к себе, влечет в бездонную мутную пучину, где он должен угаснуть; утонуть, погибнуть. До последнего вздоха стояла перед глазами Абая далекая гора, за которой занимался рассвет, и он плыл, плыл к ней, напрягая последние силы. Так в густом сером тумане холодной предутренней поры великая душа поэта покинула мир. Абай отошел на следующий день, после сорокадневных поминок по Магашу.
Горячее биение большого сердца остановилось. Благородная жизнь, подобная обильной реке, несущей свои животворные воды через иссыхающую от жажады пустынную степь, иссякла. Могучий чинар, одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую высь, рухнул!
Эпилог
Приближалась осень. Возвращаясь с летних пастбищ, кочевые караваны снова перевалили Чингиз и потянулись один за другим в долины. На земле, где некогда родился Абай, на стоянке аула его матери, неподалеку от зимовки Жидебай, выросли высокие травы, настало время косить. Степь кругом пожелтела, одинокая возвышенность Ортена густо заросла седым ковылем, ее выгоревшие склоны побурели. Унылый вид увядающей природы представал образом обветшалого мира, напоминая о горестях минувших времен..
Эта желтая равнина говорит о горькой печали, о тяжком недуге края, иссохшего от жестоких бедствий и скорбных дум. Тихий ветер беспрерывно волнует ковыль, раскачивает густой чий, колышет зеленую траву Жидебая, низко пригибая их к земле – все в одну сторону, на север. Мягкий ветерок, непрерывно дувший с Чингиза, в теплые дни шел обыкновенно с юга.
Последние дни на опустевшем, безлюдном Жидебае, тихо дремавшем в забытьи, единственным живым движением было это непрестанное колыхание трав. Некогда здесь, на Жидебае, под крылышком старой бабушки Зере и доброй матери Улжан счастливо и беспечно, как маленький жеребенок, рос мальчик Абай. На этих каменистых бугорках и прогалинах, окруженных густыми зарослями высокого чия, он играл и резвился.
Теперь на склоне большого холма, к востоку от зимовки, возник просторный и высокий четырехугольный мавзолей, видимо, воздвигнутый недавно. Внутри, в левом его углу, находится старое высокое надгробие. Поверхность его выветрилась, но грани углов сохранились. На камне начертано имя Оспана. В середине лета возле могилы Оспана появилось еще одно новое, такое же высокое надгробие – здесь похоронен Абай.
Сегодня эти могилы посетили кочующие караваны многих аулов. С утра здесь побывало множество народа: матери и отцы, едущие во главе кочевья, ребятишки, скачущие на двухлетках-стригунах, пастухи и батраки, перегоняющие стада, – никто не прошел мимо.
После полудня к могилам потянулось все население аула Абая: мужчины и женщины, старики и молодые. Верхом, на телегах, а то и пешком – густой человеческий поток хлынул к мавзолею.
Просторный четырехугольный могильник, прохладный и обширный, начисто вытоптанный двор до отказа заполнились навзрыд плачущими людьми. Уже столько горючих слез было пролито со дня смерти Абая, столько высказано бессвязных, из сердца исторгнутых возгласов скорби и причитаний, что настала теперь пора родиться у этой могилы настоящему песенному слову об ушедшем, достойному его высокой жизни.
Когда рыдания людей, оплакивающих Абая, начали утихать, какая-то пожилая женщина громким и скорбным голосом завела поминальный плач. Отчетливо слышные всем, неоднократно повторялись в ее песне два слова: «Кос коныр, кос коныр» (двое смуглых).
– Кто это? Чей голос заводил плач? – спрашивали стоящие у входа пожилые люди.
Им отвечали:
– Зейнеп.
А женщины помоложе, оборачивались назад, шептали:
– Мулла-апа.
Зейнеп училась мусульманской грамоте. Она сама сложила свою песню, исполненную глубокой печали. «Двое смуглых» – так величала она своего давно умершего мужа Оспана и лежащего рядом любимого брата его, Абая. И, внимая скорбному голосу Зейнеп, люди долго и молча плакали.
Затем, когда стала утихать ее песнь, впереди, у самой могилы Абая, возник новый, необычайно мягкий, сильный высокий голос, который струился серебряными переливами. Это плакала прекрасная супруга Абая Айгерим, которую он любил всю жизнь, любил преданно и восхищенно. Долгое время молчавшая, эта удивительная певица теперь отдавала всю свою душу и все свое мастерство вдохновенной песне скорби.
В этой песне прощания были новые светлые думы, в ней было свое печальное изящество, доселе незнакомое слушателям. И слова ее были свежими, иными, не похожими на те, что произносились в поминальных плачах обычно.
Эти слова сложил Дармен, а волнующий грустью протяжный напев родился в сердце самой Айгерим. И эта вдохновенная песнь, которую без слез, чистым и ясным своим голосом пела Айгерим у могилы Абая перед лицом его родного народа, была не просто причитанием об ушедшем, одним из тех, что во множестве посвящались ему ежедневно. В ней дар поэтического слова слился со стихией прекрасной музыки. Соединившись вместе, сородичи сердца воздвигали поэту бессмертный памятник искусства.
То, что произносила сейчас Айгерим, никто еще и никогда не говорил об Абае. Устами его верной супруги сын народа Дармен обращался к Абаю от имени всего народа.
«Чем дорог народу Абай, за что его чтут люди? Его словами плакали обездоленные, горемычные матери. Его мыслями вооружались доблестные мужи. Его голосом молодежь говорила с будущим, отрекаясь от зла прошедшего, устремляясь к светлой надежде грядущего. Потому-то – не умер Абай!
Подумайте, можно ли сказать о нем: его больше нет? Может ли умереть, бесследно исчезнуть тот, кто оставил после себя бессмертное слово? «Великий человек, обращавший взоры свои в золотую высь, никогда не умрет, – говорил ты, Абай-ага. Пока будет жива на земле хоть единственная душа, дочь или сын народа твоего, в нем будешь жить и ты! – Впереди, у небесной черты, забрезжил рассвет», – говорил ты. – Значит, в нем разгорается и твой свет, в нем будешь и ты! Нет, народ благодарный твой смерти тебя не отдаст!
Когда с жалобным криком на Жидебае ты появился, чтобы жить, мать твоя Улжан под защиту тебя взяла. Это одна твоя мать – мир праху ее!
Сегодня приемлет, как сына, тебя другая бессмертная мать. Отчизна в далекую, светлую жизнь, в бессмертье тебя уведет. Есть дух, над которым смерть не властна. Такая душа у тебя!»
Так пела Айгерим у свежей могилы Абая, утверждая неувядаемую, вечную жизнь его в народе.
Чудесный голос скорбной певицы возводил прекрасный купол над гробом поэта. Песня трепетала, как белоснежные крылья лебедя, парящего в бездонной синеве неба, сверкающего золотом солнечных лучей. Не взмахи ли крыльев благородной птицы веют над склоненными головами людей? Не ее ли прощальная песнь раздается в сердцах плачущих? Тот, в чью душу вошла эта вдохновенная красота, сохранит ее в памяти на всю жизнь.
Так, в скорбный час расставания была спета последняя песня Айгерим. Вместе с этой песней навсегда замерли звуки прекрасного голоса, некогда опьянявшего Абая.
Печальная душа высокого искусства Айгерим угасла у могилы Абая, вместе с ним отошла в небытие. Если, по собственным словам ее, вместе с Абаем ушла из ее объятий любовь, то вместе с ним угасла в ее сердце искра песенного дара. Серебряный чудный голос певицы навеки замолк у нее в груди. Больше она никогда не пела. Потрясенный и бледный Дармен не сводил глаз с могилы Абая. Рядом с ним плакал сын Даркембая, взрослый юноша Рахим, а за ним теснились Усен, Мурат и Шакет, некогда желанные маленькие гости Абая.
И, чувствуя на себе их горячее дыхание, Дармен давал ушедшему пламенный обет: «Как золотой клад, буду беречь оставленные вами ростки будущего, отец… Драгоценные ваши семена». Он ни на минуту не забывал о последнем вдохновенном слове Абая, в тоске вопрошавшего безмолвное небо о судьбе рассеянных им по свету зерен грядущего… Теперь Дармен понял, что это было самой глубокой и важной тайной всей жизни Абая… Слушая Айгерим, Дармен мысленно искал ответа на страстную мольбу поэта.
«Нет, не погибнет твое семя, высокочтимый отец! Твоя жизнь не пройдет бесследно. Пусть сейчас еще нет широкошумной рощи, осеняющей цветущие луга, но по всей беспредельной шири степей рассеяны и взойдут твои семена, взрастут во множестве в невиданном доселе цветении. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами… Ради этого всю свою жизнь до самой смерти клянусь я беречь и лелеять драгоценные твои слова… Я оправдаю заботу твою, дорогой отец!»
Так в песне-плаче верной своей подруги Абай вступил в бессмертие. Песня Айгерим и произнесенные ее устами слова Дармена стали началом нового искусства, возникшего после Абая. Потому-то в этой песне и совершилось его второе рождение.
И как бы для того, чтобы засвидетельствовать это, к его могиле стекались все новые и новые люди из многочисленных кочевых караванов. Удрученные своей печалью, погруженные в свои мысли, Айгерим, Дармен и юные друзья Абая – семипалатинские школьники не заметили, как росла толпа у них за спиной.
Отцы и матери – бессмертный народ – принимали новое рождение Абая.
КОММЕНТАРИИ
Стр. 35. «У белого верблюда брюхо распоролось!» – народное выражение, свидетельствующее о наступлении радостного момента.
Стр. 37. Елюбасы – зажиточные и влиятельные люди, выбранные аульным сходом по одному на пятьдесят семейств и выбиравшие, в свою очередь, на волостном сборе нового управителя, а также биев (судей).
Чингисская волость состояла из двенадцати административных аулов — По «Временному положению» 1868 года, введенному царским правительством для управления Казахской степью, – волссть делилась но признаку общности территории кочевки на аулы, объединявшие от восьмидесяти до ста хозяйств. Во главе административного аула стоял аульный старшина, назначаемый волостным управителем.
Стр. 39. Курук – шест с петлей для поимки коней.
Стр. 42. Абыз – мудрец.
Стр. 43. Их проводили в Большом ауле Куканбая… – По обычаю, Большой аул – то есть значительную долю скота и имущества – наследовал младший сын.
Стр. 47. Видно, этот Шонка хочет стать онка! – Здесь обыгрываются слова Шонка (имя отца Кунту) и онка. Онка – игральная бабка, вставшая после удара битой неправильно – основанием кверху.
Стр. 49. Порядком ты заставил нас ждать, дорогой Кунту! – Здесь обыгрывается имя нового волостного. Кунту – буквально означает: взойди, солнце!
Стр. 51. Это был Арип, молодой акын из племени Сыбан. – Арип Танрибергенов (1856–1924) – известный казахский поэт.
Стр. 55. Тулпар – легендарный крылатый конь.
Стр. 68. Кияспай – упр-ямец.
Стр. 142. Борбасар – волкодав. Корер — зоркий.
Стр. 144. «Кок-шолак» – «серый-куцый» – так в казахских сказках зовется волк.
Стр. 160. Кимешек – головной убор замужней женщины, большой белый платок с вырезом для лица.
Стр. 167. Каргибау – подарок родителей жениха родителям невесты в день первого сговора.
Стр. 173. Тостик (правильнее: «Ер тостик») – герой казахской сказки, попавший в подземное царство и нашедший там после долгих приключений красавицу невесту.
Средний Жуз – распространенное деление всех казахов на три части (Жуза) – старший, средний и младший. В данном случае речь идет о казахах, населявших юг нынешней Семипалатинской области.
Стр. 176. Куянг – ревматизм.
Стр. 196. Ари-айдай бойдай-талай! – Обычный припев казахских песен.
Стр. 198. «Белый козленок» – творог со сливками.
Стр. 203. Сыбага – угощение, припасенное для особо уважаемых лиц.
Стр. 204. Недаром говорится, что друг, который задумал с тобой расстаться, попросит у тебя заднюю луку седла. – Иными словами, такой друг потребует невыполнимого.
Стр. 206. Коже – суп из пшена пли из толченой пшеницы, подбеленный молоком, – пища бедняков. Толкан – поджаренные зерна пшеницы, истолченные в порошок.
Стр. 207. Глядите, вон и матушке ходят! – так казахи называли русских женщин, искаженно выговаривая слово «матушка».
Стр. 212…это они про Жетису говорят. – Жетпсу – буквально: «Семь рек», то есть Семиречье.
Стр. 213. Архар – горный баран.
Стр. 223. Бакан – шест, подпорка в юрте. Айрылмас! – боевой клич, в переводе означает: «Не отпускай!»
Стр. 235. Когда наш народ, разоренный, несчастный, претерпевший «Актабан шубырынды», кинулся на север, он нашел у России защиту. – «Актабан шубырынды» – дословно: «Великое бедствие перехода босиком». Так называли казахи свое переселение с берегов Сыр-Дарьи в северные степи Арка в XVIII веке под натиском джунгар, когда большую часть пути народ прошел пешком.
Стр. 239. Аменгер – родственник умершего, обязанный, по обычаю, жениться на его вдове.
Стр. 240. Ас – большой, торжественный поминальный пир.
Стр. 249. Тюре – начальник, чиновник.
Стр. 255. Ерулик – угощение по случаю прибытия аула на новую стоянку, чаще всего – на летнюю, жайляу.
Стр. 268. …«у всех, кто носит малахай, общая честь»„.– то есть у всех мужчин честь одна.
Стр. 280. Суй ем и карыс — меры длины; суйем – расстояние между концами большого и указательного пальцев, карыс – большого и среднего.
Стр. 289. Давно надо было полечиться грязью! – Грязь – по-казахски «сор»; это же слово означает бедствие.
Стр. 291. Шербешнай – так называли казахи «чрезвычайный съезд».
Стр. 297. Ояз — начальник.
…будем с проклятьем бросать ему в спину горсти пыли… – По старинному поверию казахов, если врагу бросить в спину горсть земли, он больше не возвратится.
Стр. 312. Таксыр – начальник, господин.
Стр. 330. Кебисы – кожаные калоши.
Стр. 332. Шарши – головной платок.
Стр. 336. Алыпсатар – перекупщик.
Стр. 339. Забедейши – пристав.
Стр. 340. Имам – настоятель мечети. Хальфе – окончившие медресе ученые богословы, из них избираются имамы. Кари – духовное лицо, за «учившее наизусть весь текст Корана. Муэдзин – служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву. Фидия – отпущение грехов. Жаназа и хатым — поминальные молитвы. Айт – мусульманские годичные праздники: рамазан-айт, курбан-айт.
Стр. 342. Астагфиролла! Астагфиролла! – искаженное арабское выражение, означает: «Помилуй, боже!»
Стр. 343. Ясин уаль куранул хаким – первая строка одной из сур Корана.
…он читал наизусть священные тексты бухарским макамом… – Макам – манера чтения.
…он подумал о Сармолле… и вместо слова «кауман» произнес «калан». – Кауман – общество; калан – слово. Сказав одно слово вместо другого, священнослужитель искажает священный текст, что считается у мусульман большим грехом.
Стр. 345. Субханалла! – Великий боже! «Лаух-Намэ» «– свод молитв.
Стр. 347. Жамагат – общество. Минбер – возвышение в мечети, с которого произносится молитва.
Стр. 352. Не вас ли имел в виду хазрет Абуль-Аля-Магри… – казахская фонетическая интерпретация имени классика арабской литера-» туры Маарри (аль-Маарри), Абу-ль-Ала Ахмед бин Абдулла (973– 1057).
Стр. 368. Каляпуш – тюбетейка. Калфак — татарский национальный женский головной убор, вышитый бисером или серебром.
Стр. 370. Махшар – Судный день.
Стр. 371. Барабай – паровая мельница.
Стр. 373. Дивана — юродивый.
Стр. 374. Жайнамаз – молитвенный коврик.
Стр. 378. Хоб, хоб аст, бисияр хоб аст! – искаженные иранские слова, которые означают: «Хорошо, хорошо, очень хорошо!»
Стр. 379. Ля иллаха, илла-ллах! – начальные слова мусульманской формулы вероисповедания, означают: «Нет бога, кроме бога».
Стр. 382. Тылсым – наваждение. Охотши – искаженное обходчики.
Стр. 385. Дагуа — заключение.
Стр. 386. Жарапазан – обрядовые песни.
Стр. 390. Жесир – девушка пли женщина, за которую выплачен калым и которая является собственностью рода, за нее заплатившего.
Стр. 444. Туплик – кошма, которой прикрывают дымовое отверстие в крыше юрты.
Стр. 445. Туырлык — кошма, покрывающая юрту снизу. Торь — почетное место.
Стр. 450. Аза — особое приношение после смерти близкого человека.
Стр. 458. …взяточники-бии вроде Абдильды: продавая свою совесть «за круп коня» или «горбы верблюда»… – За круп коня – в переносном смысле: подкупить, подарить жирного коня для временной езды. Горбы верблюда – вид взятки: предоставить для временного пользования верблюда до исхудания его, то есть до истощения горбов.
Стр. 466. Макаржи – Макарьевская ярмарка, которая бывала в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький).
Стр. 473. Тускииз, сырмак, текемет – настенные ковры (с орнаментом, аппликациями, вышивками), которые иногда расстилаются и на полу.
Стр. 484. Уйсуны, дулаты – названия родов.
Стр. 497. Жоктау – плач по умершему. Шахрияры – четыре соратника Магомета: Абубакир, Гумар, Гусман и Али.
Стр. 500. Шырак – светик. Казахские женщины обычно не называли по имени родственников мужа, а давали вымышленные имена в знак особого уважения.
Стр. 507. Темир-казык (дословно: железный кол) – Полярная звезда.
Стр. 511. Уразды – тот, кому в жизни везет. При гадании на бобах у него всегда получается счастливый расклад, якобы предопределяющий большую удачу.
Стр. 519. Отay — юрта, в которой живут сыновья хозяина.
Стр. 520. Итжеккен – край земли, где ездят на собаках. Жерси-бир – Сибирь. Дословно: Земля сибирская.
Стр. 525. …они внимали рассказу тюре про Касым-хана, оставившего казахам «Лысую дорогу», и Есим-хана, оставившего «Старую до-рогу». – Здесь говорится о сводах старого обычного права: «Путь, проторенный Касым-ханом», «Старый путь Есим-хана». «Понятие обычного права включало в себя совокупность юридических обычаев, сложившихся у народа в течение длительного времени, известных в юридической литературе под именем адата, а также судебную практику биев, вносивших свои изменения в судопроизводство» (М. А. Ауэзова).
Стр. 529. Бухар-Жирау, Шортамбай и Дулат. – Здесь Абай упоминает имена известных акынов XIX века.
Стр. 536. Шла торговля «конским жиром» и «верблюжьим горбом», В этой торговле честью и совестью «верблюда проглатывали вместе с шерстью», а «лошадь проглатывали с головой»… – то есть верблюды и кони дарились навсегда.
Стр. 537. Каратаяк (дословно: «черная палка»); в переносном смысле – интеллигент.
Стр. 540. Астагпыралда! – Боже упаси!
Стр. 544. Аргын – самый сильный род у казахов, к которому принадлежал и Тобыкты. У аки считались слабым родом.
Стр. 545. Бэрекелде – одобрительное восклицание.
Стр. 546. Не желая называться жаман-тобыктинцами, они стали именовать себя «жокен». – Жаман-тобыктинцы – плохие тобыктинцы.
Стр. 602. «Албасин, лямга секин-альхисынхааль, ха мемге альхам, далтур-ду-алхамду» – бессмысленный набор слов, внешне напоминающий молитву.
Алдар-Косе – герой шуточных казахских сказок, острослов, плут и проказник, ловко обманывавший баев, имя которого переводится как «безбородый обманщик».
И. Дюсенбаев
Е. Лизунова








