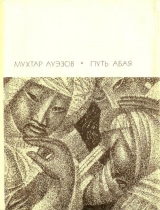
Текст книги "Путь Абая. Том 2"
Автор книги: Мухтар Ауэзов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 50 страниц)
По природе скромный и деликатный, Магаш не пишет отцу: «Приезжайте!» Но его желание видеть отца сквозит в каждой строке. Абай попробовал успокоиться, обдумать все обстоятельно, сел даже пить чай, но не смог. Сердце его колотилось, холодный пот выступал на лбу. Он то вставал, то садился, то снова вставал.
«Опять горе надвигается! Опять призрак смерти передо мной. Единственная радость жизни моей, только начав цвести, – уже вянет; опора утомленного сердца, ужели она надломилась? Только начали созревать плоды отцовского воспитания, неужели и он, Магаш, не успев ничего совершить, исчезнет?»
Когда домашние расспрашивали Самарбая о здоровье Магаша, Абай молча боязливо заглядывал ему в лицо. Чуткий и сдержанный молодой человек старался осторожно отвлечь отца от мрачных мыслей и, как бы отвечая на вопросы других, говорил ему о том, какую добрую славу приобрел Магаш, как его любят в народе, как благодарят за помощь.
А Абай, словно прося утешения, все смотрел на Самарбая печальными своими глазами, и тот, понимая молчаливую эту просьбу, спокойно и ровно рассказывал еще и еще. Однажды Какитай и Самарбай были у Магаша, к которому целый день ходили люди и до того утомили его, что последнюю тяжбу он разбирал уже лежа. Когда примиренные спорщики ушли, Какитай и Самарбай стали ему советовать: «Поезжай ты скорее домой в аул! Ведь здесь на тебя с утра до вечера целые толпы наседают!» Тогда Магаш им ответил: «Стоит ли предупреждать: берегись смерти. Все равно, когда настанет твой час, меч всевышнего судии тебя настигнет. А он и железо крушит». И Магаш продолжал: «Люди приходят ко мне и спрашивают: «Есть ли у тебя разум и справедливость? Где то драгоценное, что ты получил от доброго отца, тебя воспитавшего? Все отдай нам, залечи недуги наши!» Как же я им откажу? А кто мы такие сами? Что мы храним в себе? Хочу испытать свои силы!»
Самарбай запомнил одно изречение Магаша: «Золото, спрятанное скупцом, не лучше простого камня, скрытого под землей».
Абай с удивлением слушает слова сына. Он говорил, оказывается, и о том, как дорог каждый час жизни, как важно не потерять его напрасно. И еще запомнил Самарбай, как верно и метко сказал Магаш: «Каждое дыхание жизни – драгоценно. Но что поделаешь? Не в нашей власти остановить его или продлить. Сколько ни умоляй: «Не проходи, не кончайся!» – тихое движение минут быстрее бега самого лучшего скакуна».
Восхищение талантом сына, который мог бы стать поэтом и мудрецом, смешивалось в сердце Абая с жгучей тревогой о его судьбе. Всю ночь он ворочался в постели, не находя покоя, а наутро вместе с Дарменом начал спешно собираться в путь.
Мороз не сдавал. Все вокруг застыло в белом тумане. Но это не останавливало Абая. На дно его кошевки постелили толстую кошму. Тепло укутанный Абай сел спиной к ветру и со слезами на глазах попрощался со всеми людьми аула. Айгерим тоже плакала, и слезы тут же застывали на ее истомленном, бледном лице. И долго еще, когда сани, запряженные парой добрых коней, уже неслись по дороге в город, Абай видел перед своим мысленным взором печальные глаза жены, неотрывно глядящие на него с беспредельной любовью.
В городе Абай велел ехать прямо к дому Сулеймана, где остановился Магаш. В дороге он ничего не ел, не спал, все время находился в беспокойном мрачном раздумье, и теперь у него было изнуренное лицо тяжелобольного.
Услышав скрип саней, въезжающих во двор, и разглядев закутанного Абая, Магаш быстро накинул теплый бешмет и малахай и поспешил навстречу отцу, сердцем чувствуя тревогу и стремясь хоть на миг успокоить его. Под шубой на Магаше был сшитый городским портным тонкий чекмень, сотканный из верблюжьей шерсти и розового крученного шелка и отделанный коричневым бархатом. С бледным лицом, на котором горели большие черные глаза, со своей ладной небольшой фигурой, к которой очень пристали темный бешмет и высокий лисий малахай, Магаш показался Абаю очень красивым.
Абай сперва даже и не узнал одетого по-городскому жигита, пока тот не поздоровался нарочито бодрым, веселым голосом. Абай ожидал увидеть сына в постели, и теперь, глядя, как быстро он сбегает вниз по лестнице, слыша его звонкое приветствие, радостно подумал, что Магаш, наверное, поправляется.
Растроганный отец, неповоротливый от надетых на нем теплых вещей, еще на лестнице притянул к себе сына и тихонько поцеловал его в глаза. Идти рядом по узкому пролету было неловко, и Абай пропустил Магаша вперед. Тут-то он с тревожно забившимся сердцем отметил его замедленную, не по летам тяжелую походку. Мелькнувшая было на миг надежда снова угасла, но Абай и виду не подал. Весь этот вечер Магаш бодрился изо всех сил. Он делился с отцом своими раздумьями, рассказывал о городских впечатлениях, о чрезвычайном съезде. Старался развеселить Абая, остроумно высмеивая близких и дальних сородичей, тонко подмечая в них все ничтожное и смешное. И когда этот мягкий и доброжелательный молодой человек начинал говорить о дурных нравах и низких поступках степных аткаминеров, управителей и сутяг, его шутки начинали звучать горечью и злостью. И все же, обличая этих людей, он стремился быть справедливым и к ним, объясняя их гнусные дела не злою волею, а невежеством и темнотой.
За несколько месяцев, проведенных в городе вдали от отца, Магаш сильно изменился и словно вырос. Абай понимал, что он выдержал суровое испытание в борьбе, принимал и отражал множество ударов, вступал в схватки с сильнейшими противниками перед лицом многолюдных сборищ. Вдумчивый, хорошо образованный, обладающий внутренним чувством меры, Магаш, участвуя в чрезвычайном съезде, приобрел немалый опыт, понял всю сложность людских отношений и теперь не уступал любому видавшему виды деятелю и борцу.
Только сейчас Абай по-настоящему понял и оценил то, что ему рассказывали о Магаше люди, приезжавшие из города в Арал-Тобе. И чем больше переполнялось отцовское сердце гордостью за сына, тем более страстно желал он ему здоровья и долгой жизни. Хотя Магаш в этот вечер умышленно переводил разговор на другое, Абай не переставал выспрашивать его о болезни и докторах. Насколько сведущ тот врач, у которого лечился Магаш, можно ли на него всецело положиться? Считают ли его достойным доверия Павлов и его жена?
И Магаш терпеливо отвечал, что его лечит недавно приехавший в Семипалатинск доктор Станов, человек средних лет, опытный, образованный, вполне заслуживающий доверия. В эти дни он не только лечил Магаша, но и подружился с ним. А привел его и познакомил с Магашем именно Павлов. Станов очень внимателен. Отец убедится в этом, когда поговорит с ним сам, а потом они все вместе посоветуются еще и с Павловым и решат, как быть дальше. Он говорит это не в утешение отцу, он сам чувствует, что в его болезни нет ничего особенно страшного. Так в первый день встречи Магаш старался хоть немного успокоить, отца.
Однако и в эту ночь Абай не спал. Он напряженно прислушивался к каждому шороху, вздоху, покашливанию, доносившимся из дальней комнаты, где Магаш тоже лежал без сна на своей высокой постели. В глубокой тьме, отделенные друг от друга пространством нескольких комнат чужого дома, не видя, а лишь угадывая на расстоянии друг друга по едва уловимому шелесту, дыханию, скрипу, отец и сын мысленно беседуют между собой. От сердца к сердцу идет тревожная и опечаленная любовь: отца к сыну, сына к отцу.
В эту ночь Магаш понял, что, живя вместе с ним, отец не найдет покоя. Его нужно чем-то утешить, позабавить, отвлечь. Ведь даже самые могучие души иной раз нуждаются в утешении и доверчиво, как малое дитя, принимают минутную передышку. Теперь Магаш, поглощенный заботой об отце, уже не думал о себе. «Если со мной, не дай бог, что-нибудь случится, рухнет его опора, последняя его надежда развеется в прах. Выдержит ли он это, переживет ли?»
И при мысли о страданиях отца впервые за свою болезнь Магаш почувствовал, как тяжелая душная волна подкатилась к его горлу. Задыхаясь, он мучительно удерживал слезы, вот-вот готовые хлынуть из глаз.
На следующий день вечером он сам посоветовал отцу переехать к Кумашу. Абай привык останавливаться там. У Кумаша тихо, уютно.
Была суббота – день, в который учащаяся молодежь обычно приходила к Магашу с ночевкой. Теперь он, снарядив большие розвальни, всей гурьбой отправил ребят к Абаю. Это были любимцы поэта: возмужавший сын Даркембая – Рахим, и его неизменные спутники – Асан, Усен, Аскар, Максут, Шакен и Мурат, которые тоже сильно вытянулись, подросли. Была здесь и неразлучная пара гимназистов Кунанбаевых – ученики пятого класса Нигмет и Жалель, которым уже сравнялось по шестнадцати лет.
Рахим – самый старший. Он уже самостоятельно распоряжался своей судьбой: окончив русскую школу, поступил в учительскую семинарию, которая открылась в Семипалатинске в эту осень. Асан в этом году кончает пятиклассное городское училище. Учение им пошло впрок, держатся они свободно, уверенно. Они уже отпускают себе волосы, совсем как большие. Им очень идет опрятная школьная форма. Лица у них умненькие, серьезные и в то же время веселые, чистые руки прекрасно справляются с перьями и карандашами.
А Нигмет и Жалель становились взрослыми молодыми людьми. Считая себя знатными, белой костью, они теперь держатся еще высокомернее. Нигмет с его тяжелыми веками и темным лицом был особенно неприятен, когда смеялся: сначала презрительно выпячивалась вперед его толстая и красная нижняя губа, а потом уже открывался ровный оскал крупных белых зубов. В его острых, блестящих глазах всегда, даже когда он, казалось бы, открыто и весело шутил, проглядывало что-то холодное, азимбаевское.
Совсем чужим показался на этот раз Абаю сын Какитая Жалель. Черные, как уголь, и жесткие, как конская грива, густые, торчащие щеткой волосы придают его большой голове упрямое выражение. Если его высокий и выпуклый лоб свидетельствует об уме, то косые, настороженно глядящие из-под припухших век глаза говорят о том, что ум этот расчетливый и жестокий. Отсутствие ресниц на бледных вывернутых веках делает его взгляд еще более отталкивающим, а кривая усмешка, обнажающая мелкие редкие зубы, кажется неискренней. Маленький, пуговкой, нос Жалеля совсем не идет к его угрюмому, замкнутому лицу.
Юные Кунанбаевы не очень-то стесняются Абая. Им дела нет до того, что он поэт, мыслитель, уважаемый всеми большой человек. Куда бы они ни являлись, все должны их баловать, угождать им, на руках их носить. Им и в голову не приходило, что степной казах может быть равным им, городским гимназистам. А так как одеждой, повадками, всем своим обликом Абай внешне не отличался от отцов и дедов этих юнцов, они и его считали одним из необразованных степных казахов, не заслуживающих особого внимания. Когда Абай называет имена русских поэтов, говорит о русских книгах, стихах, они слушают его, снисходительно посмеиваясь. Они не могут простить поэту, который начал учиться уже взрослым человеком, его неправильного произношения некоторых русских слов. Все его рукописи, книги, разговоры о просвещении они считают пустой и скучной забавой малограмотного старика.
И сегодня в гостях у Абая они остались верными себе: потребовали большие подушки; бесцеремонно задрав ноги, растянулись с папиросами в зубах; шепотом переговаривались по-русски. Они болтали о гимназистках, с которыми знакомились на вечеринках, о хорошеньких дочках квартирных хозяек или не слишком строгих молодых женщинах и невестах. Отнюдь не жаждавшие серьезной беседы, они вскоре уединились в соседней комнате, и там, валялись рядом на высокой постели, хихикая, поверяли друг другу свои сомнительные тайны.
Совсм по-другому ведет себя молодежь, оставшаяся с Абаем. Школьники горячо сочувствуют его горю и изо всех сил стараются получше выполнить просьбу больного Магаша, отвлечь отца от печальных мыслей. Старшие, Рахим и Асан, слыша тяжелые вздохи Абая, особенно остро ощущают его сегодняшнее настроение. Даже самые маленькие, Шакет и Мурат, пытаются развлечь поэта, отвечают на его вопросы быстро, весело, подробно.
Усевшись вокруг большого чайного стола, ребята рассказывают о своем житье-бытье, но разговор, несмотря на все их старания, выходит далеко не веселым.
Сначала Абай расспрашивал их о том, как живут их родные – Абен, Сеит, старик Сеиль и Дамежан с Жумашем. Не голодают ли их семьи, достаточно ли зарабатывают отцы? Оказалось, что в эту зиму и городской бедноте приходится плохо. Отцы всех этих ребятишек вовсе ничего не получают – в городе безработица, а из-за этого нет ни одной рабочей семьи, где бы не нуждались, не голодали. Слушая толковые рассказы ребят, Абай подумал, что они повзрослели – обо всем рассуждают, все понимают, как большие. Сынишка Сеита Аскар говорил как умудренный жизнью заботливый отец семейства:
– Наверное, такого тяжелого года, как нынче, никогда еще не было, Абай-ага. Даже такой умелый, хороший рабочий, как мой отец, и тот не может семью прокормить. Если бы я не отдавал маме свою стипендию, говорит она, ей иной раз и хлеба не на что было бы купить.
Этот мальчик выкладывал все начистоту. Ему нечего было скрывать – всей душой своей, всеми своими помыслами и бытием он был связан с кровно близким ему трудовым людом.
И те, что беспечно хохотали там, в соседней комнате, что бы они о себе ни воображали, тоже были плотью от плоти своей богатой и праздной среды. Не порог комнаты – целая пропасть отделяла их от маленьких друзей Абая, глубоко тронувших душу поэта своим недетским пониманием неотвратимой беды и готовностью разделить общую участь, нужду и горе. И Абай ласково одобрил ребят:
– Правильно мыслите, хорошо поступаете. Надо всегда быть вместе с народом!
Ободренный искренним участием Абая, Рахим заговорил о положении всего трудового населения города.
– В этом году всем жить стало труднее – и казахам, и татарам, и русским. Говорят, причина в том, что с осени в город прибыло очень много переселенцев из России. Шли-то они в Джетысу, а как узнали, что там засуха была, неурожай, так и хлынули обратно в Семипалатинск. Все-таки большой город, надеются здесь прокормиться. А ведь у всех у них детишки, беднота, ни еды, ни одежды нету. А у нас тоже недород. Теперь, лишь бы детям с голоду не умереть, переселенцы эти согласны на любую работу – и по домам ходят и к баям подешевле нанимаются!
Асан еще добавил:
– И ведь как дешево-то! Здоровенный мужчина за чашку супа да за кусок черного хлеба батрачит. А баям чего же лучше? Для них даровые рабочие руки – одно удовольствие! Они прежних своих рабочих увольняют – вы, мол, очень дорого просите – и берут себе дешевых батраков.
Теперь Аскар, Максут и Шакет осмелели и тоже начали рассказывать о том, что слышали дома от взрослых.
– На кожевенном, на пивоваренном заводах и в Затоне тоже уволили старых рабочих и эти самые дешевые рабочие руки себе берут, – еле слышно, смущенно проговорил Аскар.
А Максут добавил рассудительно, совсем как отец:
– Артельные баями увольняются – это еще не диво! А вот подрядчики затонские тоже за ними потянулись. Моего отца и опять же дядю Сеита уволили, Абай-ага!
И Усен, который больше помалкивал, тут внезапно ворвался в разговор своим ломающимся баском:
– Вы все об одном толкуете! А разве дело только в этих русских переселенцах, мужиках? Были бы одни они – это бы еще ничего! Ведь в город-то из всех окрестных сел и аулов люди валом валят. Если у них неурожай, есть нечего, куда же им деваться? Вот они и идут к городским богачам за одни харчи. А баям только того и надо!
Абай спросил Шакета и Мурата, как живут их семьи и семьи соседей, жатаков ближней стороны. И внук Дамежан, курносый Мурат, блеснув острыми черными глазами, степенно, подражая бабушке, заговорил:
– Только бродяги, пришедшие из аулов Карашолака, Шоптигака и из жатаков Жоламана обивают пороги у баев, у доверенных приказчиков во дворах толкутся. Городской человек из-за рабочей своей гордости не пойдет за кусок хлеба да за чашку супа наниматься, – он привык за честный свой труд определенную плату получать, хоть бы и тот же пятиалтынный. Выходит, что теперь городскому человеку некуда податься. Вчера на бойне скот забивали, так из городских ни один не смог работы получить. Нет у нас заработков, прямо-таки нечем дышать!
Усен смотрел на Мурата, разинув рот от восторга: ишь ловко говорит, как большой! – и вдруг неожиданно засмеялся, а другие ребятишки, глядя на него, тоже заливались смехом. Иные смутились до слез, но остановиться никак не могли – слишком долго они сидели смирно и вели серьезный разговор! Краска бросилась Мурату в лицо, и он сердито пробурчал:
– Ну, чего хохочете? Разве я соврал?
В ясных глазах, устремленных на Абая, была обида и просьба о помощи, и Абай вступился за него.
– Дети, Мурат очень хорошо говорил. Того, что он рассказал, я до сих пор ни от кого не слышал. – И он продолжал расспрашивать мальчика о его отце– Жумаше, о соседях – Бидайбае, Жабайхане, бабке Шарипе.
Мурат рассказал ему и о том, как богатеи – мясники и торговцы – издевались над парнями и женщинами, когда они приходили просить работы: «Двугривенный за день тебе хватит!», «Может, такой важной особе этого мало?».
«Уж если не тебя, то кого же баю и нанять!», «Если бы приходила не чванясь, я бы к тебе на дом нарочного посылал!» Вот как насмехаются над беднотой Сейсеке, Блеубай-хаджи да Жакып с Хасеном. А их доверенные приказчики, вроде Отарбая и Карабая, если кто-нибудь из бедняков обидится, еще скажут с издевкой: «Ой, он меня своей обидой совсем доконал!» – всячески обругают и прогонят прочь со двора.
И последыш старого Сеиля, Шакет, рассказал, что отец и все вообще лодочники никак не могут найти поденной работы. Сейчас Сеиль с русским бакенщиком на пару промышляют рыбной ловлей на Иртыше, а то на салазках возят с острова хворост или сенцо, что летом собрали, и на базаре продают. Глядя на мытарства отца, Шакет понял, как крепко прижала эта лютая зима бедноту в городе и в аулах.
– Люди сказывают, тридцать лет такой студеной, опасной зимы не было, – говорил он. – Отец у нас пальцы на ногах поморозил, а другой раз щеку ознобил. Лицо стало черное. Первый раз в жизни с ним такое лихо случилось, раньше какой бы мороз ни был – не поддавался… В этом году зима опасная.
А Рахим, не ограничиваясь разговорами о переселенцах и недороде, сообщил Абаю слова Павлова, услышанные им от Абена.
Город стоит перед угрозой голода. Если виною этому переселенцы, то почему же они именно в этом году бросили свои насиженные гнезда и хлынули сюда, целым народом с места снялись? Дело в том, что в самой России этот год очень тяжелый. И там идут слухи о голоде. Вот царь, опасаясь, что скопление голодающих, недовольных людей в центре России будет угрозой его власти, и переселяет мужиков в такие края, где земли много, а народу мало.
Абай одобрительно кивал головой, слушая Рахима, который своей живой и пытливой мыслью верно схватывал самое главное. Абай подумал о том, что юноша растет стремительно, правильно растет! Недаром учится – думает о народе.
– Правильно, умно говоришь, Рахим, – начал было он, но его прервал Жалель, который, соскочив с постели, появился в дверях.
Оба гимназиста, прекратив свою болтовню, уже несколько минут прислушивались к речам Рахима. Засунув руки и карманы и оттопырив полы праздничного мундира, Жалель вразвалку подошел к столу. Его косые глаза смотрели на юношу из-под мясистых век насмешливо и в то же время испытующе, с опаской. Щеголяя своим хорошим русским произношением, он начал приставать к Рахиму:
– Ты что же думаешь, Российское государство боится каких-то там мужиков, без году неделя освобожденных от крепостной зависимости? Русское крестьянство привыкло к своему скотскому состоянию не со вчерашнего дня. Думаешь, мужик голода не видал? Чем говорить о том чего не знаешь и понять не можешь, молчал бы лучше!
Рахим хотел было ему ответить, но Жалель только рукой махнул.
– Довольно болтать! И слушать не хочу!
– Нет, Жалель, ты не прав, – возразил Абай неодобрительно. – Рахим верно говорит. Если большинство народа бедствует, голодает, правительство оказывается не только в затруднении, но иной раз даже в опасности, а потому вынуждено принимать меры предосторожности. Ты плохо разбираешься в этих делах и судишь весьма поверхностно.
И, повернувшись спиной к Жалелю, снова заговорил с Рахимом. Жалель хмуро и враждебно глянул на Абая, но не нашел что ответить и, повернувшись на каблуках, вышел.
В эту ночь Абай, уложив своих юных гостей в соседней комнате, оставил у себя Дармена и Баймагамбета. По обыкновению, они стелили себе постели на почетном месте. И пока они раздевались, Абай улегся на своей широкой деревянной кровати. Лежа на спине и широко распахнув ворот рубахи, он заговорил, как бы сам с собой.
– Давно я наблюдаю за сыном нашего Какитая, этим самым Жалелем, и никак не могу понять, почему именно ему решил отец дать русское образование? Неужели нет у него наследника более достойного?
Дармен, который весь вечер молча наблюдал за Абаем, любуясь, как хорошо беседует он с ребятишками, заметил, что Жалель его не на шутку рассердил.
– О Абай-ага, если этот для учебы не годится, так другие у него еще хуже! – Дармен засмеялся. – Вот хотя бы старший его сын Дархан! Я сам слышал, Какитай спросил однажды нашего Магаша, какого он мнения о Дархане: «Как думаешь, вырастет из него хороший человек?» А Магаш посмотрел на тупую физиономию этого Дархана и ответил отцу жестокой и правдивой шуткой: «Откуда ему стать хорошим, сам посуди! Я еще не видел порядочного человека с таким лбом, как у него. Один из великих русских писателей так сказал об одном своем герое: «У его чести медный лоб». Боюсь, что и сын твой вырастет в меднолобого». Какитай после этого разговора и отдал с досады учиться Жалеля вместо Дархана.
Абай невесело усмехнулся.
– Бывает, что учение перерождает человека, – заметил он в раздумье. – Может быть, и Жалель исправится. А коли нет, худо будет. Ведь не только русская гимназия его воспитывает, они – Кунанбаевы. Могут из них вырасти чванливые степные баре, хозяева драчливых и задиристых богатых аулов. Станут бедой для народа!
И Дармен с Баймагамбетом, которые крепко не любили Жалеля за его пустую спесь и грубое слово, во всем согласились с Абаем.
2
Магаш, крепившийся в день приезда Абая, начал быстро сдавать. Отец со страхом заметил, что сын часто задыхается. Чуть что, на лбу у него выступает липкий, холодный пот, редкий сухой кашель усиливается. Немало перевидавший всяких болезней на своем долгом веку, Абай встречался и с этой, особенно опасной для неокрепших молодых людей. Охваченный жестокой тревогой, все свои надежды он возлагал теперь на врача и лекарства. Ведь Магаш еще на ногах. Пока болезнь его не одолела, хороший врач мог бы спасти сына! Пусть нельзя вылечить больного совсем, но ведь можно задержать неумолимое движение болезни, хорошим уходом отдалить неизбежный конец. С ужасом сознавая, что жизнь сына в опасности. Абай упорно и страстно цеплялся за эту последнюю надежду.
Сегодня в полдень, сидя в гостиной Магаша, Абай с волнением ждет врача. Строго соблюдавший день и час визита, доктор должен вот-вот приехать. Вместе с ним обещал быть и Павлов.
Вот Федор Иванович уже входит вместе с человеком средних лет, небольшого роста, с приятным, пышущим здоровьем лицом, обрамленным окладистой и кудрявой русой бородой. Открытый взгляд, высокий умный лоб, уверенные, неторопливые движения доктора – все располагает Абая к доверию. Вежливо поздоровавшись, Станов, неожидая особого приглашения, уходит в спальню Магаша и плотно прикрывает за собой дверь. Павлов и Абай остаются вдвоем и, присев у письменного стола, тревожно думают каждый о своем.
На этот раз доктор надолго задержался в спальне. Он особенно внимательно выслушивал Магаша и внушал ему, как тщательно нужно беречься, как строго следить за собой и неукоснительно выполнять советы врача. Станов категорически запретил Магашу появляться на городских сборах, утомляться, предписывая отдых и тишину: больше лежать в хорошо проветренной комнате, меньше встречаться с людьми; соблюдать диету. Ожидая выхода Станова, друзья понемногу втянулись в привычную беседу. При первой их встрече в доме Кумаша им все время мешали посторонние посетители, и Павлов не мог говорить свободно. Теперь он воспользовался возможностью с глазу на глаз сообщить Абаю важные известия, полученные от товарищей из Центральной России.
Царское правительство сильно побаивается революции в этом году. Летом по внутренним губерниям России прокатилась волна крестьянских бунтов. Протест назревает и среди городских рабочих. Тайные силы, готовящие восстание, безусловно используют недовольство крестьян. Поэтому царизм лихорадочно ищет выхода из создавшегося положения. Правительство идет на всяческие уловки.
– Во-первых, оно стремится переселить на окраины малоземельных, разоренных дотла голодающих крестьян, которые уже бунтовали прошлым летом или могут взбунтоваться впредь. Темных этих людей бессовестно обманывают легкими посулами «Джетысу, мол, край богатый, земли много, хлеб сам родится – приходи и владей». Вот эти самые голодающие обманутые мужики и наводняют сейчас Семипалатинск. Недород в этом году не только в Джетысу и Семипалатинской области – он повсеместно. Что же получится, если среди этой и без того готовой вспыхнуть крестьянской массы разразится еще и голод? Стоит довести со сознания народа: «Все эти беды от несправедливого царского строя, от угнетателей и эксплуататоров, помещиков и царя» – и крестьяне скопом поднимутся на восстание. А это– грозная сила.
Сейчас особое значение приобретают революционные элементы, возглавляющие протест трудового народа. Угроза надвигается на царское правительство со всех сторон. Будущее становится неясным, оно чревато революционным взрывом. Поэтому царское правительство, не ограничиваясь усилением переселенческого движения, ищет способов отвлечь от себя недовольство и других слоев населения, в особенности городского пролетариата.
Есть слухи о том, что с этой целью русское самодержавие затевает войну с Японией. Ему, в конечном счете, не важно, с кем и из-за чего воевать. Важно, что война открывает широкие возможности для лживой псевдопатриотической пропаганды под лозунгом спасения отечества.
Народ наш еще темен и может поддаться на удочку такой пропаганды. Правительство, видимо, рассчитывает, и на то, что, когда угрожает внешний враг, внутренние противоречия сглаживаются и оппозиционные, враждебные самодержавию силы также, хотя бы на время, откажутся от революционной борьбы.
– Я думаю, Ибрагим Кунанбаевич, что мы с вами в ближайшее время услышим о начале войны между Россией и Японией. – Так заключил Павлов свое сообщение о необычайных событиях, назревавших в стране, и теперь перед Абаем в новом свете предстало все то, что ему рассказывали школьники о голодающих крестьянах, заполнивших город, и о бедственном положении местной казахской бедноты.
И у Абая возникла новая, пугающая своей неясностью мысль.
– Скажите, Федор Иванович, – спросил он неуверенно, – если… если все будет так, как вы говорите, если возникнет война между Россией и Японией, то кому же мы-то должны желать победы?
И Абай умолк, не решаясь довести свою мысль до конца, но Павлов ответил немедленно, без запинки:
– Если вы хотите знать мнение мое лично и моих товарищей и единомышленников, то мы желаем поражения русскому царю.
И хотя Абай ждал именно такого ответа, поначалу что-то в нем воспротивилось такой непривычной и безоговорочной постановке вопроса.
– Я не уверен, что вы правы, Федор Иванович! – поспешно перебил он Павлова. – Пожалуй, я даже готов с вами поспорить.
– О чем же тут спорить? – Павлов улыбнулся. – А впрочем, говорите– послушаем1
– Мы… – Абай приостановился. – Вы думаете, что я говорю только о себе, – я говорю о народе. Будь то русский крестьянин, степной казах или миллионы тружеников, населяющих города, – как, по-вашему, рассуждают эти люди? По-моему, каждый из них, думая о России, говорит: «Мое отечество, мое государство», – и хотя Абай впервые произносил эти слова, они прозвучали уверенно и твердо. – Как я могу желать его поражения? Каждый человек, кто бы он ни был, стар и млад, у кого есть сердце в груди, тот желает победы своему отечеству. Это же естественно, иначе и быть не может! – горячо воскликнул Абай.
Павлов выслушал его с полным спокойствием. Его долгом было разъяснить, убедить Абая в своей правоте.
– С первого взгляда ваши слова действительно кажутся правильными, – заметил Павлов. – Можно подумать, что каждый здравомыслящий человек смотрит на вещи именно так. Однако у народа, у всех тех миллионов людей, о которых вы говорите, не один только внешний враг – в данном случае Япония. Если признать, что Япония ему враг, то это враг далекий; а у него есть враги поближе, и, пожалуй, не менее страшные.
– А, вы говорите о самодержавии? – Мысль Павлова становилась Абаю яснее. – Да, конечно, самодержавие сильный враг народа.
И теперь уже Павлов не мог сдержать своего волнения.
– Да, это самый близкий, самый коварный и самый беспощадный враг трудового народа! – воскликнул он. – Но если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется, будет ослаблен. А силы революции вследствие этого возрастут, получат реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну, окрепнет, тогда наступит полный разгул реакции. Тогда революции уже не поднять головы, она будет отброшена на много лет.
Павлов не скрыл от Абая, что среди тех, кто называют себя революционерами, есть и такие, кто на словах всегда «вместе с народом» и «против самодержавия», а на деле в критический момент идут на сговор с реакцией, становятся агентурой царизма. В случае чего они будут отвлекать народ от дела революции болтовней о том, что вообще-то освободить Россию надо, но совершать революцию сейчас не время, рано, срок еще не настал. Так враждебные делу революции силы, пробравшись в ряды борющихся за свободу, стремятся подорвать их изнутри.
Павлов говорил об этом с гневом и возмущением, и Абай снова подумал, что вот и здесь, в этом святом и великом деле, как и везде, рядом с добром гнездится зло.
Но как бы там ни было, Павлов снова приносил Абаю радостную весть, вселял в его душу предчувствие победы нового. Непреклонная вера в конечное торжесто истины и добра звучала в словах Павлова. Он стремился поделиться с другом этой верой, вселить в него хоть частицу своей кипучей энергии. И он не только отвлекал Абая от его отцовского горя, он дарил ему надежду, которая проникала своим всепобеждающим светом в его окутанное мраком скорбное сердце.








