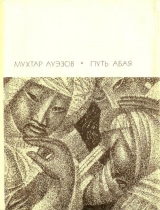
Текст книги "Путь Абая. Том 2"
Автор книги: Мухтар Ауэзов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 50 страниц)
Федор Иванович подождал, когда закончит говорить Абен, и сказал, одобрительно кивнув головой:
– Рабочий люд Затона только ждал случая, чтобы показать свою силу врагам. «Дело Макен Азимовой» как раз и явилось подходящим для этого поводом. Я советую вам, Абиш, послушать Маркова, он вам разовьет целую теорию на этот счет… Он даже своим товарищам написал, как рабочему классу для распознавания своего врага, пригодился, такой пережиток средневековья, как обычай умыкания невесты…
После чая Павлов сразу же, к большому сожалению Абиша, заторопился домой.
После его ухода молодежь предалась веселью. По просьбе Абиша Дармен взял в руки домбру и для начала исполнил новый, не известный товарищам кюй вступления. Играл он мастерски, извлекая из инструмента пленительные глуховатые звуки прекрасной мелодии, но слушатели ждали песен, и он, повернувшись к Абишу, с горечью заговорил:
– Вижу, вы хотите, чтобы я спел. Но вы ведь сами понимаете, какие песни я могу петь сейчас, в эти дни. Есть одна мелодия, которая звучит в моей душе, и я хотел, чтобы первой ее услышала Макен, если судьба даст мне возможность с ней свидеться. Но ты, Абиш, собираешься в далекий путь, и если я не открою тебе эту мелодию, ты уедешь, так и не узнав, что творится в моей груди.
Дармен с любовью обвел взглядом присутствующих:
– Если со мной нет Макен, то тут сидят ее верные друзья. Я открою вам то, что до сих пор хранил в своем сердце. Вы, конечно, не забыли сказку «Шаркен», которую нам рассказал Бака. Помните, о чем говорил своему мудрому другу Дандану израненный стрелами юноша Зукуль-Макан после гибели в бою своего брата – богатыря Шаркена: «Вот здесь, в сердце, мои раны внутренние, а на теле – наружные. Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я отвлекся и забыл о них».
Дармен замолк на минуту.
– Я тоже попробую забыться песней.
В голосе обычно жизнерадостного Дармена прозвучала печаль. Все молча, с горячим сочувствием смотрели на его тонкое лицо с густыми, как бобровый мех, бровями и задумчивыми черными глазами, в которых застыла тоска.
Певец тронул струны домбры и запел, раскрывая боль своего сердца, которая ни для кого не была тайной. Приподнятая, полная надежд мелодия парила быстрокрылой птицей, повествуя о клятве двух влюбленных и решимости их бороться за свое счастье до конца. Временами она перекликалась с мелодией Абая «Зеница ока моего», выражая неутешное горе разлученных сердец, горевших неугасимым пламенем бессмертной любви.
Дармен пел о верной дружбе, которая познается в беде, о неоценимой помощи Абиша и Магиш, пел о горькой судьбе своей и Макен, превратившей их в гонимых беглецов; он нашел доброе слово для товарищей, вставших на защиту влюбленных, помянул о Мухе, сраженном ударом шокпара и лежавшем в крови. С легкой добродушной насмешкой певец изобразил испуг Альмагамбета в памятный день схватки с врагами, вызвав веселые улыбки у слушателей.
Абен и Айша смеялись до слез, глядя на тщедушного Альмагамбета и слушая слова Дармена о нем.
А смущенный Альмагамбет принялся оправдываться:
– У Корабая кулак словно чугунная колотушка! Что бы от меня осталось, если бы он разочек стукнул!
А певец продолжал, поражая слушателей неожиданными переходами мелодии – от печальной, проникнутой безысходной тоской, к искристо-веселой, вызвавшей улыбки и смех молодежи.
Под глухие звуки домбры поэт изливал свое горе, он рассказывал, как видел во сне исхудавшую Макен, брошенную в бездонный зиндан.[110]110
Зиндан – темница, вырытая в земле.
[Закрыть] Он услышал ее жалобы и хотел крикнуть: «Я здесь, рядом с тобой», – но у него вдруг пропал голос. Он хотел спрыгнуть в зиндан, но не мог поднять руки, которая казалось, приросла к телу, хотел двинуть ногами, но они пристали к полу.
Дармен пел, а из глаз Айши, только что заливавшейся веселым смехом, капали слезы. Абиш не мог оторвать взгляда от вдохновенного лица друга. Ему показалось, что последняя песня чем-то перекликается с чудесными балладами знаменитых русских поэтов.
В последней песне, посвященной заточению Макен в доме толмача Алимбека, прозвучали особенно горькие, тоскливые ноты. Жестокий тюремщик стоял на пути акына, не давая ему даже на один миг увидеть любимую. Дом толмача оказался более страшным, чем глубокий зиндан, до заключенной не доходили ни жалобы Дармена, ни письма его. К каким только изощренным попыткам не прибегали Дармен и Какитай, чтобы послать весточку Макен! На днях они отправили ей платье, камзол и бешмет, с нашитыми на воротниках, отворотах и бортах амулетами. Сможет ли она догадаться, что под вышитыми искусной рукой треугольником запрятано письмо Дармена, написанное мелким, как бисер, почерком? Найдет ли возлюбленная этот крохотный листок?
Дармен пел о своей горячей любви, и молодежь словно чувствовала ее обжигающее пламя. Но вот певец, взяв последний аккорд, отложил домбру. В комнате воцарилась полная тишина, никто не проронил ни слова.
Гости снова сели за стол, и снова начался разговор о Макен, снова молодежь стала высказывать свои сомнения и надежды. Все старались в меру своих сил утешить Дармена:
– Макен догадается, почему пришиты амулеты!
– Она найдет твое письмо!
– Пусть сбудется, что ты задумал!
Прощаясь с Дарменом, Абиш крепко обнял его, поцеловал и сказал:
– Я страстно желал увидеть, как будут уничтожены на суде все преграды на пути вашего счастья и вы соединитесь с Макен навсегда. Но ничего не поделаешь, человек я военный и себе не принадлежу, надо ехать. Передай Макен мое сожаление, что я не смог присутствовать на суде.
В конце сентября, выполняя приказ своего начальства, поручик Ускенбаев выехал в Алма-Ату.
Холодные осенние дожди сменились снегопадами, суровые морозы сковали на Иртыше лед, наступил январь…
Макен, одиноко томившаяся в заточении, подсчитала, что с той ночи, когда она переправилась с Дарменом в лодке Сеиля в Семпалатинск, прошло ровно четыре месяца. За это время она всего лишь один раз покинула дом толмача Алимбека. Его жена Салима посадила Макен рядом с собой в сани и, накрыв ей голову черным чапаном, как это делали все татарские женщины, повезла к следователю окружного суда Злобину.
Толмачом при допросе был все тот же Алимбек, сухо переводивший вопросы следователя и ответы Макен. Девушка не доверяла ему, она неизменно слово в слово повторяла свои прежние показания, данные в присутствии Абиша.
Со времени этого допроса прошел месяц, и вот сегодня Салима вновь повезла ее в санях в окружной суд. Утро было ясное, холодное, под солнечными лучами ослепительно сверкал выпавший ночью снег. Макен с наслаждением дышала свежим морозным воздухом и с любопытством оглядывалась по сторонам. Горожане в полушубках и валенках торопливо шли в том же направлении, в каком Салима везла свою пленницу.
Выйдя из саней, подкативших к зданию суда, Макен заметила большое оживление. У дверей подъезда, на площади и даже на улицах, которые выходили на эту площадь, толпилось множество народа. Несмотря на то, что лицо ее было закрыто чапаном, Макен увидела, что в большинстве своем люди были одеты по-тобыктински. Она заметила а толпе баев в лисьих суконных шубах с широкими воротниками, городских купцов в татарских шапках и шубах на беличьем и енотовом меху и нескольких мулл в чалмах.
Среди этого множества людей Макен чувствовала себя словно среди глухонемых, не с кем было перекинуться словом, не видно было ни одного знакомого лица. Она надеялась увидеть здесь Абая, но его не было, и это сильно встревожило Макен.
Салима ввела девушку в здание суда и поднялась с ней по знакомой лестнице на второй этаж. В ту минуту, когда татарка открыла дверь, Макен услышала возле себя тихий голос Альмагамбета:
– Не робей, Макен! Заступники твои около тебя, Абай-ага тоже здесь!
Абай-ага!
От этого имени повеяло теплом, которого так жаждала изболевшаяся душа Макен.
Необычное для русского судопроизводства «Дело Макен Азимовой» окружной суд решил рассмотреть при закрытых дверях, в присутствии председателя и двух членов суда, без участия заинтересованных сторон. Не было здесь ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей, ни публики. Весь судебный процесс решено было ограничить допросом Макен, а затем вынести в порядке исключительной меры краткий приговор.
И вот Макен в сопровождении конвоира тихо вошла в светлую, просторную комнату с высоким лепным потолком и увидела большой стол, накрытый синим сукном, за которым сидели три человека. Посредине солидный лысый мужчина с окладистой русой бородой в золотых очках и с золотыми пуговицами на темно-зеленом мундире. Макен сразу догадалась, что это главный судья, что он будет решать ее судьбу, и она на него устремила свой взор. На двух помощников – одного высокого, черного, а другого седовласого, сидевших по обе стороны от главного судьи, девушка не обратила никакого внимания и только позже заметила толмача, большеглазого, чуть рябоватого грузного казаха, стоявшего возле стола, и секретаря, сидевшего сбоку за отдельным маленьким столиком.
Макен ждала от суда защиты, и потому главный судья показался Макен красивым и добрым, и она успокоилась, уверившись почему-то, что он не сделает ей зла. Она держалась скромно, но страха не испытывала, как, впрочем, не испытывала его за все долгие месяцы своего заключения. Ей самой это казалось странным, и она не раз задавала себе вопрос: «Почему же я не боюсь? Неужели разум покинул меня, и я уже просто-напросто ничего не чувствую?»
На деле Макен никогда не была трусихой, у нее была открытая, прямая душа, и в день кровавого побоища в доме Абена девушка твердо решила про себя «Теперь, что бы ни случилось, жалеть мне нечего. Не боюсь ни огня, ни ада».
И сейчас в ней укрепилась решимость стоять на своем до конца и ни за что не сдаваться. «Пусть лучше умру», – упрямо повторяла она и, сжав кулачки, вонзила ногти в ладони.
– Подойдите сюда! – мягко позвал председатель суда низким грудным голосом и поманил ее рукой. – Поближе!
Он поправил золотые очки на носу, стараясь получше разглядеть дочь степей, впервые переступившую порог судебного зала. Пока толмач переводил его слова, Макен, осторожно шагая по широкому ковру, дошла до середины комнаты. Высокая, стройная, в камзоле с тонкой талией, в тюбетейке, расшитой позументом, покрытой легкой шелковой шалью, она показалась председателю красавицей. Не без удивления он разглядывал ее смуглое с нежными чертами лицо, явно любуясь миловидной степной девушкой.
– Поближе, поближе! – приветливо говорил он, и когда Макен вплотную подошла к столу, накрытому синим сукном, стал задавать вопросы: как зовут, сколько лет, есть ли у нее отец, знает ли она грамоту.
Макен заметила, что секретарь, сидевший за отдельным столиком, записывал ее ответы, переведенные толмачом, и это почему-то внесло в ее душу полное успокоение. Она почувствовала себя настолько уверенно, что начала даже снисходительно посмеиваться в душе над вежливыми вопросами председателя: «Неужели за шесть месяцев не успели узнать, кто я такая? Пять раз допрашивали и задавали те же самые вопросы. Сколько исписали листов бумаги». Девушка искренне недоумевала: «Неужели они затеряли их?»
Председатель суда спросил, почему Макен убежала от Даира. Макен ответила коротко и решительно. С Дарменом она не желает расстаться и предпочтет умереть, если ее отдадут Даиру.
Председатель суда выслушал перевод толмача с бесстрастным выражением лица и начал разговаривать со своими помощниками на непонятном для Макен русском языке. Три человека, сидевшие за синим столом, совещались между собой, а Макен, с надеждой глядя на них, ожидала решения своей участи. А тем временем председатель суда говорил своим коллегам: «Слова этой казашки разумны. Она находчива, держится с достоинством. Видно, что ей нечего скрывать».
Решение суда было объявлено Макен через толмача тут же. Оно предоставляло казахской девушке возможность распорядиться своей судьбой по личному своему желанию.
Решив таким образом моральную сторону «Дела Азимовой», судьи так и не рискнули, однако, довести дело до конца и затронуть его материальную сторону. Спор об имущественных интересах, о возвращении калыма они передали на рассмотрение казахского суда биев для полюбовного согласия тяжущихся сторон.
Но Макен и не интересовалась имущественной стороной дела. Ей было ясно сказано, что суд отказывает Даиру, сыну Шакара, в праве насильно жениться на Макен Азимовой только потому, что он заплатил за нее калым. Девушке предоставлялась полная свобода в выборе жениха.
Как только решение было оглашено, оно сразу же стало известно всем казахам, переполнившим здание окружного суда и находившимся возле него на улице. Хотя в толпе и было много городских торговцев, великовозрастных шакирдов, мулл и толмачей – открытых сторонников Уразбая и Даира, сочувствие простого люда оказалось на стороне Абая. Лодочники с обоих берегов Иртыша, мелкие ремесленники, русские рабочие, а особенно затонские грузчики и степняки из аулов, окружившие Абая, Какитая и Дармена, шумно свидетельствовали о том, кого они поддерживают в этой борьбе.
Душа Макен ликовала. Пусть суд сам решает, как быть с калымом, ей до этого нет никакого дела. В ее руках драгоценная бумага, она дороже золота и алмазов, в ней на двух языках, русском и казахском, написано свидетельство о личной свободе Макен Азимовой. Красная сургучная печать освобождает ее от Даира! Девушка прижимает к груди плотную бумагу, а главный судья, поглаживая великолепную русую бороду, смотрит на нее из-под золотых очков смеющимися глазами: наверное, и судьям бывает иной раз приятно выносить решения, открывающие дорогу к счастью.
– Абай-ага!
Увидев самого главного своего защитника, Макен прикладывает руку к горлу, из глаз ее вот-вот хлынут слезы благодарности, она готова упасть на колени и целовать его ноги.
Но Абай подходит к Макен и, поздравляя ее, отечески протягивает обе руки.
Пять месяцев Макен не видела Абая, он ей кажется помолодевшим и каким-то необычайно светлым. На его лице играет довольная улыбка, тонкие брови словно поднялись, а глаза излучают радость и доброту. Правда, в усах и бороде заметнее пробивается седина – неумолимый признак старости, но сверкающие белизной крупные ровные зубы молодят его лицо. Абай обнимает одной рукой Какитая, другой Абена, широкая грудь его дышит восторгом. Он вспоминает первые мучительные дни, когда Есентай с угрозой приезжал к нему от Уразбая. Тогда он решил вступить в открытую борьбу со злодеями, – и сейчас с гордостью подумал, что эта упорная борьба наконец-то увенчалась победой.
Но в окружавшей их толпе были и такие люди, которые не сводили с Абая завистливых, мстительных глаз. Есентай подтолкнул локтем стоявшего рядом с ним Уразбая:
– Смотри, как возгордился! Возомнил о себе! Занесся. Уразбай, скрипнув зубами, злобно, как старый цепной пес, прохрипел:
– Пусть Ибрай торжествует! Пусть считает себя победителем! Мы еще встретимся… Я ему сторицей воздам все, что он заслужил! Только пока молчи…
И он многозначительно пожал руку Есентаю.
Абай договорился с Алимбеком, чтобы тот отпустил Макен с Какитаем, а потом вернулся в суд уладить формальности по второй части решения. Вопреки ожиданиям враждебной стороны, он оказался очень сговорчивым, заявив председателю суда:
– Все имущественные претензии Уразбая и Даира по делу Азимовой будут удовлетворены а бесспорном порядке!
С помощью ловкого краснобая, бельагачского казаха Айтказы, взявшего на себя обязанности посредника между сторонами, Абай быстро и успешно завершил переговоры, поставив в тупик Уразбая и его приспешников, полагавших, что спор из-за калыма разгорится с новой силой.
Еще пуще обозлившийся, ненасытный Уразбай потребовал уплаты штрафных. Абай не стал возражать и даже сам предложил уплатить две «девятки», уничтожив таким образом последний повод к новым распрям.
Так завершилось «Дело Макен Азимовой», на полгода сделавшее Абая и его многочисленных друзей жителями Семипалатинска.
Но спор из-за нежной возлюбленной Дармена, чреватый тяжелыми последствиями, надолго остался в памяти народной под названием, данным ему врагами: «Смута из-за девки Макен».
Что бы ни делали и ни говорили в разбойничьем стане Уразбая, по-новому сильно и горячо разгоралась любовь Дармена и Макен, прошедшая очистительный огонь разлуки и страдания. Какитай, освободивший девушку из дома Сарманова, никуда не заезжая по пути и никого не предупреждая, сразу помчался с нею в Затон.
Дармен, больной от своего безысходного горя, привыкший к печали разлуки, сразу даже и не понял, кто неожиданно возник перед ним в сумеречной комнате Абена. Ему и в голову не приходило, что Макен могла появиться здесь в ту пору, когда он изливал свою неизбывную тоску по ней в задушевном «Кулак-кюе», негромко перебирая чуткие струны домбры.
Какитай лишь слегка подтолкнул девушку вперед, а сам отступил и скрылся. Не проронившая ни капельки слез в часы самых тяжелых бед и испытаний, теперь, в объятиях Дармена, Макен дрогнула и залилась слезами. Целуя ее и плача сам, Дармен глотал ее слезы, остывающие на еще холодных с мороза щеках.
Не только в эти первые минуты после разлуки, но и в самые безмятежные часы своей любви они часто и подолгу молчали, – их переполненные сердца не нуждались в словах. И теперь, не давая Макен времени снять шубку, Дармен притянул ее на корпе, постеленное на ковре, и прильнул к ее лицу немым поцелуем.
В этом поцелуе была и благодарность за спасение и мольба о счастье. Неведомо к кому обращенная, она была искренна и горяча, само спасение от всех зол мира.
А Макен, вначале словно чуть отвыкшая от Дармена, скованная долгими месяцами одиночества и замкнутости, робко, шаг за шагом выходя из своего оцепенения, дрожащими губами тихонько приникла к любимому.
В КРУЧИНЕ
1
Вечернее солнце скрылось за облако, когда Абай и Дармен перевалили через Коныр-адыр и добрались до зимовки на возвышенности Молалысу. Угасал хмурый осенний день. С утра неистовствовал холодный, пронзительный ветер, загнавший жатаков в дырявые черные юрты и лачуги. В обветшалом ауле, вконец оскудевшем, почти не заметно признаков жизни. Порою из-за юрты выскочит с визгливым лаем тощий щенок или пробежит голодная сука и сразу же скроется за лачугой. Изредка заструится синий дымок из-под тундика[111]111
Т у н д и к – верхнее покрывало юрты.
[Закрыть] какой-нибудь юрты и исчезнет, развеянный ветром. Ни единой души не видно за аулом. Лишь одинокая женщина, сидя на корточках возле коровы, цедит скудный удой молока.
Два всадника, никого не беспокоя расспросами, безошибочно нашли нужную юрту. Дармен часто бывал в ней и хорошо запомнил заплату из новой красной кошмы, наложенную на старом туырлыке.[112]112
Т у ы р л ы к – нижнее покрывало юрты.
[Закрыть] Правда, яркая заплата выцвела, истерлась, покрылась копотью, но форма ее осталась прежней.
Никто не обратил внимания на приезжих, никто не вышел к ним навстречу. Абай оглянулся и заметил двух лошадей, пасущихся невдалеке. Он узнал белоногого темно-серого коня Ербола. Вторая лошадь принадлежала Базаралы. Когда-то она была отличной масти – серая в яблоках, а теперь превратилась в сивую, с грязно-бурыми пятнами.
При мысли, что он сейчас увидит старых друзей, у Абая потеплело на душе и словно начала проходить усталость от долгой и трудной дороги.
Белогрудая черная сука и черномордый серый щенок никак не давали Абаю войти в юрту. Они с неистовым лаем преграждали ему дорогу, то забегая вперед, то норовя схватить его за плетку или за полы чапана. Дармен привязал коней и поспешил на помощь Абаю. Криком отогнав собак, он открыл перед поэтом дверь юрты.
Никто не обратил внимания на вошедших, никто не шелохнулся и не подал голоса. Казалось, в юрте не было ни одной живой души. Трудно было допустить, что ее обитатели не слышали неистового лая собак, поднявших переполох при появлении верховых.
Оглядевшись, Абай и Дармен поняли причину странной неприветливости хозяев. С левой стороны маленькой мрачной юрты, на старой кошме, расстеленной прямо на земле, лежал больной. Двое мужчин и женщина, сидевшие возле постели, не сводили с него глаз, словно застыли в неподвижности. Абай и Дармен сразу поняли все, тихонько подошли и молча стали позади сидевших.
Но тут мужчины, – это были Ербол и Базаралы, – заметили приезжих, поднялись, засуетились. Тихонько поздоровавшись с Абаем, они освободили ему торь.[113]113
Т о р ь – почетное место.
[Закрыть] Женщина даже не пошевелилась, она продолжала сидеть безмолвно, в прежней позе; по ее щекам медленно и непрестанно текли слезы.
Ответив на приветствие Базаралы и Ербола, Абай спросил, как чувствует себя больной. Тот, должно быть, услышал этот вопрос и через силу сделал знак женщине. Она низко склонилась, приблизив свое лицо к нему.
– Абай, – прошептала она, – Абай и Дармен приехали! Повернувшись к гостям, женщина тихо сказала:
– Спрашивает: «Кто приехал»? Язык отнялся, а сейчас снова заговорил…
И она еще пристальнее стала всматриваться в осунувшееся лицо больного.
Базаралы шепнул Дармену:
– Раздевайся и подойди к нему поближе. Даркембай все время вспоминал тебя. Наверное, что-то хочет сказать…
Дармен снял чапан и, оставшись в бешмете, занял место женщины. Абай, сбросив малахай, тоже приблизился к изголовью больного. Они оба наклонились над ним, касаясь друг друга головами.
Ербол подбросил сухого кизяку в очаг и принялся раздувать огонь. Вспыхнувшее пламя алым блеском озарило лица Абая и Дармена. Теперь, при свете костра, можно было хорошо разглядеть белую длинную бороду Даркембая, заострившийся крупный нос, узкие, полуприкрытые глаза и поседевшие взъерошенные брови. Сломленный недугом старик разглядывал склонившиеся над ним лица и как будто улыбался.
– Ты, Абай? – спросил он едва слышно, чуть шевеля губами.
Абай, как бы предваряя его желание, коснулся лицом бороды умирающего. Даркембай еле заметно кивнул головой и притронулся губами к щеке, лбу и уху Абая, словно целуя его.
Крупные слезы выступили на глазах Абая и тяжелыми каплями упали на щеку старика.
– Бесценный друг мой! – прошептал Абай, с трудом сдерживая рыдание. Жгучая тоска терзала его широкую грудь, исполненную живой любовью к умирающему.
Жаныл беззвучно зарыдала. Не сдерживая горя, заплакал Дармен. Ербол, сидевший поодаль, глядя в страдальческие глаза Абая, тяжело вздохнул. Низко склонив большую голову, Базаралы молча предавался печали. Три глубоких борозды на его широком лбу казались подвижными, – подброшенный в костер кизяк вспыхивал ярким пламенем, резко оттеняя беспощадные следы пережитого горя.
Собирая остатки последних сил, умирающий пошевелил бровями, подзывая к се6е Дармена. Юный жигит еще ниже опустил лицо и коснулся щекой дядиной бороды. Даркембай на мгновение задержал взгляд на лице Абая и с трудом перевел узкие глаза на племянника. Силы оставили умирающего, но его сознание было ясным.
– Абай… выполнил… свой долг! – раздался его тихий шепот.
Друзья, окружившие умирающего, поняли значение этих слов. Они вспомнили, как Даркембай привез одиннадцатилетнего Дармена в Семипалатинск к Кунанбаю, собиравшемуся ехать в Мекку. У мальчугана болели глаза, и голова его была наискосок перевязана грязным платком. Обратившись к Кунанбаю, Даркембай сказал, что богатый аксакал в долгу перед мальчиком-сиротой. Но Кунанбай оттолкнул сироту, тогда Абай, взглянув на юного Дармена, дал клятву справедливого человека: «За отца я в долгу перед тобой!»
Не зря вспомнил этот случай Даркембай. Базаралы и Ербол кивнули, словно в подтверждение слов умирающего. Оба они подумали об одном и том же: «Кем был тогда Дармен и кем он стал теперь? Кто не назовет его сыном Абая? Разве не сделался для него Дармен ближе, роднее и дороже всех родичей?»
Да, сын выполнил свой долг за отца.
Дармен и Абай никогда не говорили и не задумывались над теми отношениями, которые сложились между ними со дня их первой встречи. Только теперь, после скупых слов Даркембая, они ощутили в тайниках сердца свою глубокую общность, некую слитность чувств. Дармен, потрясенный, в слезах, не находил слов и только кивал склоненной головой в ответ умирающему.
По глазам дяди он понял, что тот хочет еще что-то сказать. Дармен не сводил взгляда с поблекших губ и полузакрытых глаз старика, мысленно обращаясь к нему с последней просьбой: «Говори еще, я жду твоих слов! Скажи, что ты завещаешь нам»
Все находившиеся в маленькой юрте возле смертного ложа сознавали, что близится последняя минута жизни Даркембая, из этой жизни навсегда уходил благородный и мудрый человек, и они в великой печали мысленно прощались с ним.
Заплаканная Жаныл, поняв, что долгое время молчавший Даркембай хочет высказать ей свою последнюю волю, с беспокойством оглянулась на дверь и прошептала:
– Где же Рахим? Почему же не идет Рахим? Что с ним случилось?
И словно услышав голос матери, в эту минуту в юрту вошел ее долгожданный сын, приветствуя Абая и Дармена.
Высокий мальчик с бледным, утомленным лицом, сняв малахай, по молчаливому знаку матери неслышным шагом приблизился к постели отца и, заняв место возле Дармена, так же, как и все, остановил пристальный взгляд на лице умирающего. Увидев рядом с Дарменом своего единственного сына, Даркембай заволновался. Тонкие поблекшие губы старика сомкнулись, он стиснул челюсти, словно проглотил горький яд.
Абай прочитал на лице своего старого друга предсмертную тоску и напряженно старался разгадать скорбные думы, которые уносил умирающий с собою в могилу.
«Нет более тяжкой кары, чем последнее слово, не сошедшее с уст!» – подумал он с горечью.
«Сын мой остается сиротой. В руках его нет еще ни силы, ни умения. Нет у него стада и нет защитников. Что станет с ним?»
Вот какие мысли читал в глазах умирающего Абай. Он не отрывал взгляда от губ старика и чутко прислушивался к его дыханию, мучительно надеясь услышать последнее слово друга.
Даркембай молчал, но глаза его не отпускали Дармена и словно звали выслушать еще что-то. Дармен и сам умоляюще смотрел на дядю, словно спрашивая его: «Что еще скажешь нам?» Старик перевел глаза на Рахима, и губы его дрогнули.
Дармен почти приложился ухом к устам дяди, чтобы не пропустить ни одного слова. И ясно услышал шепот:
– Поручаю Рахима тебе… Сделай его человеком… Оправдай свой долг перед Абаем…
Глаза Даркембая остановились на Абае, и тот, нагнувшись, подставил свое ухо.
– Рахима… учиться… человеком! – едва слышно прошептал умирающий и умолк, утомленно опустив веки.
Абай взял его руку, пульс едва-едва прощупывался. Отходил ли Даркембай, или просто ослабел от усилия, с каким произносил последние свои прощальные слова, – трудно было понять. Друзья, не сводившие глаз с осунувшегося лица умирающего, переглянулись, подавленные.
– Он ослабел, – прошептал Базаралы. – Пусть отдохнет.
– Он долго ждал Абая и Дармена, – тихо молвил Ербол. – Теперь он им сказал, что хотел, и успокоился.
– Мне кажется, он уснул! – В словах Дармена, который никогда не видел, как умирают люди, все еще звучала надежда. А возможно, он просто хотел успокоить юного Рахима.
Абай молчал. Он хорошо знал – в такой момент не бывает сна. Даркембай находился в состоянии покорности – между бытием и угасанием: – это начало отхода. Надо оставить умирающего в покое.
Сделав Дармену повелительный знак не трогаться с места, Абай тихо отошел от постели. К нему присоединились Базаралы и Ербол. Они опустились на кошму и стали тихонько разговаривать, словно обычные гости. Абай рассказывал, как, выехав сегодня вместе с Дарменом из Корыка, они весь день провели в пути. Погода была плохая, ехали медленно, замучились и продрогли. Потом он стал расспрашивать о том, что случилось с Даркембаем, как и когда он заболел.
– Сегодня четвертый день, как слег, – сказал Базаралы.
– Болезнь свалила его недавно, но сразу круто за него взялась, – добавил Ербол. – Позавчера я пришел к нему. Он даже стонал, так ему было худо.
Жаныл, занятая приготовлением чая, подняла казан и подтвердила:
– Да, он сразу сильно занемог!
Это привычное занятие не то чтобы утешило, а как бы привело ее в себя, и она рассказала, как заболел Даркембай.
– Прозяб на ветру. Вот уже целую неделю дует этот проклятый ветер. Старик мой выпросил у соседей арбу, поехал в овраг Караганды за сеном вместе с Рахимом, вот и простыл. А тут еще замело… Надо бы ему назад вернуться. Да разве он оставит дело несделанным? Целый день они сено возили… Работа тяжелая, силенок мало, одежонка худая… чекмень-то у него тонкий, ворот не застегивается… В горячке он и внимания на это не обратил. Вот и продуло его насквозь… Когда поздно вечером они вернулись домой, он мне и говорит: «Ой, Жаныл, до костей я продрог. Сегодняшний день, видно, доконает меня!» Так и получилось. Слег в постель и всю ночь горел, как в огне. Кашель душил, не мог лежать спокойно, метался… А вот теперь, видите, отмучился…
Жаныл, проглотив слезы, умолкла.
Базаралы, видевший в жизни много нужды и горя, сказал задумчиво:
– Известное дело… Правильно сказала Жаныл… Подстерегла его болезнь и захватила врасплох. Чего только не перенес наш Даркембай! Однако человек не железо. И сильного духом дырявый чекмень не спасет от мороза, а перед лютым зимним ветром любая гордая голова склонится…
Он помолчал немного и с грустью закончил:
– Хороший был Даркембай. Но когда в снежной степи безоружного путника окружит волчья стая, какой толк от того, что он добрый, нужный, дорогой для всех человек? Старость, голод, нищета, как лютые волки, окружили и в конце концов доконали нашего друга.
Абай и Ербол только головами кивали: «Правда, правда. Базаралы нашел точные слова: о Даркембае, прожившем больше семидесяти лет в безысходной жестокой нужде, лучше не скажешь».
В эту ночь положение больного заметно и резко ухудшилось, с каждым часом болезнь одолевала его.
Когда сидевшие в юрте закончили вечернюю трапезу, у Даркембая начались предсмертные судороги. Из груди вырвался зловещий хрип. Абай, Базаралы и Ербол, вздрогнув, переглянулись. Подойдя к постели умирающего, они настороженно прислушивались к его прерывистому дыханию.
Все притихли и опустили глаза в немом ожидании таинственного мгновения, которое вот-вот должно наступить. Даркембай умирал… Хрип внезапно оборвался, и наступила полная тишина…
На следующий день, ранним утром, многочисленное население аула жатаков хоронило всеми любимого старика. На расстоянии выгона отары от Молалысу, за перевалом, находилось кладбище, туда привезли останки Даркембая и с честью предали земле.
Абай, Базаралы, Ербол и Дармен приняли в похоронах самое горячее участие и взяли на себя заботу о поминках. Абай послал нарочного в ближайший аул Акылбая и не только пригласил жителей его на жаназу, но велел привести в дом Даркембая дойную корову и верблюдицу. Это была его аза[114]114
Аза – особое приношение после смерти близкого человека.
[Закрыть] осиротевшей семье покойного друга.








