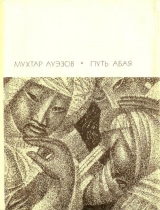
Текст книги "Путь Абая. Том 2"
Автор книги: Мухтар Ауэзов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
Макен вскрикнула в ужасе, она то трясла Дармена, прильнувши к нему и утешая его, то сама безудержно рыдала. Перебивая друг друга, они горестно восклицали:
– Бесценный ага, милый!
– Дорогой наш ага!
– Ох стану жертвой за тебя, родной!
– Лучше бы это стряслось со мною!..
Придя в себя и горестно размышляя о страшном событии в Кошбике, Дармен правильно разгадал тайну позорной кары, которой подвергли Абая.
– Ты потерпел за свои свидетельские показания на Аркатском съезде! За совесть, за доброе имя человека! За то, что был лучшим из лучших, явил справедливость, – за это ты пострадал от злодеев! Опора, слава ты наша! Драгоценный наставник, брат мой родной!
Так наедине с Макен Дармен открывал ей свои мысли, возникшие в глубине его души.
В эти дни в Шакпак перекочевал аул Такежана, видимо с целью выразить «свое сочувствие» горю Абая. Магаш, Какитай и Баймагамбет, проезжая мимо этого аула, заметили запрятанного в зарослях тальника оседланного коня. Почуяв недоброе, они подкрались к нему и сразу узнали крутобедрую лошадь, которая некогда принадлежала Акылбаю, а у нее под животом прятался знаменитый уразбаевский приспешник, конокрад Кийкым, – его также сразу можно было узнать по носу, который своей формой напоминал серп. Этот прохвост торчал здесь недаром.
– Эй, стой! – крикнул Какитай.
Кийкым мигом вскочил на своего крутобедрого коня и во весь опор поскакал в сторону аула Уразбая. Магаш, Какитай и Баймагамбет кинулись вдогонку, но беглец не дал им догнать себя и легко ушел от погони. Магаш и Какитай были возмущены до глубины души. Кийкым спасся на знаменитом гнедом скакуне с меткой на лбу. Некогда этого коня Акылбай подарил Азимбаю, а в прошлом году на жайляу уразбаевский аул выпросил его у Азимбая в подарок. Ходили слухи, что с тех пор, как гнедой конь попал к есболатам, он уже три раза приходил первый на байге.
И вот теперь на знаменитом гнедом скакуне, принадлежавшем Уразбаю, приехал отъявленный конокрад Кийкым и прятался около аула Такежана. Молодые жигиты сразу догадались, зачем он это делает. Несомненно, Уразбай подослал к Такежану и Азимбаю своего лазутчика, разведать, что собираются предпринимать сторонники Абая.
Какитай и Магаш поспешили вернуться в аул. Задыхаясь от негодования, они вошли в юрту Абая.
Лежавший в одиночестве поэт, увидев их взволнованные лица, приподнялся на локте.
– Ну, что еще случилось? Говорите правду…
Магаш рассказал про Кийкыма, скрывавшегося возле такежановского аула, добавив:
– Пусть бог накажет за это Такежана!
По лицу Абая прошла тень гнева, и он протянул руку Баймагамбету:
– Дай треух!
Баймагамбет вместе с треухом подал и нагайку. Абай быстро поднялся и дрожащим голосом сказал:
– Значит, змея приползла и сюда, к моей груди, чтобы меня ужалить? Зачем я остаюсь, здесь, на этой земле, с этими людьми? Нет меня больше для вас. Идем, Баймагамбет!
И он вышел из юрты. На привязи стоял иноходец Есентая, на котором Абай ездил последнее время. Он сам отвязал его и сел в седло, а Баймагамбету показал нагайкой на коня Магаша:
– Уйдем с этого места, от этой проклятой жизни! Лицо его сделалось мертвенно-белым, от сдерживаемого гнева вздыбились волосы его бороды.
Баймагамбет вскочил на коня.
– Куда поедем?
– Туда! – Абай кивнул головой в сторону заката и хлестнул иноходца нагайкой. Два всадника помчались один за другим.
Магаш и Какитай стояли оробевшие. Ужас охватил их, и они не знали, что им делать.
В это время к ним подскакали Исхак и Шубар.
– Что случилось? Куда поехал Абай? – испуганно спросил Исхак, глядя на расстроенные лица братьев.
Магаш, не глядя на подъехавших родственников, словно в забытьи, говорил сам с собой:
– Что делается на свете… Уехал… Покинул родную землю… родных людей… Потерял в них веру… Вон скачет как… Назад не вернется…
На глаза его навернулись слезы.
– Боже мой! Что он говорит? Неужели отпустили Абая? Едемте, Исхак-ага! – с ужасом воскликнул Шубар.
И, нахлестывая изо всех сил своего коня, он первый поскакал догонять Абая. Исхак ринулся за ним.
На жайляу ясный, теплый вечер. Багровый диск солнца опускался за горизонт, и когда он наполовину скрылся за далеким желтым хребтом, степь и далекие горы сразу покраснели, словно облитые кровью. В алом свете преобразились пасущиеся стада, юрты и бежавшие рысью кони Абая и Баймагамбета.
Исхак и Шубар, понукая своих коней, скакали сзади. Вот они поравнялись с Баймагамбетом, перегнали его и на полном скаку с двух сторон подлетели к Абаю.
– Агатай! Абай-ага! Куда едешь?! – умоляюще завопил Шубар, соскакивая с коня и хватая поводья серого иноходца.
– Отпусти! Отойди! – крикнул Абай с отвращением глядя на смертельно бледное лицо Шубара.
А Шубар быстрым движением вырвал из рук Абая повод и обвязал им свою шею, прихватив и черную бороду.
– Если уедешь – задуши меня, растопчи копытами своей лошади… – Голос его дрожал от слез; искусный притворщик, он бросал горячие слова, способные тронуть любое сердце. – Не покидай родного народа! Вернись! Милый Абай-ага, не отпустим тебя! Жертвую своей головой ради тебя! – кричал он, громко рыдая.
Теперь и Исхак взял под уздцы лошадь Абая.
– Успокойся, Абай, – сказал он тихо, без всякого притворства, и по голосу его можно было почувствовать, что он по-настоящему мучается. – Я только перед отъездом узнал, что вдова Абиша, несчастная Магиш, гаснет от горя. Она просит тебя принять ее последний вздох. Неужели ты уедешь и не попрощаешься с нею? Ведь она тоже твое дитя!
Услышав эти слова, Абай растерялся.
– Вот кто страдает еще больше меня! – воскликнул он. – Бедняжка моя! Как я тебя забыл…
И Абай повернул коня.
Как раз в это время в маленькой юрте, прощалась со своей короткой жизнью Магиш. Она лежала в постели, разостланной на земле, потому что ей трудно было подняться на высокую кровать. Голова ее покоилась на коленях Макен, задушевной подруги, с которой они за всю жизнь ни разу хмуро не глянули друг на друга. Некогда здоровое и красивое тело молодой женщины сейчас было истощено безутешным горем. За два года Магиш сгорела, тоска извела ее, и теперь она выполняла обещание, данное Абишу, – уходила к нему.
Абай торопил коня, охваченный думою о Магиш, об Абише, мысленно слагая стихи:
И, повторяя последнюю строку, он чувствовал, как его горе сливается с горем любимой невестки.
Абай и Баймагамбет доехали до малой траурной юрты покойного Абиша и молча сошли с коней.
Когда поэт увидел плачущую Макен, он понял, что Магиш закрыла глаза навсегда. Из груди его вырвалось глухое рыдание. Перешагнув порог, он кинулся к постели, где, вытянувшись, лежала Магиш, обнял ее голову, и из глаз его полились крупные горячие слезы.
В СХВАТКЕ
1
Молва о покушении на Абая, совершенном в Кошбике, долго переходила из уст в уста. Люди толковали судили и рядили об этом событии по-разному. По всей округе шли слухи и слушки – противоречивые, неясные, подчас один нелепей другого. Одержимые спесью и мнящие себя храбрецами «герои» Иргизбая и тут не пошли дальше пустых угроз. В день возвращения Абая иные из аулов рода даже посадили на коней своих молодчиков жигитов, способных держать соил и пригодных к бою. Они хвалились, что подкараулят Уразбая на пути из Акшатая домой, куда он возвращался после выборов. Жигиты скакали взад и вперед на конях – главным образом днем, – горланя: «Убьем!», «Уничтожим!». Шумной толпой они заезжали в каждый попутный аул, попивали кумыс кучками гарцевали на ближних холмах.
Однако, как только проходил хмель от кумыса, они не дожидаясь вечера, убирались восвояси.
Все же Уразбай, услышав об этих угрозах, встревожился не на шутку. Его путь лежал мимо аулов Иргизбая, и он проскочил к себе домой под покровом ночи, словно беглец, спасающийся от погони. По приезде в свой аул он тайно послал к Азимбаю своих приспешников: мелкого воришку Кийкыма и других таких же, как и он, плутов и пройдох. Иргизбаевцы, воспылавшие было праведным гневом, теперь стали украдкой поглядывать в сторону Такежана, Азимбая и Шубара. Они уже не были склонны провозглашать на каждом шагу во всеуслышание: «истребим», «изничтожим», «ударим», «совершим набег»!
Только появляясь в ауле Абая, эти люди, с которых соскочил весь их вчерашний пыл и спесь, еще пробовали шуметь, будто бы они способны были покарать обидчика. Старейший из иргизбаевских аксакалов Ырсай ворвался в дом Абая в сопровождении молчаливой кучки никчемных белобородых и чернобородых людишек. Ырсай громко плакал, возмущался, негодовал, рвался в бой.
– Прикажи, родной! Мы пришли умереть от руки твоего врага. Велишь разорить его – разорим! Велишь биться насмерть – готовы сразиться хоть сейчас! – вопил он.
Вместе с ним к Абаю вошли Какитай и Магаш, чтобы узнать, что он собирается теперь делать. Молчавший со дня возвращения Абай, с трудом преодолевая свои тяжкие думы, вымолвил кратко:
– Если я, желая отомстить укусившей меня собаке, тоже начну кусаться, не оскверню ли я этим свои уста! – И снова замолк.
Аулы двух других сыновей Кунанбая отнюдь не кипели негодованием. Своей молчаливой сдержанностью они давали почувствовать сородичам свое особое отношение к событию в Кошбике.
Так вели себя так называемые «единоутробные братья» и «родные». Зато простые люди Чингизской волости ото всей души негодовали за Абая. Их решительные и гневные голоса звучали все громче и громче. Возмущение наглой расправой, учиненной над уважаемым всеми человеком, уже распространилось через рубежи Чингизской волости и охватывало многочисленных тобыктинцев за ее пределами. Не родовитые баи, не волостные управители или коноводы-аткаминеры, главари вечно враждующих партий и групп, а большинство простых, незнатных люден скорбело за Абая.
Зазвав к себе Магаша и Какитая, они говорили о мести:
– Будем мстить Уразбаю. И не за одного только Абая – за народ. Не Уразбая одного накажем, найдем и того преступника, который вложил в его руку кистень. Заставим уплатить пеню, заклеймим позором. Сторицею воздадим негодяю, а добро его по ветру пустим.
Обращенные к Абаю, эти слова высказывались перед Магашем – его любимым сыном, «самым ученым и разумным среди молодежи». Возмущенные тобыктинцы посылали друг к другу гонцов. Лучшие люди родов Мотыш, Кулык, Дузбембет, Карамырза, родов, хотя и захудалых, но все еще считавшихся знатными, совещались между собой. К Магашу приезжал их посланец по имени Кодыга. Приезжали люди из родов Сактогалак, Жуантаяк, селившихся вблизи урочища Уразбая. Были сочувствующие Абаю и в соседних родах Кокше и Мамая. Все в один голос заявляли: «Заклеймим позором лицо Уразбая, заставим его припасть к ногам Абая с повинной».
Всем приезжающим к Абаю со словами сочувствия Магаш пока что отвечал сдержанно и скупо:
– Честь моего отца не продается. Его достоинство не может быть восстановлено уплатой мзды, искупающей подлость злодея, или его признанием вины своей. Такого лечения нанесенной ему раны отец мой не примет, да и я одобрить не могу!
Эти исполненные достоинства слова Магаша доставили Абаю минуты истинной радости: сын вырос настоящим человеком!
Как бы то ни было, весть о разбойничьем покушении разнеслась далеко за пределы тех мест, где жили Абай и Уразбай. Вот уже год минул со времени злодеяния. Аулы снова разместились на своих обычных летних урочищах, на тучных пастбищах близ рек и ручьев, а молва народная все ширилась и росла. Теперь уже не только тобыктинцам, но и всем родам и племенам, где знали и любили стихи Абая, пламенное слово его поучения и добрые дела заступника народного, стало известно о гнусном насилии, совершенном над ним. Теперь эта черная весть облетела многие земли, пришла к найманам, кереям, уакам, самым крупным родам среди многочисленных аргынов. Она стала достоянием не только степных обитателей на их летних, осенних и зимних кочевьях – мало-помалу она достигла и городов всех пяти уездов Семипалатинской области. Об этом говорил и весь Семипалатинск – центр, куда стекаются жители из всех уголков густонаселенной области, приезжают уездные управители, просители, тяжебщики и торговцы.
В Каркаралинске, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Зайсане, Кокпекты, Баян-Ауле – во всех городах, так или иначе связанных с Семипалатинском, узнали об этом событии. Слухи доходили и до Кара-Откела – соседней Акмолинской области, и даже до отдаленных городов Семиречья: Лепсы, Аягуза и Копала.
Так медленно, но неуклонно и неудержимо распространялось известие о страшном ударе, нанесенном чести Абая, человека высоких достоинств, достопочтенного и высокочтимого сына казахского народа. И снова новые люди по-разному толковали о нем, обсуждали его со всех сторон, высказывали разное к нему отношение. Но везде и всюду большинство простых людей по-прежнему выражало свое сердечное сочувствие поэту. Своим отношением к покушению на жизнь Абая люди невольно обнаруживали свое истинное лицо.
Если послушать, например, волостных управителей, хаджей, мулл и знатных баев любого рода, то они не так-то уж сильно сокрушались об Абае. Встречаясь, они кичливо разглагольствовали о том, как их предки получали чины от высокого начальства, какими богатыми и сильными заправилами они были, или о том, как сами они совершали паломничества в Мекку, либо как ездили на Макаржи. Хвалились тем, что побывали в канцелярии таких-то губернаторов, выступали на таких-то чрезвычайных съездах.
Эти люди упоминали имя Абая в одном ряду с именем Уразбая, отнюдь не порицая последнего. «Значит, так сделал», «Так, значит, поступил батыр», – говорили они, ревнуя Абая к его славе и преклоняясь перед злобной волей и душевной мерзостью Уразбая. Были среди этих влиятельных насильников и такие, которые слышали о беспощадном обличении Абаем баев и волостных, а потому смертельно ненавидели его. Они раздували слухи об унижениях, которые претерпел Абай, и поносили его, приговаривая: «Сам во всем виноват, поделом ему и досталось». Они не прощали Абаю его разящих стихов и метких обличающих слов, его пламенного учения – того независимого пути, которым он неуклонно шел всю жизнь.
– Ибрай возгордился! Зачванился сверх своих сил! Лучшим людям казахским нанес оскорбление словом, – понятно, задел их за живое! Вот Уразбай и вступился за их честь, за честь большинства! Все это не так-то просто! – говорили они.
Так толковали многие степные заправилы, известные хаджи Усть-Каменогорского, Зайсанского, Павлодарского, Каркаралинского уездов. Сильные мира сего, встречавшиеся с Абаем на могих сборах, воочию видевшие его превосходство над собой, затаили завистливую злобу. Теперь они считали своевременным поддержать Уразбая. Потому-то они не только не осуждают его, но со смаком рассказывают о его «подвиге».
А что же народ? Много было людей из народа, горько туживших об Абае. Они не делились на ближние и дальние аулы, на «участливых сородичей» или «иноплеменных чужаков». Это были просто друзья и доброжелатели поэта, бескорыстно преданные ему. Им не было числа, и для них не существовало ни дальности расстояний, ни отдаленности родства. Вести о жестоком произволе, от которого страдал Абай, задевали их собственную честь, и, сокрушаясь о нем, эти люди еще сильнее тянулись к нему, к его мудрой песне, к его светлой мысли, дошедшей до них еще задолго до покушения. Преданных друзей в самой гуще народной было у Абая немало и в аулах и в городах, а особенно много – в Семипалатинске. Слова и песни Абая не сходили с уст учеников и мусульманских и русских школ. Абая любила рабочая городская беднота. Множество ремесленников, казахская голь перекатная, заполняющая базары, даже мелкие торговцы с обоих концов города за последние годы наслушались песен и изречений, о которых говорилось: «Это сказал Абай». Город оказался восприимчивым, он чутко прислушивался ко всему новому. Стоило какой-нибудь семье сегодня услышать свежую весточку, необычное слово, назавтра оно с быстротой птицы облетало базары, улицы и переулки. А с тех пор как мудрое слово Абая проникло по обе стороны Иртыша и распространилось по Затону, по Жоламановским Жатакам, волнуя и радуя их обитателей, прошло уже немалое время.
Провожают ли невесту, или справляют свадьбу, празднуют ли рождение ребенка, или собираются на той, либо попросту на вечеринку – никогда не обходится без абаевских песен и стихов, без его дорогого слова. Понятно, что об оскорблении чести Абая городской трудящийся люд говорил с великой тревогой и негодованием.
Близилась осень. Вода в Иртыше пошла на убыль, и широкая река становилась уже. Ее прозрачные воды отстаивались, делались еще синее и чище.
Два парома перевозили путников через Иртыш и Кара-Су. На середине реки был островок, поросший высокими тенистыми тополями, соснами и карагачами. Люди со стороны слободки садились на паром, пересекали Иртыш и сходили на круглый островок, потом перебирались через него, пешие или на подводах, к берегу Кара-Су, где их ожидал второй паром, который перевозил их с островка в Семипалатинск. Путники тратили больше часу на эту переправу. Парусные лодки у Верхних Жатаков были едва ли не единственным средством «прямого сообщения» между обоими берегами. Стар и млад, пешие и конные, русские и казахи, горожане и степняки, обозы, идущие из дальних городов, и караваны из чужих земель – все вынуждены были терпеливо переносить неудобства такой переправы.
Вот и сегодня множество ямщиков на телегах, степные караваны и горожане с обоих берегов ожидали парома, отчалившего от острова к слободке. Как только паром коснулся берега, все конные и пешие, ехавшие из Семипалатинска, освободили переправу. Тогда телеги, стоявшие вплотную одна к другой по обе стороны мостков, соединяющих паром с берегом, стремительно хлынули на эти мостки. У кого сытый конь, бодрый посвист, зычный окрик да длинная плеть, тот всегда раньше пробьется на переправу. Сейчас первыми ринулись ямщицкие телеги из Джетысу. Стоит выскочить вперед хоть одной подводе, как остальные рванутся за ней очертя голову. Причиной тому мешочек с кормом, привязанный к грядке повозки, – он-то и заставляет коней брать с места в карьер без понуканья.
Обычно на паром в первую очередь садятся пешеходы и верховые. Прорвавшись в обгон телег, они забавляются, глядя, как повозки, опережая одна другую, с грохотом влетают на мостки. Глядишь, у плохонькой степной арбы выскочит чекушка из колеса, а то и обод треснет, либо переломится ось. Телега, опрокинутая в воду норовистым верблюдом, тоже потешает проезжих.
Шум и гам. «Ой-ой», «Стой, уйди с дороги!», «Собачий сын!», «Сам ты свинья!», «Я тебе покажу!», «Гляди в оба!», «Будешь знать своего отца!» Отчаянная брань, просьбы о помощи, скрежет немазанных колес, плач детей, пронзительные голоса женщин и истошные вопли не ко времени раскричавшегося осла – у парома стоит дым коромыслом. Подоспевшие со стороны слободки – Марков, фельдшер Девяткин и их общий друг-приятель грузчик Сеит вскочили на паром, когда он уже отчаливал и суматоха улеглась.
Паром был полон. Теперь никто не рвался даже на мостки. Телеги, которым не хватало места на переправе, плотно сбились на берегу, напирая одна на другую, как льдины во время ледохода. Сеит, Девяткин и Марков перебрались на нос парома, чтобы полюбоваться на мощные воды Иртыша. Здесь разместилось около десятка телег. Когда Сеит, сгибаясь, пролезал под мордами лошадей, его с воза окликнул по имени какой-то ямщик. Сеит быстро обернулся: «Ой, никак Жунус! Здорово! Откуда едешь!» Весело здороваясь с добрым знакомцем, он быстро поставил ногу на колесо и вскочил на высокую телегу приятеля, груженную пушниной. Так как на пароме не было скамеек, Сеит позвал к себе Маркова и Девяткина. Они не заставили себя просить и тоже взобрались на воз, заботливо укрытый брезентом и перетянутый арканом. Сеит тут же познакомил приятелей с Жунусом.
– Он тоже работал грузчиком в нашем Затоне. Мы с ним, бывало, все спорили: кто сильнее, кто больше поднимет! А вот сейчас Жунус, оказывается, сильнее меня. Богачом стал. Имеет коня с телегой, битком набитой лисьими да волчьими шкурами. Видать, издалека приехал. Сами посмотрите, какое огромное богатство везет из чужедальних краев! И вправду, откуда едешь, Жунус? – выспрашивал Сеит.
У Жунуса лицо загорелое, руки потрескались, остренькая бородка, подстриженная клинышком, выгорела на солнце и из русой превратилась в желто-пегую. Он с добродушной улыбкой слушал веселую болтовню Сеита, видно, обрадовавшись старому дружку. На вопрос: «Откуда едешь?» – отвечал коротко: «Из Джетысу», «Из Шубар-агаша», «С Ой-жайляу».
Ничего сказать, хорош богач! И конь и телега чужие! Зимой и летом гоняет хозяйские подводы. Он и сейчас нанимался ямщиком у бая-полуказаха Матели.
На этот раз его ямщики на давадцати подводах везли пушнину, собранную со всех волостей, до самой китайской границы. Хорошо, хоть десять телег попали на паром, остальные десять – вон они, на берегу.
Рассказывая друг другу о своем житье-бытье, Жунус и Сеит повели беседу вдвоем, а Девяткин разговаривал с Марковым. Оказалось, что Девяткин возвращался из аулов в низовьях Иртыша, где пробыл целую неделю, лечил больных от какой-то заразной болезни вроде тифа. А Марков ехал с охоты и рыбной ловли. Он побывал у жатаков Жоламана в верховьях Иртыша, на пикете Шоптигак. С Сеитом оба они только что встретились – у переправы. С минуту Марков и Девяткин помолчали, прислушиваясь к разговору. Девяткин хорошо знал по-казахски. Многозначительно посмотрев на Маркова, он сказал:
– О чем они говорят, обратите внимание, о ком толкуют! – И, помолчав, промолвил – Об Ибрагиме Кунанбаевиче они говорят.
Марков подивился тому, что рабочий, встретившись с ямщиком, с первых же слов заговорил о тяжелом положении поэта. Не понимая сам по-казахски, он попросил Девяткина:
– Давайте послушайте; заметьте, как будут говорить.
Жунус приехал в город сегодня ночью и сразу же услышал здешние новости. Однако речи, которые вели об Абае на последнем пикете, он что-то не понял. Какие-то плохие люди покушались на Абая, «совершили неслыханное злодеяние»! Жунус частенько пел песни Абая вместе с Сеитом и теперь жадно расспрашивал его:
– Что это за вести? Что за разговоры?
И Сеит стал рассказывать обо всем, что услыхал сам. Привлеченные разговором друзей, вокруг телеги Жунуса постепенно начали собираться другие ямщики и наконец окружили ее плотным кольцом. Прислушиваясь к словам ямщиков, Девяткин коротко переводил их Маркову. Оказывается, все они, кроме Жунуса, были родом не из Семипалатинской области, а издалека, из Шубар-агаша, Аягуза и Копала. Однако, то ли по рассказу Жунуса, то ли понаслышке, они, видимо, хорошо знали Абая.
Сеит подробно рассказал о подлом деле, совершившемся в Кошбике:
– Абая истязали за то, что он заступался за бедняков Кокена, за доброе имя простых дехкан. Баи говорили, будто он унизил память великого предка Тобыкты, знатных правителей, оскорбил прах благородного отца своего, Кунанбая. Хотели даже убить Абая, да не удалось им довести свое черное дело до конца!
Ямщики, возмущенные, зашумели:
– Вот собаки! Вот звери!
– Разве такие кровопийцы кого пожалеют!
– Ну, над другими издеваются – ладно! Как же они посмели тронуть Абая, бесстыжие?!
– Мало того, что эти воры-пройдохи разоряют народ, караваны грабят, дома поджигают, – до Абая добрались!
– Как же это они его? Один он оставался, что ли? Бросили одного такого прекрасного душевного человека?!
И, присоединяя свой голос к голосам негодующих товарищей, седобородый старый ямщик молвил недоуменно:
– А начальство чего смотрело? Абай ведь почитает русские порядки, почему же начальство-то его не охраняет, не бережет?
Сеит хотел было заступиться за русское начальство:
– Да что же тут поделаешь? Если на то пошло, так ведь Абая начальство-то и спасло. Сам уездный послал стражника с ружьем толпу разгонять. А то бы не миновать Абаю лютой смерти.
Но тут в разговор вмешался Девяткин:
– Ты не знаешь, Сеит, совсем не так это было. Разве уездный начальник заступится за такого человека, как Абай Кунанбаев? Сам народ – вот кто может его защитить! Вот ты, например… – и он указал на Сеита, – ты, – ткнул он пальцем в грудь Жунуса, – и еще ты, – кивнул в сторону седобородого ямщика, а потом широко обвел рукою вокруг, – все вы, весь народ ему защита. Больше за него заступиться некому!
Девяткина слушали с радостным изумлением.
– О-о! Правду он говорит!
– Справедливые твои слова! Прямо в точку попал! Сеит, подумавши, заключил:
– Ну да, как же неправильно! Верно! Говорим: «Лучший из людей, заступник народа». Да кто же народ-то, уразбаи, что ли? Тысячу раз твердил нам Абай, что народ не уразбаи, а простой трудовой люд, такой вот, как мы с вами… А раз Абай сказал, значит так оно и есть… И справедливо нас осуждает Девяткин: мы, народ, за все в ответе!
Приметив, что слушатели прекрасно поняли его скупой намек и горячо откликнулись на него, Девяткин стал рассказывать о том о сем – о своей поездке, что он видел, что слышал в аулах Кара-Шолак, Шалакбас, Кенжебай.
– Как-то вечером зашел я в Кара-Шолаке к одной старушке, у которой внучек заболел. Землянка у нее бедная, сырая… и там в углу, в темноте, старик стоит на молитве, плачет, причитает. Я думал, он за своего больного внучка молится, а он, оказывается, услышал дурную весть об Абае, – и вот, жалеючи его, плачет.
В другом ауле Девяткин видел, как ученики у муллы нараспев твердили стихи Абая. И эти ученики тоже тревожились за поэта, с жадностью расспрашивали о нем у своего учителя, некоторые даже со слезами.
– В ауле Кенжебай живет замечательная девушка Акбалык. К ней приехал жених; вечером затеяли игры, веселье. Сама Акбалык долго пела песнн Абая, спела «Письмо Татьяны», а потом и говорит: «И вот такого благородного человека, творца золотых слов – Абая – хотели убить бесстыдные кровопийцы, выродки, недостойные называться казахами! Много еще у нас таких собак! Много кровожадных волков!» Вот что сказала девушка Акбалык.
Девяткин от души восхищался.
– Своими глазами видел я простую аульную девушку, умницу, которая хорошо поняла и полюбила Абая. Поэтому-то я и считаю, что его знает народ, что друг Абая – народ и что только народ может его отстоять и оберечь.
Разговоры об Абае не умолкли и тогда, когда проезжие пересели на второй паром. Марков также порассказал о том, как много, он слышал сочувственных речей об Абае от стариков и молодых, когда охотился и работал на Иртыше.
А потом обо всем, что говорилось в народе, Марков передал Павлову. Вскоре то, что рассказывали об Абае на переправе через Иртыш, можно было услышать то тут, то там – в разных местах, в городе и в ауле. Обрастая новыми подробностями, обогащаясь чувствами и мыслями многих людей, эти рассказы становились печальной, из уст в уста передававшейся легендой о безвинных страданиях народного заступника. Легенду эту рассказывали и в лачугах таких бедных тружеников, как Дамежан, и в лодке старого Сеиля, и на пристани, и особенно в бараках, где ютились бездомные грузчики. Рабочие клеймили врагов Абая, решительно осуждая подлое злодеяние Уразбая.
Когда после события в Кошбике минул год, в ауле рода Тогалак появился грузчик Сеит. Он пришел сюда на побывку. В конце зимы Сеит болел тифом, а когда поправился, навигация уже открылась, и ему предстояло, как всегда, грузить баржи и пароходы. В прежние времена он работал за двоих, но недюжинная сила его нынче пошла на убыль, не было прежней крепости в спине и в руках, ноги, когда он шел с грузом, подгибались. И без того скудный заработок его упал еще ниже. Друзья и товарищи, Абен, жена, – все говорили о том, что не худо было бы ему поехать на лето в родную степь.
С весны Сеит и оказался у родственников в давно покинутом им ауле. Прибыв на родину во время перекочевки на летовку, Сеит гостил здесь уже около двух месяцев, пил кумыс, набирался сил, – и вот теперь, когда аулы снимались с горных пастбищ, чтобы перекочевать на равнину, больной уже окреп, на изжелта-сером лице заиграл здоровый румянец, прежняя сила возвращалась к нему.
Хотя Сеит в городе жил бедно, тяжким трудом зарабатывая себе на хлеб, но если в его доме появлялся гость, он делился с ним последним куском. Таков же был и Абен, который, как и Сеит, свято соблюдал обычаи грузчиков, щедрых и хлебосольных бедняков.
Зимой и летом степные гости, приезжающие в город во время забоя скота или с щетиной и шерстью на рынок, до отказа переполняли дома и дворы затонских рабочих.
Под плоской кровлей низенького саманного домика Сеита в Затоне постоянно гостил кто-нибудь из земляков. Иной раз люди приезжали к нему целыми караванами и со всеми своими верблюдами, санями, поклажей еле вмещались в его маленьком дворике. Не только заезжие одноаульцы из рода Тогалак, к Сеиту ехали в расчете на его радушие, на широкую его натуру и родные его товарищей-грузчиков и знакомые друзей из чужих волостей и селений.
Бывали дни в жизни Сеита, когда ему не на что было угостить постояльцев не то что мясом, даже хлебом. И лишь немногие из приезжих, понимая тяжелое положение бедняка, умели вовремя и без лишних слов оказать ему посильную помощь. Ведь Сеит и его великодушная жена, пока не истратят последнюю полушку, скрывают свою нищету, стесняясь признаться, что им нечем угостить людей.
Перехватив деньжат то у соседа казаха, то у русского товарища грузчика или мастера, а иной раз у живущего с ним бок о бок дружка, кузнеца Кирилла, Сеит с почетом встречал и провожал своих гостей, а потом из скудного своего заработка с трудом расплачивался с долгами.
Но это не печалило Сеита, щедро наделенного не только могучей силой, но и веселой широкой душой, что называется нараспашку. За легкий нрав и открытое сердце особенно любил Сеита Дармен. В свою очередь и рабочие Затона, а Сеит и Абен первые, особенно радушно принимали искусных певцов, домбристов, поэтов, таких как Дармен, Альмагамбет, Муха. Любили и уважали они и Баймагамбета. Если дорогие гости долго не появлялись в городе, о них тревожились, по ним тосковали.
От них к рабочим Затона приходило песенное слово Абая, которое Сеит с Абеном и другие грузчики широко распространяли в народе. Речистая трехструнная семипалатинская домбра висела в доме Сеита на почетном месте. В редкие минуты отдыха Сеит, лежа на спине и положив поперек груди свою звучную домбру, громко распевал песни Абая, которые были в ту пору на устах всех казахов гор и равнин. Пел Сеит под свой собственный аккомпанемент и татарские песни, мурлыкал себе под нос мотивы без слов. И теперь, отдыхая все лето в аулах родного Тогалака, Сеит веселил и потешал своих сверстников и всех, кто хотел его слушать.








