
Текст книги "Адвокат дьявола"
Автор книги: Моррис Уэст
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Моррис Уэст
Адвокат дьявола
ГЛАВА 1
Его профессия состояла в том, чтобы готовить людей к встрече со смертью, и он изумился, осознав, что для него самого ее предстоящий визит оказался полной неожиданностью.
Человек, привыкший мыслить логически, должен знать: смертный приговор пишется на ладони каждому в день появления на свет. Хладнокровный, не обуреваемый страстями, не тяготящийся дисциплиной, тем не менее и он поначалу пытался всеми силами отогнать от себя мысль об иллюзорности бессмертия.
Смерть не должна извещать о своем прибытии, ей подобает войти, прикрыв лицо и руки, в самый нежданный час, войти мягко, неслышно, как приходит ее брат – сон, или быстро и неистово, как наступает миг слияния воедино мужчины и женщины, чтобы момент перехода в мир иной являл собой спокойствие и удовлетворенность, а не насильственный отрыв души от тела.
Соблюдение приличий. Этого ждали от смерти люди, об этом просили в молитвах и горько сожалели, получая отказ. Сожалел сейчас и Блейз Мередит, сидя на весеннем солнышке, наблюдая, как лебеди скользят по ровной поверхности пруда, молодые пары отдыхают на траве, а пудели важно вышагивают по дорожкам рядом с очаровательными хозяйками.
Посреди цветения жизни – молодой, изумрудной травы, наливающихся соками деревьев, качающихся под легким ветерком крокусов и нарциссов, под этим солнцем – на него, казалось, легла тень смерти. Окончательность приговора не вызывала сомнений. Его вынесли не линии ладони, но квадрат рентгеновской пленки.
– Карцинома! – палец хирурга на мгновение задержался в центре серой расплывчатости, затем двинулся к краю, следуя контуру опухоли. – Медленно растущая, но уже диагностируемая. Я их столько видел, что не могу ошибиться.
Всматриваясь в маленький, мерцающий экран, Блейз Мередит думал об иронии сложившейся ситуации. Он провел всю жизнь, открывая другим правду о них самих, о грехах, что мучили их, вожделениях, их позорящих. Теперь же смотрел на собственные внутренности, где опухоль разрасталась, как корень мандрагоры, приближая его последний час.
– Она операбельна? – ровным голосом спросил Мередит.
Хирург выключил подсветку экрана, и серая смерть растаяла в матовой глади. Затем сел, пододвинул настольную лампу так, чтобы свое лицо оставалось в тени, а голова пациента освещалась, словно музейный экспонат. Блейз Мередит, конечно, заметил эту уловку и понял ее смысл. Оба они были профессионалами. Каждый имел дело с человеческими существами. И знал, сколь важна отстраненность от страждущего, не позволяющая последнему выпить из тебя всю духовную энергию.
Хирург откинулся в кресле, взял со стола нож для резки бумага, на мгновение задумался, будто подбирая нужные слова:
– Я могу оперировать. В этом случае вы умрете через три месяца.
– А если без операции?
– Тогда вы проживете чуть дольше, но смерть будет более мучительной.
– На сколько дольше?
– Я даю вам шесть месяцев. Максимум, двенадцать.
– Трудный выбор.
– Да, но решать вы должны сами.
– Это я понимаю.
Хирург облегченно вздохнул. Худшее осталось позади. Он не ошибся в этом человеке. Интеллигентный, уравновешенный. Он переживает потрясение, свыкнется с неизбежным. И когда начнется агония, достойно встретит ее. Церковь убережет его от нужды, а потом похоронит с почестями. Никто не будет скорбеть о нем, это тоже зачтется, как высшая награда за обет безбрачия. Он уйдет из жизни без жажды ее удовольствий и боязни за неисполненные обещания.
Спокойный голос Блейза Мередита прервал размышления хирурга.
– Я подумаю над тем, что вы мне сказали. Если я откажусь от операции и захочу вернуться к работе, вы сможете дать мне подробную выписку из истории болезни для моего врача? Прогноз на будущее, возможно, рецепты?
– Разумеется, монсеньор Мередит. Но вы работаете в Риме, не так ли? К сожалению, я не знаю итальянского.
Блейз Мередит позволил себе улыбнуться.
– Я переведу выписку сам. Мне будет интересно.
– Восхищен вашим мужеством, монсеньор. Я не принадлежу к католической церкви, как, впрочем, и ни к какой другой, но полагаю, что в этот тяжелый момент вы найдете утешение в молитвах.
– Доктор, – просто ответил Мередит, – я слишком долго был священником, чтобы уповать на молитвы.
И теперь он сидел на скамейке в парке, под весенним солнышком, думая о коротком будущем, открывающем путь в вечность. Когда-то, в студенческие годы Мередит слушал проповедь старого миссионера о воскрешении Лазаря. О том, как Христос встал перед замурованным склепом и приказал открыть его, как из склепа повеяло запахом разложившейся плоти, как Лазарь вышел на зов Христа, путаясь в погребальных одеждах, и остановился, щурясь от солнечных лучей. «Что чувствовал он в ту минуту? – вопрошал старик-миссионер. – Какую цену заплатил за возвращение в мир живых? Осознавал ли он свою ущербность, ибо от роз веяло на него гнилью, а каждая девушка виделась волочащим ноги скелетом? Или, наоборот, шагал по земле, зачарованный новизной вновь обретенной жизни, с сердцем, полным любви и жалости к человеку?»
Мередит размышлял над этим много лет. Даже подумывал написать роман. Теперь наконец он получил ответ. Не существовало ничего слаще жизни, драгоценнее времени, милее прикосновения к росистой траве, дуновения ветерка, аромата распустившихся цветов, звука человеческого голоса, поднебесного пения птиц.
Его беспокоило возникшее противоречие. Он стал священником двадцать лет назад, подписавшись под утверждением, что жизнь – преходящее несовершенство, земля – тусклое отображение ее создателя, а бессмертная душа заточена в тленной плоти и рвется наружу, в распростертые объятия всемогущего Бога. А теперь, когда назначен срок освобождения собственной души, почему он не может принять его, если… если не с радостью, то хотя бы с уверенностью в себе?
Что привязывало его к тому, от чего он давно отказался? Женщина? Ребенок? Семья? Их у него не было. Собственность? Крошечная квартирка на Порта Анджелика, несколько риз, полки с книгами, скромное жалование конгрегации [1]1
Конгрегация – объединение церковных общин у католиков.
[Закрыть], ежегодная рента, оставленная матерью. Едва ли что-либо из указанного выше могло бы помешать переступить порог великого откровения. Карьера? Тут он чего-то достиг – аудитор Конгрегации ритуалов, личный помощник ведомства папской курии кардинала Маротты. Немалое влияние, полное доверие его преосвященства. Не так уж плохо сидеть под тенью папского трона. Наблюдать, как вертятся колесики сложного механизма высшей церковной власти. Жить, не заботясь о куске хлеба, иметь время на занятия, свободу действий в определенных пределах. Что-то в этом есть… Но недостаточно для человека, жаждущего воссоединения души с создателем всего живого.
Может, в этом-то вся загвоздка? Он никогда ничего не жаждал. Получал все, что хотел, не стремился к доступному. Принял духовный сан, обретя взамен безопасность, поддержку, широкое поле для приложения своих скромных талантов. Он достиг всего и, если никогда не просил счастья, то лишь потому, что не знал обратного. До тех пор, пока… пока не пришла последняя для него весна. Последняя весна, последнее лето. Ошметок жизни, выжатый досуха, а затем брошенный в урну. И горечь, отдающая неудачей и разочарованием. Какие заслуги мог принести он на суд божий? Что оставит после себя, за что будут помнить его люди?
Он не зачал ребенка, не посадил дерева, не заложил камень в фундамент дома или монумента. Ни на кого не накричал, никого не облагодетельствовал. Он работал в архивах Ватикана. И добрые дела его конгрегации касались не живых, а умерших. Он не кормил бедных, не исцелял больных, грешники не благословляли его за спасение души. Выполнял все, что от него требовалось, но умирал бесследно, понимая, что после похорон, не пройдет и месяца, его имя станет пылью в пустыне столетий.
Внезапно его охватил ужас. На лбу выступил холодный пот. Руки задрожали, и дети, игравшие в мяч около скамейки, попятились от изможденного, с посеревшим лицом священника, невидящие глаза которого уставились на сверкающую под солнцем поверхность пруда. Дрожь в руках постепенно прекратилась. Ужас отступил, Мередит успокоился. Благоразумие восторжествовало, и он начал думать, что предстоит сделать в отпущенный срок.
Когда он заболел, когда итальянские врачи поставили первый, предположительный диагноз, его потянуло в Лондон. Если он обречен, то хотел бы выслушать приговор на родном языке. Если его дни сочтены, он Предпочел бы подышать напоследок сладким воздухом Англии, побродить по долинам и холмам, послушать соловьев у старых церквей. Смерть здесь более естественная, даже дружелюбная, потому что англичане не одно столетие учили ее вежливости.
В Италии же смерть резкая, драматичная – финальный аккорд грандиозной оперы, с причитающим хором, взлетающими в воздух плюмажами, черными катафалками, проплывающими мимо величественных дворцов к мраморным склепам Кампо Санта.
В Англии все куда спокойнее – сдержанная молитва в церкви, зев могилы на зеленой траве средь замшелых памятников, обильные возлияния в обшитом дубом пабе напротив кладбищенских ворот.
Теперь и это оказалось иллюзией, трогательным заблуждением, не имеющим силы против коварного серого врага, окопавшегося в его животе. Он не мог избавиться ни от опухоли, ни от ощущения неудачи как в жизни, так и в служении Богу.
Что же оставалось? Лечь под нож? Укоротить агонию, усечь страх и одиночество до терпимых пределов? Не станет ли это новой неудачей, самоубийством, с которым никогда не смирится совесть, но которую могут оправдать моралисты? У него достаточно долгов, этот последний превратит его в полного банкрота.
Вернуться к работе? Сесть за старый стол под сводчатым потолком Дворца конгрегаций в Риме, открыть толстые фолианты, в которых почерком тысяч клерков занесены сведения о жизни, деяниях, писаниях давно умерших кандидатов в святые. Изучать их, анализировать. Ставить под вопрос добродетели этих людей, приписываемые им чудеса. Вносить новые записи. Ради чего? Чтобы очередного кандидата отвергли, потому что его поступки оказались не столь героическими, а добродетели весьма сомнительными? Или чтобы через полстолетия, а то и через двести лет Папа объявил в соборе святого Петра о внесении в календарь еще одного праведника?
Интересует ли их, умерших, что он о них пишет? Волнуются ли они о том, что скульптор высечет новую статую с нимбом над головой, а полиграфисты напечатают миллионы открыток с ликом новоиспеченного святого на одной стороне и перечнем его добрых дел на другой? Улыбаются ли они, глядя на своих льстивых биографов, или хмурятся при виде официальных прокуроров? Они умерли и давно прошли суд божий. Все остальное – приложение, постскриптум, суета. Новый культ, новое место поклонения, новая месса никоим образом не отразятся на них. Блейз Мередит, священник, философ, законник, может корпеть над бумагами двенадцать месяцев или двенадцать лет, но не добавит ни йоты к блаженству этих людей, не обречет их и на более страшные муки.
И тем не менее в этом заключалась его работа, и ему не оставалось ничего иного, как продолжить ее, потому что он слишком устал, чтобы браться за что-то другое. Он будет ходить к мессе, работать во Дворце конгрегаций, иногда читать проповеди в английской церкви, выслушивать исповеди, заменяя коллегу, уехавшего в отпуск, каждый вечер возвращаться в квартирку на Порта Анджелика, немного читать, молиться перед сном, чтобы следующим утром повторить все сначала. Двенадцать месяцев. Потом он умрет. Неделю его будут поминать в мессе: «наш брат Блейз Мередит», затем он присоединится к сонму забытых…
В парке похолодало. Юноши стряхивали траву с пиджаков. Девушки оправляли юбки. Лебеди чинно поплыли к искусственным островам. Родители с детьми потянулись к выходу.
Пора. Самое время для монсеньора Блейза Мередита отодвинуть свои заботы и изобразить на лице вежливую улыбку перед тем, как прийти на чай в Вестминстер. Англичане – воспитанные и терпимые люди. Они не одобряют ни подчеркнутой святости, ни выставляемых напоказ пороков, считают, что лучше не пить, если быстро пьянеешь, а неприятности нужно держать при себе. Они подозрительны к святым, сдержаны с мистиками и уверены, что Бог исповедует те же взгляды. Даже в столь тяжкий час Мередит не мог изменить традиции, требующей забыть о собственных горестях и уделить внимание болтовне коллег.
Он поднялся со скамьи, постоял, словно прислушиваясь к своему телу, и пошел по направлению к Бромптон-Роуд.
В тот теплый вечер доктор Альдо Мейер тоже не сидел без дела: он пытался напиться, побыстрее и с минимумом неприятных ощущений.
Он коротал время в винном магазине с низким потолком и земляным полом, в компании грубого мужлана-хозяина и коренастой девицы-подавальщицы. Ее черное платье едва не лопалось на груди. Пил доктор огненную граппу, призванную утолить любую печаль.
Он сидел на грубо сколоченной скамье, наклонившись вперед, уставившись в чашку. Хозяин облокотился на стойку бара, выковыривая из зубов остатки ужина. Девушка замерла у стены, готовая наполнить чашку по первому знаку доктора. Сначала он пил быстро, задыхаясь после каждого глотка, затем медленнее, по мере того, как алкоголь начал снимать напряжение. Последние десять минут он не пил вовсе. Казалось, чего-то ждал, прежде чем сдаться на милость затаившегося в чашке беспамятства.
В сорок девять лет доктор выглядел стариком. Седые волосы, обтянутое сухой кожей лицо, тонкий с горбинкой нос, длинные пальцы. Потрепанный костюм давно устаревшего покроя, старые, но начищенные ботинки, чистая рубашка со свежими пятнами траппы. Всем своим обликом он разительно отличался от девушки и хозяина магазинчика, судя по всему, никогда не покидавших пределов деревни.
Джимелло Миноре находилось далеко от Рима и еще дальше от Лондона, убогий винный магазин не шел ни в какое сравнение с Дворцом конгрегации, но доктор Альдо Мейер, как и Блейэ Мередит, думал о смерти и, несмотря на скептицизм, размышлял, кого же можно причислять к святым.
После полудня его позвали в дом Пьетро Росси, у жены которого десять часов назад начались родовые схватки. Повитуха не знала, что и делать, в комнату набились женщины, кудахтающие, словно наседки, а Мария Росси стонала и извивалась от боли на широкой кровати. Мужчины собрались на улице, тихо переговаривались, передавая из рук в руки бутылку вина.
Когда подошел доктор, они замолчали, исподлобья глядя на него, а Пьетро Росси ввел его в дом. Альдо Мейер прожил среди этих людей двадцать лет, но так и остался для них чужим. Бывали случаи, когда его участие в их жизни становилось необходимым, но никогда его не принимали с распростертыми объятиями.
В доме доктора встретили те же молчаливые враждебность и подозрительность. Стоило ему наклониться над кроватью, пальпируя вздувшийся живот Марии, как повитуха и мать роженицы встали у него за спиной, а крик, сопровождающий очередную схватку, вызвал недовольный ропот женщин, словно он причинял пациентке излишнюю боль.
Мейеру хватило трех минут, чтобы поставить диагноз: надежды на нормальные роды нет. Спасти женщину могло только кесарево сечение. Подобная перспектива не обеспокоила Мейера. Ему не раз приходилось оперировать рожениц – при любом освещении, на кухонных столах и широких лавках. Горячая вода, анестетики и крепкое здоровье крестьянок обычно гарантировали благополучный исход.
Он ожидал возражений: привык к тупому упрямству этих людей, их страху перед ножом хирурга. Но вспыхнувший вулкан ненависти удивил и его. Начала свару мать роженицы, низкорослая толстуха с гладкими волосами и черными, змеиными глазками. Она налетела на Мейера, как коршун:
– Я не допущу, чтобы ты резал мою девочку. Мне нужны живые внуки, а не мертвые. Доктора все одинаковые. Если вы не можете лечить, то начинаете резать, а потом хороните. Не подходи к моей дочери! Надо дать ей время, и ребенок выскочит, как горошина из стручка. Я рожала двенадцать раз. Уж я-то знаю. Не все они выходили легко, но я их рожала. И не нуждалась в услугах мясника, чтобы вырезать их из меня.
Взрыв пронзительного смеха заглушил стоны роженицы. Альдо Мейер смотрел на нее, не обращая внимания на остальных женщин.
– Без операции она умрет до полуночи.
Раньше такая прямота, его полное презрение к невежественным доводам крестьян срабатывали безотказно. Но женщина рассмеялась ему в лицо:
– Как бы не так, еврей! И знаешь почему? – Она достала из-за пазухи выцветшую красную тряпицу и сунула ее под нос Мейеру. – Знаешь, что это такое? Конечно, нет, ты же неверный, убийца христианских младенцев. Теперь у нас есть святой. Настоящий святой! Со дня на день об этом объявят в Риме. Это клочок его рубашки, которую он носил при жизни и в которой умер. На ней остались пятна его крови. Он творил чудеса. Истинные чудеса. Они записаны в документах. О них знает Папа. Неужели ты можешь сделать больше, чем он? Ты? Так кого мы выберем, подруги? Нашего святого Джакомо Нероне или этого типа?!
Роженица громко закричала от боли, женщины притихли, а ее мать сунула руку под одеяло и круговыми движениями начала потирать огромный живот красной тряпицей. Мейер молчал, подбирая слова. Заговорил он, когда схватка кончилась и крики перешли в слабые стоны.
– Даже неверный знает, что грешно сидеть в ожидании чуда, не помогая себе и близким. Нельзя отказываться от услуг медицины и ждать исцеления от святых. Кроме того, Джакомо Нероне еще не святой. И пройдет немало времени, прежде чем в Риме приступят к разбору его дела. Молитесь ему, если хотите, просите, чтобы он укрепил мою руку, а женщине дал сильное сердце. Довольно болтовни. Несите горячую воду и чистые полотенца. У нас мало времени.
Никто не пошевельнулся. Мать роженицы преграждала ему путь к кровати. Женщины выстроились полукругом, оттесняя его к двери, где с каменным лицом застыл Пьетро. Мейер резко повернулся к нему.
– Ну, Пьетро! Ты хочешь ребенка? Хочешь, чтобы твоя жена осталась живой? Тогда, ради бога, послушай меня. Если я немедленно не начну операцию, она умрет, а вместе с ней и ребенок. Ты знаешь, что в моих силах спасти ее. Тебе скажут об этом человек двадцать в этой деревне. Но тебе не известно, на что способен Джакомо Нероне, даже если он и святой… в чем я очень сомневаюсь.
Пьетро Росси упрямо покачал головой.
– Негоже вспарывать живот женщине, как какой-то овце. Кроме того, Нероне необычный святой. Это наш святой. Он жил среди нас. Он – наш хранитель. Вам лучше уйти, доктор.
– Если я уйду, твоя жена не переживет ночи.
Его взгляд разбился о непроницаемое лицо крестьянина.
«Как мало я о них знаю, – в отчаянии подумал Мейер. – Как мне бороться с их невежеством?»
Пожав плечами, он подхватил саквояж с инструментами и направился к двери. На пороге остановился и еще раз обратился к Пьетро:
– Позовите отца Ансельмо. Она может умереть с часу на час.
Мать роженицы презрительно плюнула на пол, повернулась к кровати и, бормоча молитвы, вновь завозила красной тряпицей по животу дочери. Женщины молча смотрели на доктора. Ему не оставалось ничего другого, как уйти. Шагая по вымощенной булыжником улице, он чувствовал, как взгляды мужчин, словно ножи, впиваются ему в спину. Вот тогда он решил напиться.
Для Альдо Мейера, давнего либерала, верящего в светлое будущее, решение это являлось признанием полного своего поражения. Желание помогать этим людям окончательно угасло. Они ничем не отличались от ненасытных коршунов. Они могли выклевать ему сердце и бросить тело в придорожную канаву. Он страдал за них, сражался за них, жил с ними, пытался хоть чему-то их научить, они же брали все и ничуть не менялись. Они насмехались над знанием, но, будто дети, жадно тянулись к легендам и суевериям.
Только церковь могла управлять ими, хотя и мучила их демонами, навязывала святых, обхаживала плачущими мадоннами с толстыми младенцами. Она грабила их дочиста ради нового подсвечника, но не могла или не хотела открыть для них пункт противотифозных прививок. Их матери сгорали от туберкулеза, дети ходили с распухшими селезенками из-за повторяющихся приступов малярии, но они продали бы душу дьяволу, лишь бы не глотать таблетки, пусть даже купленные на деньги доктора.
Они жили в лачугах, где порядочный фермер не стал бы держать коров. Они ели оливки, макароны, хлеб, обильно политый растительным маслом, козье мясо по праздникам, если могли позволить себе такую роскошь. На их холмах не росли деревья, и дожди смывали с их полей тонкий слой плодородной почвы. Их вино было слабым, урожаи – ничтожными. Ходили они, волоча ноги, как ходят те, кто мало ест и много работает.
Землевладельцы нещадно эксплуатировали их, но они липли к ним, как дети. Священники часто спивались и волочились за юбками, но крестьяне кормили их и смиренно терпели их выходки. Если лето запаздывало или выдавалась суровая зима, оливковые деревья вымерзали, и в горах начинался голод. Дети не учились, у государства не доходили руки до далеких деревень, а они не желали подменять власти, хотя сами могли бы построить школу. Они не могли платить учителю, но собирали последние лиры на канонизацию нового святого, хотя в календаре хватало и старых.
Альдо Мейер вглядывался в темные глубины граппы, не видя ничего, кроме безнадежности, разочарования, отчаяния. Он поднял чашку и выпил ее залпом. Горло ожгло, как огнем, но ему не стало легче.
Он приехал сюда изгнанником, когда фашисты ополчились на евреев и левых либералов, предоставив им выбор между захолустьем Калабрии и каторжными работами на острове Липари. Они наградили его титулом медицинского советника, но не назначили жалования, не дали ни лекарств, ни антисептиков. Он приехал с саквояжем инструментов, флаконом с таблетками аспирина и справочником практикующего врача. Шесть лет он боролся, интриговал, льстил, шантажировал, чтобы организовать хотя бы элементарное медицинское обслуживание в регионе, где властвовали недоедание, малярия, тиф.
Он поселился в полуразвалившемся доме и собственными руками привел его в божеский вид. С помощью кретина-батрака обрабатывал два акра тощей земли. Больница занимала одну из комнат. Оперировал он на кухне. Крестьяне платили ему продуктами, если платили вообще. Он выбивал у местных властей лекарства и хирургические инструменты. Работа была тяжелой, но ее скрашивали редкие минуты триумфа, когда ему казалось, что еще чуть-чуть – и крестьяне примут его в свой замкнутый круг.
Когда союзники форсировали Мессинскнй пролив и начали медленно продвигаться в глубь полуострова, он бежал и присоединился к партизанам, а после капитуляции Италии поехал в Рим. Но он отсутствовал слишком долго. Прежние друзья умерли, новых найти не удалось. Маленькие победы прошлых лет звали его на новые подвиги. Обретенная свобода, деньги, стремление к переменам могли сотворить чудо на юге Италии. Таким чудотворцем и решил стать Альдо Мейер.
И он вернулся в старый дом, в ту же деревню, окрыленный новыми идеями, обретший вторую молодость. Он будет не только доктором, но и учителем, создаст организацию, которая объединит всех, привлечет средства из Рима и от заморских благотворительных фондов. Он научит крестьян личной гигиене и агротехническим приемам повышения плодородия почвы, сохранения воды. Он подготовит молодых учеников, которые понесут свет знания в самые отдаленные уголки. Он станет проповедником прогресса там, где время остановилось три столетия назад.
За двенадцать лет та прекрасная мечта превратилась в унылую иллюзию. Доктор допустил ошибку, типичную для либералов. Поверил, что эти люди готовы изменить условия своей жизни, что добрая воля встретит добрую волю. Его планы потерпели крушение из-за корыстолюбия чиновников, консерватизма церкви, недоверия и жадности невежественных крестьян.
И винные пары не могли скрыть правду: эти люди победили, он проиграл. И тут уж ничего не попишешь.
Сквозь вечерние сумерки до стойки бара донеслись женские вопли. Девушка и хозяин магазинчика обменялись коротким взглядом, перекрестились. Доктор встал, покачиваясь, подошел к двери, выглянул наружу.
– Она умерла, – прохрипел хозяин магазина.
– Скажи об этом вашему святому, – ответил Альдо Мейер. – Я иду спать.
Как только он скрылся за дверью, девушка показала ему язык и вновь перекрестилась.
А скорбные крики не утихали, преследуя его по вымощенной булыжником улице. Они барабанили в дверь, рвались в окна и не отступили, даже когда доктор забылся тяжелым, беспокойным сном.
Незадолго до захода солнца кардинал Маротта вышел в сад своей виллы на Париоли. Далеко внизу город оживал после душного дня, возвещая об этом гудками автомобилей, треском мотоциклов, криками торговцев. Туристы возвращались с экскурсий в собор святого Петра и Павла, Колизей. Цветочницы ходко сбывали свой товар. Закат еще красил багрянцем вершины холмов, но среди серых городских стен сгущался насыщенный пылью полумрак.
На Париоли, где воздух чист, а улицы пустынны, его преосвященство неторопливо прохаживался среди кустов жасмина. Высокие стены и кованые ворота охраняли его покой, а бронзовые гербовые барельефы напоминали о статусе и титулах кардинала Маротты, архиепископа Акрополиса, профессора Сант-Клемента, префекта Конгрегации ритуалов, пропрефекта Высшего трибунала, члена Комиссии по толкованию канонического закона, протектора сыновей святого Иосифа и дочерей непорочной Марии, входящего в состав руководства еще двадцати крупнейших организаций католической церкви. Его преосвященство любил подтрунивать над многочисленными титулами, дающими ему немалую власть, но за внешним добродушием скрывались изворотливый ум и железная воля.
Невысокий ростом, с круглым животиком, миниатюрными руками и ногами, двойным подбородком и высоким лбом, лысой, как бильярдный шар, головой. Его серые глаза лучились добротой, а маленький ротик алел на оливковом лице. Красную кардинальскую камилавку он получил совсем молодым, в шестьдесят три года. Он много работал, но его энергии хватало и на хитроумные интриги, которыми так знаменит Ватикан.
Кто-то видел в нем следующего Папу, иные, гораздо большим числом, полагали, что кандидату на престол святого Петра должно главным образом заботиться о моральном облике духовенства и мирян, а уж во вторую очередь уделять время дипломатии. И Маротта спокойно ждал очередного конклава [2]2
Конклав – собрание кардиналов для избрания (пожизненного) нового Папы Римского.
[Закрыть]. Пусть он не станет Папой, но кардинальскую шляпу у него не отберут. Кроме того, почтенный возраст нынешнего Папы отнюдь не свидетельствовал, что он должен умереть со дня на день, и вряд ли его святейшество стал бы выказывать благосклонность тем, кто мечтает о его месте.
Прогуливаясь по саду, Маротта наблюдал, как солнце закатывается за холмы, и размышлял о накопившихся проблемах в полной уверенности, что в конце концов все они благополучно разрешатся.
Он имел право на отдых. Поднимаясь по ступеням карьеры, Маротта достиг высокого плато, откуда его не могли столкнуть ни злой умысел, ни опала. До конца своих дней он остается кардиналом, князем церкви, навечно посвященным в сан, гражданином самой маленькой и самой неуязвимой страны в мире. Совсем неплохое достижение для человека, которому едва перевалило за шестьдесят. К тому же, его не обременяли ни жена, ни дети, не искушала плотская страсть. А талант и честолюбие шептали, что он еще не исчерпал себя.
Следующий шаг мог забросить его на трон святого Петра, вознесенный высоко, парящий между миром людей и вратами рая. Папа получал от предшественника не только перстень с изображением Рыбака [3]3
Рыбак – апостол Петр, первый римский епископ.
[Закрыть]и тиару, но и все грехи мира, свинцовой тяжестью ложащиеся на его плечи. Папа стоял на самой вершине, в полном одиночестве. Смотрел на расстилающийся внизу ковер стран, а на него самого взирал господь Бог. Только дурак мог завидовать власти, славе и ужасу того, кто достиг такого предела. Кардинал же Маротта был далеко не дурак.
В этот час сумерек и жасмина его занимали собственные заботы, а в их числе – письмо от епископа Валенты, маленькой епархии в захудалой части Калабрии. Епископа уже знали, как реформатора, готового к участию в политической жизни. Пару лет назад он наделал немало шума, лишив сана нескольких деревенских священников, уличенных в связях с женщинами, и отправив на пенсию полдюжины стариков. На последних выборах в Калабрия христианские демократы получили значительно больше голосов, чем ранее, и Папа послал епископу благодарственное письмо. Однако более тщательное рассмотрение результатов выборов показало, что дополнительные голоса получены за счет монархистов, а коммунисты сохранили и даже чуть упрочили свои позиции…
Епископ прислал простое и ясное письмо, слишком простое и слишком ясное, чтобы не вызвать подозрений такого искушенного политика, как кардинал Маротта.
Начиналось оно с приветствий, пышных и почтительных, от бедного епископа своему царственному собрату. Далее речь шла о петиции, полученной епископом от священника и прихожан деревень Джимелли деи Монти [4]4
Горные близнецы (итал.).
[Закрыть]с просьбой о проведении расследования, ставящего целью приобщение к лику блаженных слуги божьего Джакомо Нероне.
Джакомо Нероне убили партизаны-коммунисты, и обстоятельства его смерти позволяли назвать ее мученической. После гибели Нероне в деревнях и ближайшей округе началось его стихийное почитание, и несколько случаев чудесного исцеления страждущих местные жители отнесли на его счет. Предварительное следствие подтвердило доброе имя Нероне и несомненность чудесных исцелений. Поэтому епископ склонялся к тому, чтобы одобрить петицию и начать официальное рассмотрение дела Нероне. Но прежде чем принять окончательное решение, он обращался за советом к его преосвященству, префекту Конгрегации ритуалов, и просил прислать из Рима двух мудрых и благочестивых священников: постулатора для организации и проведения расследования и защитника веры или адвоката дьявола для скрупулезной проверки представленных доказательств и показаний свидетелей в полном соответствии с каноническим законом.
Письмо касалось и многого другого, но суть заключалась в том, что епископу хотелось иметь святого в своей епархии. К тому же, очень нужного святого, замученного коммунистами. Святость того или иного слуги божьего могло установить только официальное расследование, проведенное сначала в епархии, а затем – в Риме, под руководством Конгрегации ритуалов. Первое обычно проводилось лицами, назначенными самим епископом при его непосредственном участии. Провинциальные епископы всегда очень ревниво относились к своей автономии. Почему же епископ Валенты обратился в Рим уже на этом этапе?
Эудженио Маротта погрузился в глубокое раздумье.
Деревни Джимелли деи Монти затерялись в южной Италии, где быстро расцветали и тут же умирали религиозные культы, где веру покрывал толстый слой предрассудков, где крестьяне одной и той же рукой крестились и отгоняли злого духа, где на стену вешали икону, а над амбарной дверью прибивали языческие рога. Епископ хитрил. Святой принес бы пользу епархии, но он не хотел, чтобы его репутация зависела от исхода расследования.







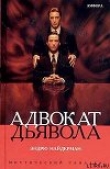
![Книга Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола] автора Уильям Арден](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-tayna-plyashuschego-dyavola-tayna-tancuyuschego-dyavola-3329.jpg)