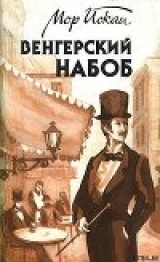
Текст книги "Венгерский набоб"
Автор книги: Мор Йокаи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
XXV. Опасное испытание
На другой день Рудольф лишь за обедом, в многолюдном обществе увиделся с женой. Ни тени обиды не было на ее прекрасном лице, столь же чарующем, пленительном, как и прежде. Она была сама любезность по отношению к мужу, сама предупредительность.
«Ну вот и позабыла. Я так и думал!» – радовался Рудольф.
После ухода гостей, уже поздно вечером, они опять остались наедине друг с дружкой.
Сколько ласки в этом выражении: «друг с дружкой». Едва ли и передашь ее на другом языке. Все в этих словах слилось: и преданная любовь, полное супружеское доверие, и радость близости, огражденное от докук райское блаженство, и безмятежное умиротворение, и шутливая нежность – все, все.
Флора была даже милей и обворожительней обычного. Никогда еще ее уста не произносили слов столь ласковых и остроумных и – что всяких слов дороже – не дарили поцелуев столь пылких; никогда глаза не лучились такой радостью и вся она не сияла подобной красотой.
Рудольф не мог мысленно не отдать должное немецкому изречению о том, что милые бранятся – только тешатся.
И, мня, что одержал полную победу в начатом вчера споре, он в великодушии своем не хотел даже напоминать о нем в этот идиллический час, обнял жену в счастливом упоении так крепко, точно вообще не желал отпускать.
Но Флора мягко отвела его руки.
– А теперь, Рудольф, до свидания! – склонив головку ему на плечо, тихо сказала она. – Пожелаем друг дружке спокойной ночи.
Рудольф оторопел.
– Видишь, не такая уж я легкомысленная, как ты думаешь, – не такая слабая, даже по отношению к тебе, хотя люблю тебя и любить тебя никто мне не запрещает.
Она послала ему из дверей спальной воздушный поцелуй, и Рудольф услышал, как дважды повернулся ключ в замке.
Это все-таки было уже слишком, чтобы сохранить самообладание!
Раздеваясь, Рудольф с десяток, наверно, пуговиц оторвал. С досады схватил он Гуго Гроция[266]266
Гроций Гуго (1583–1645) – известный в свое время голландский правовед, знаток древности.
[Закрыть] и читал далеко за полночь, а потом швырнул книгу на пол, так ни слова и не поняв. Мысли его были далеко.
На следующий день все это с небольшими различиями повторилось.
Флора была сама кротость, сама доброта. Бесконечно обаятельная, она, как обольстительная сирена, чарующе-ласковым вниманием окружала супруга; всем дарила, чем только может одарить женщина. Но двери спальной по-прежнему затворялись перед ним.
Трудно вообразить пытку более изощренную. Нерон, Калигула – сущие филантропы рядом с этой молодой женщиной!
– До каких же пор этот карантин будет продолжаться?! – вспылил наконец Рудольф в один прекрасный день.
– Пока вы не откажетесь от своего мнения о женщинах, унизительного для них.
Отказаться? Это почти ничего не стоит. Но мужское достоинство дороже. Служение женщине настоящего мужчину даже привлекает, и уж коли по душе ему эти златые цепи, он и произволу своей дражайшей, своей обожаемой готов покориться – по доброй воле. Но насильно, по принуждению – нет, никогда!
Сдаваться, пощады просить – на это можно пойти, разве лишь если все потеряно.
А так… Он сам еще сумеет вынудить к сдаче жену. В бессонные, одинокие ночи у него было время измыслить план действий.
На неделю он уедет, не сказавшись куда.
Карпати сейчас в своем надькунмадарашском доме. У них он эту неделю и проведет.
Молодая женщина, конечно же, радушно его примет, а он поухаживает за ней. В успехе сомневаться не приходится. И не такие упорные натуры он покорял, задавшись целью победить. Старика Карпати все это мало беспокоит. Только рад будет, что жена развлечение нашла. Особой хитрости ведь не требуется, чтобы знак расположения получить от падкой до наслаждений женщины. А большего ему и не надо.
Одно лишь какое-нибудь подтверждение ее слабости иметь в руках, чтобы предъявить жене: «Гляди! Вот она, за чью добродетель ты ручалась, ради кого обиду могла затаить на мужа, от сердца своего, от радости величайшей его отлучить, кою даровал ему господь в твоем лице. Вот: одного слова, даже взгляда было довольно, чтобы эта женщина, которую ты, вопреки мужнину предостережению, пригрела у себя на груди, оказалась способной похитить его сердце у тебя. Что же: не слаба разве женщина, скажи?».
Вот с какими замыслами, какими планами собрался он на другой день в дорогу. И снова с видом самым ласковым и дружелюбным, заботой искренней и сердечной попрощалась с ним Флора. Это не притворство было, а триумф самоотверженности!
– Может быть, мир все-таки? – ласково шепнул Рудольф ей на ухо.
– Только безусловная капитуляция, – ответила Флора с непреклонной улыбкой.
– Хорошо. Помиримся, когда вернусь. Но уж тогда условия диктовать буду я.
Флора с сомнением покачала красивой головкой и расцеловала мужа. Подбежала и к экипажу, чтобы еще раз поцеловать, а потом вышла на веранду проводить взглядом. Рудольф же высунулся из кареты, и оба замахали друг другу: он – шляпой, она – платочком.
Вот как покидал дом верный супруг; с намерением соблазнить чужую жену – ради того, чтобы возвратить себе свою собственную.
Ведал бы он только, что творит!
Со дня вступления Рудольфа в должность Карпати жили в мадарашском особняке. Старик уступил настояниям жены, просившейся переехать туда на время, хотя место нравилось ей гораздо меньше Карпатфальвы.
Фанни хотелось быть подальше от Сент-Ирмы, и в Пешт она больше не просилась, услышав от Кечкереи, будто Рудольф с Флорой на зиму тоже собираются туда.
И пока завсегдатаи Карпатфальвы не нашли дорогу в Мадараш, дни ее там протекали в относительном спокойствии.
Она была довольна своим уединением, и так как чуть не целые дни проводила подле Яноша, смело можно додавить: и он иного общества не желал.
Как-то вдвоем прогуливались они по наново разбитому им английскому парку. Робкие косули уже привыкли к хозяйке, чьи карманы всегда были полны засахаренного миндаля; подойдя, они прямо с ладони брали угощение и сопровождали ее. Тут с дороги послышался стук экипажа. Янош Карпати глянул через ограду.
– Ого! Это Сент-Ирмаи лошади.
Фанни вздрогнула. Карпати почувствовал это по ее руке.
– Что? Остуцилась?
– На улитку наступила, – побледнев, ответила жена.
– Глупенькая, что ж испугалась так. А я знал, что Флора тебя навестит, она тебя очень любит. Да и как тебя не любить?
Но Фанни-то лучше разобрала: в приближавшемся экипаже – не женщина, а мужчина. У г-на Яноша зрение было слабое. Лошадей он даже издали узнавал, а вот людей нет.
– Идем, выйдем навстречу, – предложил он жене, когда экипаж завернул уже в парк.
Но Фанни не двигалась, словно к месту приросла. Уж лучше б ей и вправду в плакучую иву обратиться, вечно шепчущую неизвестно что тихими своими ветвями.
– Идем же, встретим твою подругу, – поторопил ее добрый старик.
Фанни подняла на него испуганный, растерянный взгляд.
– Это не Флора, – пролепетала она.
– А кто же? – спросил Янош. Любому другому на его месте показалось бы странным поведение жены, но ему совершенно чужды были всякие подозрения. – Кто же, кроме нее?
– Это ее муж, – отвечала Фанни, отнимая руку у старика.
Тот расхохотался.
– Вот глупышка! Так и его тебе же принимать, ты хозяйка.
При этих словах к Фанни вернулось самообладание, которое она вот-вот готова была потерять.
Ничего больше не говоря, со сжавшимся сердцем и застывшим лицом поспешила она под руку с мужем навстречу приезжему.
Что страх осужденного перед плахой в сравнении с ее чувствами!
В собственном жилище принимать того, страсть к кому довела ее чуть не до безумия, вдобавок одного, без жены. Ласковой с ним быть, ибо так велят приличия, долг вежливости. И развлекать еще, быть может? Развлекать!!!
Когда они подошли к внутренней галерее, карета Рудольфа как раз въехала во двор. Завидевший их юный граф поспешил к ним. Янош Карпати еще издали протянул Рудольфу руку, которую тот дружески пожал.
– Ну и ты подай руку-то, – сказал старик жене, – подруги муж небось, а глядишь, будто не видала никогда.
Фанни показалось, будто земля под ней заходила ходуном, а старый особняк поплыл, закружился перед глазами вместе со всеми кариатидами и колоннами.
Ощутив пожатие теплой руки, она без сил опустила голову мужу на плечо.
Внимательно ее наблюдавший Рудольф составил себе собственное представление о ней. Он эту бледность, поникшую головку, этот отуманенный взгляд принял за рассчитанное кокетство и решил, что добиться своего будет совсем легко.
Подымаясь по лестнице, он объяснил Карпати причину своего приезда. Предстояло уладить какую-то распрю о границе между комитатами, что могло занять не один день.
Значит, пытка не только жестокая, но еще и долгая.
Предобеденные часы мужчины провели вместе, только за столом увидела она Рудольфа опять.
Сам Карпати поразился бледности жены. За весь обед она не проронила ни словечка.
Разговаривали, как водится, о вещах безразличных.
Рудольфу почти не представилось случая обратиться к самой хозяйке; комплименты же делать в присутствии мужа непорядочно.
После обеда Карпати обыкновенно ложился вздремнуть, и обыкновение это было столь твердое, что он и ради восточного властелина ему не изменил бы.
– А ты, братец, позаймись пока чем-нибудь, – сказал он Рудольфу, – с женой поболтай, а то в библиотеку поди, если хочешь.
Выбрать труда не составляло.
Фанни, пообедав, сразу ушла в парк.
Как просила она, молила суровые эти, добрые деревья, пестрые веселые цветы избавить ее от гложущих мыслей, навеять другие! В надежде, что любимые цветы помогут рассеяться, а знакомые кусты – спрятаться от себя самой, петляла она по извилистым дорожкам, изнемогая под гнетом тайного, безотчетного желания, как вдруг заслышала шаги и, подняв глаза, увидела идущего навстречу Рудольфа.
Предстань пред ней вырвавшийся из клетки тигр, и то она не испугалась бы сильнее.
И спрятаться некуда. Хоть бы раньше его заметить и кинуться бежать, куда глаза глядят. Но они уже лицом к лицу.
Поздоровавшись приветливо, молодой человек заговорил на самые общие темы – о том, как дивно красивы эти цветы: словно чувствуют близость хозяйки и соперничают с ней.
– Я люблю цветы, – пролепетала Фанни, лишь бы ответить что-нибудь.
– А если б вы еще про них и знали!..
Фанни взглянула на него вопросительно.
– То есть не просто названия, а их воображаемые свойства, весь связанный с ними оригинальный сказочный мир. У каждого ведь цветка собственная жизнь есть, свои желания и склонности, свои горести и радости, скорби и страсти – совсем как у нас. Фантазия поэтов каждый наделила каким-либо особенным значением, о каждом какую-нибудь маленькую историю соткала; встречаются среди них и весьма изящные. В этой платонической жизни цветов, право же, очень много занимательного.
И Рудольф сорвал ирис, росший у дорожки.
– Смотрите, вот три счастливые пары. Каждая – тесный семейный союз: муж с женой рядышком, друг подле друга; вместе распускаются, вместе увядают. Неверных здесь нет; все – счастливые влюбленные.
Он бросил ирис и сорвал цветок амаранта.
– А эти цветы – аристократы. Муж устроился наверху, во втором этаже, жена – в первом: барская жизнь. Однако этот вот матово-бархатистый отлив указывает, что оба счастливы.
Рудольф растер цветок между пальцами. Кучка мелких черных семян высыпалась ему на ладонь.
– Как черные бриллианты, – сказал он.
– Бриллианты, – шепотом повторила Фанни, невольным движением подставляя руку, куда юноша их и пересыпал.
Жаль выбрасывать: они ей теперь дороже алмазов обеих Индий.[267]267
Обе Индии – вест-индские и южноамериканские владения Испанской короны.
[Закрыть]
Рудольф отшвырнул амарант.
Фанни взглядом проводила цветок, будто замечая место, куда он упал.
– А теперь на эти два явора взгляните. Какие великолепные, высокие деревья! У одного листва словно посветлее, это женский экземпляр, потемнее же – мужской. Первое делают светлее вот эти кисти семян, которыми оно покрыто. Тоже счастливая пара; а поглядите-ка на тот одинокий явор, подальше. Совсем пожелтел, бедняга. Не нашел себе спутника жизни. Бессердечный какой-то садовник посадил его рядом с орехом, а тот ему не пара, вот и желтеет, чахнет; этакая жалость.
Ах, знал бы он, как терзает шутливыми своими историями бедную женщину.
– Так что и растения бывают несчастливы в любви… Но что с вами, боже мой, как вы побледнели!
– Ничего, сударь, так, дурнота бывает иногда, – сказала Фанни, безо всякого стеснения опираясь на руку Рудольфа.
Тот истолковал ее движение по-своему. Но он заблуждался.
Это был жест отчаяния – того отчаяния, которое собачонку, брошенную в клетку ко льву, заставляет заигрывать с грозным зверем.
Прижавшись к спутнику, она просунула свою руку в его: будь что будет! Сердце готово разорваться, так пусть разрывается.
То была головокружительная страсть глядящего вниз с высокой башни, испытывающего искушение кинуться вниз и разбиться.
Так дошли они до изобилующей всякой растительностью теплицы, где как раз распустилась великолепная белоснежная георгина с нежно-розоватой сердцевинкой – цветок, в Европе тогда еще весьма редкий. Рудольф нашел ее очень красивой, сказав, что только в Шенбрунне[268]268
Шенбрунн – императорский дворец под Веной (ныне – в черте города).
[Закрыть] видел лучше.
Разговаривая обо всяких пустяках, они продолжали прогуливаться по парку. Рудольф думал, что завоевал уже эту женщину, она – что уже достаточно согрешила, чтобы погибнуть безвозвратно.
Согрешила – пред кем? Перед светом? Нет. И не перед мужем или Рудольфовой женой. Пред собой! Пусть она целый долгий час всего лишь прогуливалась под руку и не говорила ничего, кроме вещей самых безобидных, ничего не значащих или шуточных. Но сердце, сердце ее полнилось греховным счастьем в этот час! И что из того, если никто о том не знает, если ей одной лишь ведомо: счастье ее – краденое. Что из того, ежели сама обокраденная не подозревает всей его ценности? Грех тем тягостней ложится на душу.
Наконец они вернулись в дом.
На минуту Фанни оставила гостя с мужем. Лишь на минуту, ей самой показавшуюся мгновением; а потом просидела с ними до позднего вечера.
Отправляясь спать, Рудольф на столике у дверей отведенной ему комнаты обнаружил букет в изящной китайской вазе. В середине возвышалась та самая великолепная георгина.
Он думал, что понял все.
На следующий день мужчины до самого обеда опять занимались так называемыми делами. Проекты всякие сочиняли, общественные начинания обсуждали, скуку нагоняли друг на друга политическими умствованиями; тут уж не до женщин.
После обеда пошел дождь, повлекший два осложнения сразу: Янош раззевался вдвое против вчерашнего, Фанни же нельзя было скрыться в парк, где под открытым небом опасность меньше.
Лихорадочный жар – вот что ощущала она во всем теле. Она подметила, она знала: мужчина этот, предмет ее безумного обожания, сам хочет, чтобы его полюбили. Если это игра, то какая ужасная! А если правда, еще страшнее.
Стук в дверь. Едва она успевает отозваться: «Войдите», Рудольф уже на пороге.
Фанни не бледна уже больше, щеки ее горят огнем. При виде Рудольфа вскакивает она с кушетки и, пробормотав в полном замешательстве, что сейчас вернется, бросается вон из комнаты. Какую-нибудь собеседницу хотелось найти, которая бы ее выручила. Но ни в соседней комнате, ни в другой, ни в третьей никого. Даже служанок нет. Бог знает, куда все подевались. С обескураживающей этой мыслью пришлось воротиться.
Рудольф же заметил перед ее уходом, что она читала какую-то книгу, проворно ее отложив и набросив на нее платок, чтобы скрыть от него.
И ему, в чьих интересах было глубже проникнуть в характер этой женщины, захотелось узнать, что за книжку она прячет столь старательно. Ведь эти сегодняшние лицемерки про современную молодежь, про новых Мессалин[269]269
Мессалина – распутная жена римского императора Клавдия.
[Закрыть] читают, а какими недотрогами прикидываются.
Он сдернул с книги платок и поднял ее. Молитвенник. И меж страниц, на которых он сам раскрылся, – два сплющенных цветка: ирис и амарант…
Все легкомыслие Рудольфа вмиг улетучилось. Сердце его сжалось. Только сейчас он уразумел, какую затеял игру.
Те самые цветы, недавние. И тождество это настолько его потрясло, поглотив все внимание, что он опомнился, только когда пред ним, вся дрожа, остановилась Фанни.
Тайна раскрыта. И утратившая ее испугалась не меньше, чем овладевший.
Оба отпрянули друг от друга.
Молча смотрел Рудольф на молодую женщину, она – на него. Как красива, как пленительно прекрасна в немой своей скорби была эта женщина, которая медленно, безотчетным движением сплела руки и прижала их к груди, силясь сдержать готовое вырваться рыдание.
– Боже мой! – позабыв свою роль, вымолвил глубоко тронутый Рудольф.
Только теперь наконец он все понял.
Эти слова сострадания сломили силы Фанни. Она рухнула в кресло, и слезы полились по ее щекам.
– Почему вы плачете? – ласково взяв ее за руку, спросил Рудольф с участием, хотя прекрасно знал почему.
– Зачем вы приехали сюда? – дрожащим от страстного чувства голосом возразила Фанни, не пытаясь уже более сдерживаться. – Зачем, когда каждый день даю я обет никогда вас больше не видеть, даже мест избегаю, где могу с вами встретиться, – зачем надо было вам отыскивать меня? Теперь я погибла: господь оставил меня. Всю жизнь не было в моем сердце места мужчине, лишь ваш образ хранился в нем. Но сокрытый – глубоко-глубоко. Зачем вам понадобилось опять вызывать его? Не видели вы разве, как бежала я отовсюду, где вы только являлись? Не ваши ли руки последний раз удержали меня, когда я смерти самой неслась навстречу? Ах, сколько мне тогда пришлось из-за вас перестрадать. О, зачем только нужно было вам приезжать, чтобы увидеть меня в таком отчаянии, такой жалкой. Жалкой.
И, плача, она закрыла лицо руками.
Рудольф искренне пожалел о содеянном.
– Ну вот, вы знаете, что одну неразумную женщину воспоминание о вас повергает в отчаяние, – окрепшим уже голосом сказала Фанни, подымая платок с выдавшего тайну молитвенника и отирая глаза. – Какая вам польза, скажите? Счастливее вы будете оттого? А я вот гораздо несчастней стала, потому что самую даже мысль о вас должна гнать от себя теперь.
О, как страдал, какую душевную боль испытывал молодой человек, нанеся рану сердцу столь благородному!
Но что мог он сказать? И какие слова могут послужить тут утешением? Оставалось лишь, протянув руки, дать их покрыть слезами и поцелуями; позволить бедной женщине с безнадежной страстью пасть ему в объятья, чтобы излить в судорожных рыданиях невыразимое свое блаженство и невыразимую муку…
Выплакавшись у него на груди, Фанни наконец притихла.
– Клянусь вам, – слабым, но решительным голосом сказала она, – богом, который будет меня судить, клянусь, что, если еще раз увижу вас, час этот будет и смертным моим часом. Поэтому, если есть у вас хоть капля сострадания, постарайтесь меня избегать. Не о любви умоляю вас, только о жалости. А там уж небо пусть сжалится надо мной.
Прекрасные глаза Рудольфа затуманились слезами. Бедняжка заслуживала счастья, а счастлива была в жизни лишь минуту. Ту минуту, когда рыдала у него на груди.
А теперь уж поистине незачем и жить.
Рудольф оставил несчастную и, едва дождавшись пробуждения Карпати, попрощался и уехал обратно в Сент-Ирму.
Всю дорогу был он взволнован и опечален.
Всю дорогу слезы бедняжки жгли ему руки, лицо и сердце, ее рыдания отзывались в ушах и душе. До самого дома.
А дома выбежала навстречу другая женщина, веселая, оживленная, милая, и сладостными поцелуями стерла следы горьких слез.
– Ах, так ты в Мадараше был! – погрозила она ему проказливо. – Так я и думала, что шпионить поедешь туда. Ну и что же ты там узнал?
– Что ты права, – ответил Рудольф с нежностью, – женщины – вовсе не слабодушные создания.
– Ну, значит, мир. Как там Фанни?
– Подобрее будь с этой женщиной, она очень, очень несчастлива.
Радость Флоры была безмерна, и легкое облачко на челе мужа скоро растаяло в ее лучах. Рудольф был наверху блаженства. Но даже в самые счастливые минуты ощущал он жгучие слезы на своем лице, слышал слова, которых больше не мог позабыть…
Приметила ли это умница Флора? Угадала ли что чутким своим сердечком?… Ангельское ее личико ни разу не выдало ничего.
XXVI. Пренеприятные открытия
Простимся покамест с нашими знакомцами. Поступим, как американские редакторы: дадим отдохнуть публике, а сами отправимся на несколько месяцев на воды или поохотиться на буйволов. Вернемся – тогда и угостим знатными охотничьими историями.
Курортный сезон тем временем как раз окончится, и вся знать съедется на зимние свои квартиры. Уже многие начинают бывать в Пеште, открывая здесь свои светские салоны, что, без сомнения, немалый блеск придает столице.
Вот и Сен-Ирмаи прибыли; оба, красавица жена и рыцарь муж, истинные кумиры света. Все стараются завязать с ними знакомство, и немало дам и кавалеров вздыхает кто по ней, кто по нему, – разумеется, без взаимности.
Но больше всего шума наделало прибытие г-на Кечкереи. Где же он-то побывал, куда ездил? По стране путешествовал для познания разных пленительных мест. И в газетах было про это – даже в каких домах он обедал и как его принимали: с превеликим почетом повсеместно. Настоящей экспедицией покорения сердец стало это турне: всех восхитил, всех очаровал, везде оставил о себе незабвенные воспоминания, где бы ни появился. Так писали газеты– с непременным попутным расшаркиваньем перед радушными, великодушными, прекраснодушными дамами и девицами, кои счастливы были видеть его у себя.
Однако и он прибыл наконец! Он, без кого, право, скучен был бы зимний сезон. До его приезда и речи не заходило ни о каких балах или раутах. Для таких вещей особое призвание нужно, настоящий талант, коим и обладал в избытке друг наш Кечкереи. Ибо уж коли свет зовет Кечкереи «другом», и нам не пристало иначе его величать.
Первой его заботой было основать порядочный клуб – того рода, что ныне зовутся «казино»,[270]270
Казино назывались в Венгрии в прошлом веке дворянские клубы.
[Закрыть] и, пройдя через неизбежные при выборе членов передряги, клуб этот стал вполне устойчивой корпорацией самых именитых и достойных джентльменов, в качестве каковой мы и имеем честь ее представить.
Сам г-н Кечкереи тоже был в ней фигурой не последней и, положив себе перед каким-нибудь вечером быть особенно обаятельным, такие коварные анекдоты рассказывал о своей поездке, что даже бильярдисты прибегали из-за своих столов послушать его язвительные истории, после которых едва ли и разумно было бы ему вторично показываться во многих радушных, великодушных и прекраснодушных семействах.
Вот и сейчас он, видно, что-то новенькое припас; шепчется все со знакомыми, предупреждая: увидите меня с Абеллино – сразу, мол, подходите, забавная разыграется сцена.
– Что там с Абеллино могло стрястись? Уж больно игривые намеки делает наш друг Кечкереи, – обратился Ливиус к Рудольфу. – Обыкновенно он уважительней относился к будущему владельцу майората.
Рудольф пожал плечами. Очень ему нужен этот Абеллино.
А он, легок на помине, входит как раз! Та же чванная, строптивая поступь, тот же требовательно-надменный взор, будто все вокруг – лакеи; та же отталкивающая красота: правильные, но бездушные черты.
– А, добрый вечер, Бела, добрый вечер! – еще издали верещит наш друг Кечкереи, не трогаясь, однако, с места, где сидит, обнявши колени, точно трефовый валет со старинной венгерской карты.
Абеллино устремился прямо к нему в сопровождении целой свиты прервавших игру вистёров и бильярдистов – обстоятельство, которое он приписал значительности своей персоны.
– Поздравляю! – резким носовым голосом воскликнул Кечкереи, приветственно помахивая в воздухе длинными своими руками.
– С чем это еще ты, валет?
Как видно, и ему бросилось в глаза упомянутое сходство.
Все засмеялись; первые лавры сорвал Абеллино.
– Разве ты не знаешь, я от дядюшки твоего, дорогой.
– А, это дело другое, – переменил тон Абеллино, решив быть помягче: Кечкереи ведь для него же старается, и, верно, добрые вести привез. – Ну, что поделывает милый старикан?
– Так почему я и поздравляю-то тебя. Все тебя целуют, обнимают, кланяться велят. Старик жив-здоров, крепехонек, как яблочко ядреное. О нем можешь не тревожиться, дядюшка в добром здравии. А вот тетенька приболела – да не на шутку: чем дальше, тем серьезней будет болезнь.
– Бедная тетенька, – молвил Абеллино, соображая про себя: вот с чем он поздравляет, вот она, добрая весть. Воистину добрая: может, помрет еще. – И что же с ней такое?
– Что? Да очень плохая у нее болезнь. А как лицом, фигурой переменилась, просто не узнать. Где ее щечки румяные, где талия стройная… ничего не осталось.
«Так ей и надо, – подумал Абеллино злорадно, – вот наказание за противоестественный брак со стариком. Так и надо!»
– Да-да, мой друг, – продолжал Кечкереи, – последний раз, как я у них был, доктора уже запретили ей и верхом кататься и в коляске.
Абеллино и тут не догадался бы, не покатись вдруг со смеху несколько слушателей посообразительней, что подошли позабавиться и сразу поняли намек. Этот смех открыл глаза Абеллино.
– Тысяча чертей! Ну если ты правду говоришь…
– А зачем бы мне иначе поздравлять?
– Но это же подло! – вне себя вскричал Абеллино.
Стоявшие вокруг невольно пожалели его, и самые мягкосердые потихоньку удалились. Каково, в самом деле, – страшно даже подумать! – оказаться вдруг на грани нищеты человеку, кого все только что (да и сам он себя) считали миллионером.
Лишь Кечкереи его не пожалел. Он не жалел неудачников, он одних счастливчиков жаловал.
– Ничего, значит, не остается, кроме как покончить с собой, – процедил сквозь зубы Абеллино. – Или – с этой женщиной.
– Ну если ты убийство замышляешь, Питаваля[271]271
Питаваль Франс-Гайо де (1673–1743) – французский юрист и законовед, автор многотомного труда по криминалистике.
[Закрыть] почитай, – отозвался, как можно громче, Кечкереи на это ожесточенное бормотание. – У него ты все виды и способы найдешь. Как растительным и минеральным ядом отравить, как заколоть, зарубить, застрелить, удавить, как скрыть следы преступления: разъять труп на части и закопать, бросить в воду или сжечь. Двенадцать томов: целая библиотека! Достаточно только все это прочитать, чтобы убийцей себя почувствовать. Рекомендую! Ха-ха-ха!
Абеллино не слушал.
– Кто? Кто он, кого любит эта женщина?…
– Погляди кругом, милый друг, и козла отпущения найди.
– … вот кого я хочу отыскать и убить.
– Я-то совершенно определенно знаю, кого она любит, – сказал Кечкереи.
– Кого? – сверкнул глазами Абеллино. – Только бы I встретиться с ним!
– Сколько раз уже видел, как они обнимались да целовались, – хитро пригнув голову и явно забавляясь, продолжал Кечкереи.
– Кто это? Кто? – хватая его за руку, вскричал Абеллино.
– Хочешь знать?
– Да, хочу!
– Муж ее, конечно.
– Что за шутки идиотские! – вспылил Абеллино. – Никто этому не поверит. Нет, эта женщина любит кого-то, в связи с кем-то состоит. И старый подлец это знает, но терпит, чтобы мне отомстить. Но уж я дознаюсь, кто это такой! И будь он хоть чертом самим, такой судебный процесс закачу, каких свет не видывал, чтобы осрамить негодяйку!
Многие из стоящих рядом стали в шутку оправдываться: на нас, мол, не подумай, мы тут ни при чем, нас графиня Карпати своей благосклонностью не одарила.
В эту минуту прозвучал энергичный мужской голос:
– Господа! Или вы сами не замечаете, как неуместны и недостойны ваши шутки над женщиной, кою обижать нет ни у кого ни повода, ни права?
Это был Рудольф.
– Что такое? Тебе-то какое дело до всего до этого? – изумился Кечкереи.
– То дело, что я – мужчина и не позволю, чтобы порочили при мне имя женщины, которую я уважаю.
Такое заявление много значило. Тут уж действительно пришлось замолчать. И не только потому, что Рудольф прав был и его заступничество вес имело в глазах света. Он славился еще как лучший во всей округе стрелок и фехтовальщик, хладнокровный и удачливый.
И в клубе имя графини Карпати больше не поминалось.
А Флора, прослышав про этот случай, бросилась мужу на шею и целовать, целовать его принялась вне себя от радости и восторга.








