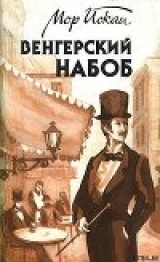
Текст книги "Венгерский набоб"
Автор книги: Мор Йокаи
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Мор Йокаи
Венгерский набоб
I. Один чудак тысяча восемьсот двадцатых годов
Скверная, ненастная погода на дворе, по всей пуште;[1]1
Пушта – степь (Здесь и далее – прим. переводчика)
[Закрыть] небо в тучах, дороги развезло, дождь льет уже которую неделю, не переставая, речки разлились, поля кругом затопило, аист расхаживает по ним с видом хозяина, утки не в камышах уселись на яйца, а прямо в кукурузе…
– Как раз на Медарда[2]2
Медард (день св. Медарда) – восьмое июня
[Закрыть] началось; сорок дней, значит, теперь будет лить, а коли так, уж и не знаю, какой тут Ной вызволит людей да скотину из этого потопа.
Невеселое это замечание отпустил не кто иной, как его дворянское степенство Петер Буш, которому судьба-злодейка судила день-деньской переругиваться с посетителями в корчме «Ни тпру, ни ну», что на гати у перекрестка в достославном Саболчском комитате.[3]3
Комитат – название области, губернии в старой Венгрии
[Закрыть]
Знатное местечко была корчма «Ни тпру, ни ну», коей держателем и состоял сударь наш Петер Буш. Звание свое не унаследовала она, а заслужила, ибо стоило только путешественнику забраться сюда, как он обязательно здесь и застревал, – особенно в такую вот непогодь, когда все хляби небесные разверзнутся и думаешь невольно: уж лучше б земля сама, что ли, разверзлась и поглотила моря эти разливанные по обе стороны плотины, от которых она, как каша, раскисает, и уж залез если в нее, на свою беду, так и сиди там, пока не поседеешь, или сам и вытаскивай на себе свою телегу.
Завечерело уже. Достойный наш Петер Буш как раз верхом воротился с поля и проклятья свои бормотал под нос себе, сквозь зубы, не трудясь даже трубку вынуть изо рта. А может, для того она там и торчала, чтобы чересчур уж забористую брань попридерживать.
– Сена копну целую смыло, пшеница вся полегла. К чертям собачьим полетит теперь все хозяйство!
Ибо корчмарь в степи вовсе не виноторговлей живет, а земледельством; шинок – только синекура.
Пока он таким манером чертыхался про себя, некая особа женского пола, не то жена, не то служанка, толком и не разберешь, вдруг указала пальцем на другой, обращенный к Тисе конец насыпи.
– Что это? Никак, экипаж?
– Только гостя еще нам не хватало, – не глядя даже, буркнул Петер Буш и пошел себе на кухню промокший тулуп распялить над очагом. – Хлеба не знаю, где купить, вот-вот кончится; что же, свой первому встречному подай, а сам без корки сиди? Не собираюсь, – уже там ворчливо докончил он.
Но потом глянул все-таки в окошко, отерев запотевшее стекло, и, увидев влекомую четверней почтовую карету, которая довольно-таки далеко бултыхала в грязи по плотине, удовлетворенно махнул рукой.
– Ну, нонче они не доедут.
Засим, усевшись у ворот и сдвинув трубку в угол рта, стал с благодушнейшим спокойствием наблюдать, как надсаживается четверка лошадей на длинной плотине. Тяжелый плетеный кузов на высоких рессорах ходуном ходил, кланяясь с боку на бок и чуть не заваливаясь, но двое путников с обеих сторон подпирали его, попеременно всем телом налегая на подножки на ухабах. Если ж карета намертво, по самую ступицу увязала колесом и лошади останавливались, они, напонукавшись сначала до хрипоты, волей-неволей принимались сами жердинами, мотыгами выкапывать, выворачивать колесо из колдобины и, сковырнув грязь, сплошной глыбой налипшую на него, с торжеством продвигались вперед еще на несколько шагов.
Почтенный Петер Буш с видом истого фаталиста взирал на бедствия своих ближних. До него долетало покрикиванье, хлопанье бича, но он и ухом не вел. Было и у него, правда, четыре добрых коняги и, поспеши он проезжающим на помощь, одним махом выволок бы их из грязи, – да зачем? Записано в книге судеб, что суждено карете доехать до корчмы, она и так доберется, а уж коли определено ей увязнуть и проторчать в этой грязюке до самого утра, то, значит, так тому и быть, и нечего противиться воле провидения.
В конце концов карета и впрямь всеми четырьмя колесами засела по самой середине плотины и ни взад, ни вперед.
Люди голос потеряли, шлейки, постромки полопались все, лошади улеглись прямо в грязь, да и стемнело уже. Петер Буш с облегчением выколотил трубку в ладонь и пошел обратно во двор. Ну, слава богу, нынче гостей не будет. От сердца у него отлегло при виде пустой коновязи, где, как на насесте, рядком устроились на ночь куры. Тотчас же и сам он отправился на боковую вместе со всеми домочадцами: свеча тоже небось денег стоит. Даже в печи огонь загасил, расстелил тулуп и примостился на лежанке, запалив напоследок трубку, похрипывая ею да подумывая, и что за блажь в дорогу пускаться в эдакую слякоть!..
Но покамест достойный наш знакомец мирно почивает, опасность надвигается на него совсем с другой стороны: от Ниредьхазы.[4]4
Ниредьхаза – город в восточной Венгрии
[Закрыть] С того краю вообще никакой запруды нет, и вода свободно гуляет там вдоль и поперек. Человеку несведущему, если угораздит его забраться в эту болотину, впору хоть завещание писать. Но тот, кому ведомы секреты местности, и там проедет, как по мостовой. Иной же возница, из тех, что издавна разбойничали по здешним местам и как свои пять пальцев знают все бугры да ложбины, доставит вас и глубокой ночью куда угодно, в любом экипаже.
Уж полночь, верно, близилась, потому что петухи в корчме «Ни тпру, ни ну» закукарекали один за другим, когда на мочажине замерцали какие-то огоньки. Дюжина всадников двигалась с зажженными факелами, сопровождая коляску и телегу.
Телега – впереди, коляска – позади: если яма вдруг, пускай телега опрокидывается, коляска же, вняв наглядному примеру, объедет опасное место.
Всадники с факелами – все гайдуки в чуднóй форменной одежде.
На головах – ушастые шапки с белыми султанами конского волоса; на плечах – волчьи шкуры мехом наружу для защиты от ливня; под ними – алые полукафтанья в желтых шнурах. К седельной луке приторочены у каждого фокош[5]5
Фокош – топорик наподобие бердыша
[Закрыть] и пара пистолетов. Выше пояса – наряд важный; зато пониже – самые простецкие, обтрепанные холщовые штаны, которые уж никак не вяжутся со скарлатовыми суконными доломанами.
Взглянем теперь на телегу. Запряжена она четверкой крепких коренастых лошаденок, чья длинная шерсть мокрым-мокра от дождя. Поводья держит пожилой кучер с физиономией бетяра.[6]6
Бетяр – разбойник
[Закрыть] Клюет себе носом старикан: лошади сами дорогу знают. Лишь когда дернут посильнее, очнется да подхлестнет сердито бичом.
В телеге сидят как-то странно: на переднем сиденье, спиной к кучеру, жмутся двое неопределенной наружности, хотя заднее вроде бы свободно. Кто они, что за люди? Сразу и не скажешь: каждый завернулся по самые брови в свою доху и башлык натянул, так что нос один только и видать. К тому же оба сладко спят; свешенные на грудь головы так и мотаются из стороны в сторону, разве что изредка вскинутся вдруг один или оба вместе, ткнувшись в боковину или столкнувшись лбами, и выпрямятся с самым решительным видом, будто и не спят вовсе, но тотчас опять задремлют.
Кузов устлан попонами; по выпуклостям нетрудно догадаться, что под ними много всякого добра. Попона же, прикрывающая заднее сиденье, нет-нет да и шевельнется: не иначе, как там живое существо, из почтения к коему два господского вида седока и заняли места похуже. И правда, в конце концов после долгих усилий неизвестный этот выбирается наружу: из-под попоны выпрастывает голову… великолепной стати борзая! Вот, значит, у кого здесь барская привилегия. И, судя по всему, пес отлично это понимал. Сел, зевнул с достоинством, почесал задними лапами за благородными своими ушами, отряхнулся, забренчав стальной цепкой ошейника, и так как незваный наглец-слепень попытался с ним во что бы то ни стало поближе познакомиться, принялся отваживать его, вскидывая мордой и щелкая зубами. Когда и это развлеченье ему надоело, перевел он взгляд на дремлющих своих спутников и, будучи в настроении благосклонном, поднял переднюю лапу и шутя тронул ею за щеку одного, как раз особенно низко клюнувшего носом, на что последний пробормотал укоризненно: «Ну, ну, будет вам, ваше благородие!»
Рассмотрим поближе и коляску.
Пятерик чистокровных коней тащит ее: пара дышловых, тройка на выносе; головы в пестрой сбруе так и ходят вверх-вниз, вверх-вниз. Передние – с бубенцами на шее, чтобы издали заслышал встречный и загодя посторонился.
На козлах – старик возница в подбитой мехом бекеше, которому раз и навсегда дана единственная инструкция: куда бы ни ехал, не сметь оборачиваться и глазеть в коляску, иначе – пуля в лоб.
Но нам-то с вами нечего бояться, поэтому заглянем, кто ж там есть.
Под ее поднятым верхом сидит мужчина преклонных лет в запахнутой до ушей волчьей дохе и надвинутой на самые глаза каракулевой шапке.
Одежда тоже совершенно скрывает его, одно только лицо выглядывает. Но черты его и взор так необычны, так поражают наблюдателя! Сбившаяся с пути, не нашедшая себя душа видится в этих глазах, рожденная, быть может, для великих дел, но волей рока, обстоятельств или в силу одиночества обращенная на всякий вздор. И сейчас глядит он так тупо-неподвижно, точно занят одним лишь собой. Щеки одутловатые, глаза мутные; черты словно бы все правильные, но очень уж грубые, резко-угловатые. А косматые брови, встопорщенные усы поначалу прямо-таки устрашают, отталкивают. Но приглядишься – и понемногу смиряешься. Особенно когда сон смежит эти глаза, разгладит все складки и борозды и проступит в лице нечто благообразно-патриархальное, заставляющее вспомнить собственного деда иль отца. Но что всего чудней, к старику с обеих сторон прижимаются две румяные крестьянские девушки, чьи мало сказать серьезные – озабоченные мины выдают: не из баловства льнут они к старику.
Мерзнет в эту промозглую ночь пожилой барин, не греет его стынущего тела волчья доха, вот и подсадили к нему двух крепостных девок, чтобы магнетическим своим теплом поддержали угасающие в нем жизненные силы.
Спешил этот человек жить и вот устал еще до кончины, обратись в собственную тень, охладев, утратив вкус ко всему и оживая лишь, ежели что-нибудь новое, диковинное, какая-нибудь из ряда вон выходящая, ударяющая в голову и взбадривающая чувства сумасбродная прихоть, идея иль затея выводила его из этой душевной летаргии.
Так и сейчас из дальней усадьбы, где тщетно пытался он заснуть, слоняясь и не находя покоя, потянуло его взбалмошное решение: нагрянуть в корчму «Ни тпру, ни ну» и повздорить с хозяином. Тем паче что он и без того уже разозлится: вот, мол, среди ночи подымают да еще пить-есть просят. Тут-то и велит он гайдукам взгреть его хорошенько. Корчмарь – дворянского рода, так что забава в несколько тысяч форинтов влетит, но стоит того.
И вот он поднял своих людей, велел запрягать, факелы запалить и в самую темень отправился туда по мочажинам с дюжиной гайдуков и со всем потребным для пирушки после предстоящего развлечения, не забыв трех персон, которые больше всех его потешали и ехали впереди на отдельной повозке. Первая – любимец-пес, вторая – цыган-скоморох, а третья – поэт-блюдолиз. Там и сидят они теперь одной компанией.
Едет, тянется студеной ночью диковинный караван на пофыркивающих конях, с искрящимися головнями по залитой водой равнине к корчме «Ни тпру, ни ну». Высокая кровля ее маячит уже на дальнем холме, громадным замком рисуясь на обманчивом ночном небе.
По прибытии тотчас ведено было одному из гайдуков пойти взбудить хозяина, говоря с ним обязательно на «ты».
Кому ведомы венгерские наши свычаи-обычаи, знает, что обращение такое – не из самых лестных, а уж для дворянина, пусть он даже корчмарь, и просто оскорбительное.
А надо сказать, что его милость Петер Буш за бранью в карман не лез и грубость от него получить в ответ ничего не стоило. Ему и косого взгляда было довольно, чтобы прицепиться к человеку. А уж кто перечить начинал или просто не приглянулся – или, не дай бог, позабывал «сударя» ему кстати сунуть, того он без церемоний за дверь выставлял, чтоб и духу его не было. На «ты» же назвать его покусились до сих пор лишь однажды два резвоногих патакских[7]7
Патак (Шарошпатак) – город в Саболчском комитате, известный старинным своим учебным заведением – «коллегиумо»
[Закрыть] школяра; да и те, только спрятавшись в камышах, спаслись от вил, с которыми Петер Буш, прыгнув на коня, кинулся за ними вдогонку.
Вот, значит, какого горячего господина поднял с постели гайдук, забарабанив нещадно в окно с такими словами:
– Эй ты, трактирщик! Вставай поживей да выходи, угости-ка нас чин по чину!
Петер Буш вскочил, как ошпаренный, хвать с гвоздя свой фокош и вне себя от бешенства вместо двери – грох! – головой прямо в буфет.
Однако же, выглянув в окно и увидав целую толпу разряженных слуг с факелами, от которых даже в доме светло стало, мигом смекнул, с кем имеет дело. Понял, что его для забавы позлить хотят, и решил про себя нарочно не поддаваться.
Спокойно повесил свой фокош обратно, нахлобучил баранью шапку, накинул на плечи тулуп и вышел во двор.
Гости между тем уже на галерею успели взойти. Посередине, в окружении своих телохранителей, возвышался сам его высокоблагородие в длинной, до колен атилле[8]8
Атилла – национальная венгерская мужская одежда, род расшитого шнуром кафтана
[Закрыть] с большими золотыми пуговицами, голову по причине грузного телосложения откинув слегка назад и опершись на пальмовую трость с массивным золоченым набалдашником. Сейчас особенно стало видно, как мало красит сангвиническое это лицо совершенно исказившее его заносчиво-язвительное выражение.
– А ну, поближе подойди! – резко, вызывающе скомандовал он корчмарю. – Отмыкай комнаты, угощай гостей! Вина нам токайского, менешского подай, фазанов жареных, артишоков да шеек раковых!
Корчмарь обнажил с превеликим почтением голову и с шапкой в руках невозмутимо ответствовал, не повышая голоса:
– Добро пожаловать, ваше высокородие, все подам, что угодно было приказать вашей милости; одно только вот, простите великодушно: вина токайского и менешского у меня нет, да фазаны еще не откормлены, а раки, сами видели, утопли все в этой воде, – свою разве что дюжину пожалуете в мой котел?
Это намек был на гайдуцкую скарлатовую амуницию, и он сразу придал мыслям вельможного барина иное направление. Ему понравилось, что корчмарь так вот, на равных, осмеливается с ним шутить, и пуще развеселился.
Меж тем и цыган-котешник высунулся вперед, чернее любого сарацина, и, блестя зубами, принялся перечислять по пальцам, что ему самому потребуется от трактирщика.
– Мне-то ничего не надо, яичницу только дай из яиц колибри, да маслица из косульего молока, да студня стерляжьего; другого я не кушаю ничего.
– Пища, недостойная желудка, столь благородного, – возразил Петер Буш.
– Дозвольте лучше цыганское жаркое[9]9
Цыганское жаркое – подобие шашлыка из свинины
[Закрыть] вам предложить.
– Ну нет уж! – вскричал шут. – Свинка – кума мне, ее жарить нельзя.
Барин расхохотался. Такие и подобные немудрящие шуточки были ему по душе, и то, что трактирщик в точности сумел ему потрафить, совсем изменило его первоначальные намерения.
– Ну а что же можешь ты подать тогда гостям? – продолжал он свои подковырки.
– Все могу, ваша милость; да только что было у меня, то сплыло; что будет, того еще нет, а что могло быть, того уже не будет.
Помещика так ублаготворила эта замысловатая фигура отрицания, что он, разразясь хохотом, тотчас пожелал ее увековечить.
– Дярфаш где? Куда поэт подевался? – стал он громко спрашивать, хотя тот, худющий, с обтянутыми кожей скулами, стоял тут же, заложив руки за спину и неодобрительно наблюдая за этим состязанием. – Ну-ка, живо, Дярфаш, давай. Сложи-ка стишок про харчевню, где людям харчей не дают.
Дярфаш зажмурился, раззявил рот и, ткнув себя пальцем в лоб, ex tempore[10]10
Вмиг, без промедления (лат.)
[Закрыть] извлек оттуда следующий дистих:
В торбе коль пусто твоей, так будет пуста и тарелка;
Пост здесь вечный блюдут, турки отсель не уйдут.
– Что это ты городишь? Турки-то тут при чем?
– А при том, – не моргнув глазом, отвечал Дярфаш. – Поскольку турки, не наемшись, не уходят, а есть здесь нечего, значит, и они на месте.
– Как на корове седло, – заверил его вельможный покровитель и вдруг, будто вспомнив что, опять обратился к корчмарю: – А мыши у тебя есть?
– Они не мои, я их не развожу, только с домом арендую; но если не хватит для ровного счета, приказчик, думаю, строго спрашивать не будет.
– Ну, так зажарь нам одну.
– Только одну?
– А сколько же, шут тебя подери! Или такие обжоры мы, что и одной не наедимся?
– Что ж, будь по-вашему, – сказал трактирщик и без дальних слов поназвал кошек в чулан.
Стоило только шевельнуть каток для белья, и мышей из него прыснуло, сколько душе угодно (кошачьей, конечно).
Мышь, впрочем, – красивый, славный зверек, и я в толк не могу взять, отчего к нему брезгливое такое отношение? Он ровно ни в чем не уступит белке или морской свинке, которых дома держат, гладят и ласкают, – только еще попроворней и побойчее. А какой у мыши носик нежный, какие милые, изящные ушки, крохотные лапки, преуморительные усищи и черные брильянтики глазки! А посмотрите, какая игрунья она, как, привстав на задние лапки, перебирает, попискивая, передними, словно плетет что-то, – ловкая, сноровистая, ничем не хуже прочих зверюшек!
Раком вареным никто не брезгует, от устриц на столе тоже не шарахаются, а они куда ведь противней мыши; так отчего ж не изжарить и ее? Тем паче что в Китае она – изысканное блюдо, первейший деликатес; ее там в клеточке миндалем, орехами откармливают и подают как лакомство.
Так или иначе, собравшиеся были уверены, что потеха выйдет знатная, и заранее уже давились от смеха.
Бравый трактирщик тем временем отворил для высокого гостя единственную свою, огромную, с целую ригу, горницу, в одном углу которой стояла голая деревянная кровать, а в другом – старинная вешалка вроде козел. Хочешь, ложись на кровать, не хочешь – на вешалку полезай.
Гайдука, однако, и ковры, и подушки, и складные столы со стульями из телеги повытаскивали, во мгновенье ока преобразив гулкую пустую комнату в барский покой. Стол уставили весь серебряными блюдами, чарками да ведерками со льдом, откуда соблазнительно высовывались длинногорлые графинчики граненого венецианского стекла.
Барин повалился на разложенную для него походную кровать, а гайдуки стащили с него огромные сапожищи со шпорами. Одна из крепостных девушек присела в головах, поглаживая редеющие седые волосы барину, другая – в ногах, растирая ему ступни лоскутом фланели. Придворный пиит Дярфаш и домашний шут Выдра встали рядом, гайдуки – поодаль, а борзая залезла под кровать.
Шуты, гайдуки, крепостные девки и собаки – вот кто составлял свиту одного из богатейших венгерских магнатов. И все народ отборный: гайдуки – парни плечистые, девки – писаные красавицы, цыган – смуглее не сыщешь, а поэт – из тех беспечнейших созданий, какие только водились когда-либо в обеих Венгриях.[11]11
Так в начале прошлого столетия именовались иногда габсбургская Венгрия и Трансильвания (Эрдей), до середины XVII века – самостоятельное венгерское княжество
[Закрыть]
Она исстари плодилась там, эта порода бескрылых двуногих, кого ремесло поэтическое кормило заместо сапожного; кто вечно кочевал от одного магната к другому, строча и печатая стишки поздравительные и благодарственные, величальные и поминальные – вирши на все случаи жизни своего высокородного мецената: на выборы его и назначения, на свадьбы, крестины, именины и дни рождения, а равно похороны, позором покрывая славное звание поэта. Несколько таких особей и доныне уцелело от добрых старых времен: переползают из дворца во дворец, праздной лестью снискивая хлеб насущный. Не больно-то он и сладок.
Мышь тем часом изжарилась. Сам корчмарь на громадном серебряном блюде внес ее, всю обложенную струганым хреном, с листком петрушки во рту, что твой поросенок.
Блюдо водрузили на середину стола.
Барин стал первым делом угощать гайдуков. Те молча отворачивались, качая головами.
– Да вы мне хоть трактир весь в придачу пожалуйте с трактирщиком самим, и то не притронусь, ваше высокоблагородие, – вырвалось наконец у самого старшего из них.
Пришел черед поэта.
– Pardon,[12]12
Извините (фр.)
[Закрыть] ваша милость, grazie![13]13
Спасибо! (ит.)
[Закрыть] Лучше уж я мадригал напишу в честь того, кто ее съест.
– А ты, Выдра? Ну-ка, давай.
– Я, ваше благородие? – удивился тот, будто не поняв.
– Ну, чего испугался? Когда ты еще в таборе жил и бык у меня сбесился, слопали же его небось.
– Как же, как же, и винцом бы запили, сбесись тогда еще и бочка у вашего благородия. Было, было!
– Ну так чего же? Подходи, окажи кушанью честь!
– Да ведь на такую зверюгу и дед мой не хаживал!
– Утри деду нос!
– За сто форинтов – утру! – выпалил шут, ероша курчавые свои волосы.
Помещик извлек из кармана толстенный бумажник и раскрыл его. Несметное число кареглазых ассигнаций выглянуло оттуда.
– За сто – так и быть, – косясь на туго набитый бумажник, повторил цыган.
– А ну! Посмотрим.
Шут расстегнул свой фрак (ибо, к слову сказать, барин одевал своего шута во фрак, очень уж чудным находя заморское это облачение, и вообще частенько наряжал его по самой последней моде, по картинкам из венских журналов, чтобы до упаду нахохотаться). Итак, цыган расстегнул фрак, перекосил круглую свою глуповатую физиономию, пошевелил кожей на голове, взад-вперед перетянув несколько раз всклокоченную шевелюру, как удод – свой хохолок, и ухватил пакостное жаркое за ту его оконечность, которая дальше всего от головы. Подняв его таким манером в воздух, покрутил он с донельзя кислой миной носом, зажмурился, разинул с мужеством отчаяния рот – и мыши как не бывало.
Не в силах еще вымолвить ни слова, – шутка ли, проглотить целое четвероногое! – и одной рукой схватясь за горло, цыган, однако, другую уже к барину тянул.
– Сто форинтов, – выдавил он наконец.
– Какие сто форинтов? – притворно удивился тот. – Разве я обещал? Нет чтобы спасибо сказать за редкостное жаркое, какого и дед твой не едал, ты у меня же еще приплаты просишь!
Ну, тут и впрямь было, чему посмеяться; но веселье мгновенно и оборвалось, потому что цыган посинел вдруг, позеленел, вытаращил глаза и запрокинулся, задергался весь на стуле, давясь и пальцем тыча себе в рот.
– В горле, в горле она у него! – закричали все. – В горле застряла!
Барин всерьез напугался. Шутка принимала нешуточный оборот.
– Вина ему в глотку, чтоб легче прошло!
Гайдуки схватили бутылки, и доброе эгерское с менешским так и хлынуло струями. Задыхаясь, бормоча что-то и вытирая глаза, цыган мало-помалу пришел наконец в себя.
– На, держи свои сто форинтов, – сказал притихший барин, который сам еле опомнился от страха и спешил на радостях умягчить своего чуть не отправившегося на тот свет шута.
– Благодарствуйте, – проныл тот жалким голосом, – поздно уже, конец мой пришел! Волк Выдру не заел, а мышь вот сгубила.
– Ну, ну, не мели! Ничего с тобой не станется. На еще сотню; да не скули же! Видишь, все уже и прошло! Поколотите-ка его по спине, вот так; косулятины ему отрежьте, она и протолкнет.
Бедняга поблагодарил и с растерянной миной обиженного ребенка, который не знает, плакать ему или смеяться, и то улыбнется, то опять вот-вот разревется, уселся за холодную косулятину. Отменно приготовленное, на славу нашпигованное и наперченное мясо под сметанным соусом было так вкусно, что цыган принялся уплетать его кусками побольше самой толстой мыши. Это совсем успокоило барина. А грустный, обиженный шут поманил пса и, повторяя каждый раз с великой горестью, будто последним куском делясь: «На, Мата!» – принялся и ему кидать мясо, которое Мати с изумительной ловкостью подхватывал прямо на лету (шуту своему помещик кличку дал, как собаке, а борзые все прозывались у него человеческими именами).
Оправясь от испуга, удовлетворенный благополучным исходом затеи, повелел он Дярфашу сказать по сему поводу экспромт.
Поэт поскреб нос и изрек:
Мышка на что уж мала, а в глотке цыгана застряла;
Бьешься ты, муки вкусив, очи слезой оросив.
– Ах, воришка бесстыжий! – прикрикнул барин на него. – Ты последнюю строчку у Дендеши[14]14
Дёндеши Янош (1741–1818) – популярный в свое время стихотворец
[Закрыть] украл, он так же написал о трубочисте, который застрял в расщелине Тордайской скалы.
– Pardon, grazie, – без тени смущения возразил виршеплет, – это poetica licentia, поэтическая вольность. Поэтам разрешается списывать друг у друга, такая пиитическая фигура прозывается «плагиум».
Гайдуки по знаку вельможи внесли привезенные с собой закуски и придвинули уставленный ими стол к кровати, где он остался лежать. Напротив же на трех складных стульях разместились его фавориты: шут, пес и поэт.
Мало-помалу и у барина разыгрался аппетит, на них глядя. Стакан за стаканом – и отношения за столом, упростясь, установились самые фамильярные. Поэт принялся величать цыгана на «вы», а тот – тыкать своего барина, отпускавшего по поводу мыши шуточки довольно плоские, над коими, однако же, остальным полагалось смеяться, да погромче.
Но когда благодушествующий барин и сам нашел, что про мышь, хоть лопни, ничего уже больше не придумаешь, цыган вдруг запустил руку за пазуху и объявил:
– Вот она!
И достал со смехом мышь из внутреннего кармана своего фрака, куда неприметно спровадил ее, пока напуганная компания, думая, что несчастный подавился и, того гляди, задохнется, в отчаянии отпаивала, отхаживала его, кто как умел.
– Лови, Мати!
И на сей раз corpus delicti[15]15
Улика, вещественное доказательство (лат.)
[Закрыть] действительно было проглочено.
– Ах ты обманщик негодный! – вскричал помещик. – Так меня обдурить! Да я вздерну тебя за это. Эй, гайдуки, веревку сюда! Вешай его на матице.
Те моментально повиновались: схватили хохочущего цыгана, поставили на стул, набросили петлю ему на шею, просунули веревку другим концом через потолочную балку и вытолкнули стул у него из-под ног.
Бедный шут брыкался, дрыгал ногами, но поделать ничего не мог: его держали на весу, пока он и впрямь не начал задыхаться. Тогда только опустили.
– Ну и пожалуйста. Возьму и помру, – рассердился цыган. – Не такой я дурак, чтобы давать вешать себя, когда и своей смертью могу помереть.
– И помирай, – подбодрил его поэт. – Не бойся, об эпитафии я уж позабочусь.
– И помру, – сказал шут, бросился навзничь на пол и зажмурил глаза.
Эпитафия не заставила себя ждать.
Шут покоится здесь, навеки умолкший насмешник.
Барина вышутил, смерд; над ним подшутила же смерть.
А цыган и вправду больше не шевелился. Вытянулся, оцепенел, дыхание у него остановилось; напрасно щекотали ему кто пятки, кто в носу: безуспешно. Тогда гайдуки водрузили его на стол, наставили вкруг, как у смертного одра, зажженных свечей и затянули разные шутовские причитания, словно по покойнику. Поэт же взобрался на стул и прогнусавил оттуда надгробное слово.
Помещик так хохотал, что весь побагровел.
Пока все это разыгрывалось в горнице корчмы «Ни тпру, ни ну», новые гости приближались к ее негостеприимному крову.
Это были пассажиры той самой незадачливой кареты, что застряла прямо посередине плотины на глазах шинкаря и на наших собственных. Три часа бились без толку лошади и люди, не в силах стронуть ее с места, покуда наконец единственный среди седоков барин не пришел к оригинальному решению доехать до корчмы верхом на одном из своих провожатых.
И вот, оставив лакея в дилижансе смотреть за вещами, а почтаря-кучера выслав вперед посветить фонарем, он взгромоздился на закорки егерю, плечистому, долговязому парню-чеху, и таким необычным способом добрался до корчмы. Там перед наружной галереей и ссадил его наземь дюжий чех.
Стоит познакомиться, хотя бы бегло, со вновь прибывшим.
Наружность его указывала, что он не из альфельдских[16]16
Альфельд – большая венгерская низменность, где развертываются описываемые события
[Закрыть] помещиков.
Сброшенный им просторный, с коротким воротником плащ а-ля Кирога[17]17
Кирога Антонио (1784–1841) – испанский генерал
[Закрыть] открыл наряд столь своеобразный, что, появись кто в нем в наше время, не только уличные мальчишки, и мы бы с вами побежали поглазеть.
Быть одетым по такой моде именовалось тогда «à lа calicot».[18]18
«по-каликутски» (фр.) – по названию выделывавшегося в Индии и модного в Париже в первой половине прошлого века коленкора
[Закрыть]
На голове у приезжего красовался напоминающий жестяную кастрюльку цилиндрик с такими узкими полями, что, приведись снять его, профан пришел бы в полное замешательство.
Из-под этого цилиндрика на обе стороны закручивались завитые кверху кудри, такие пышные да кустистые, что забирались и на поля.
Лицо было бритое. Только усы грозными пиками щетинились в небо, а накрахмаленный галстук до того туго обхватывал шею, бантом подпирая подбородок, что нельзя ее и поворотить.
Талия темно-зеленого фрака приходилась аккурат под мышками; зато фалды болтались ниже колен. Воротничок же был столь высок, что из него приходилось в точнейшем смысле выглядывать. Лацканы – с двойным, даже тройным вырезом; медные фрачные пуговички – с вишневую косточку, но тем шире и безобразно необъятней рукава, и плечи подложены выше некуда.
Палевого жилета из-под пышного жабо почти и не видать.
Довершают все это шаровары à la cosaque[19]19
под казака (фр.)
[Закрыть] с напуском, а спереди с разрезами, из которых выглядывают сапоги.
По низу жилета – разные гремучие брелочки, финтифлюшки, а на сапогах – шпоры невероятной длины: не остережешься, глаза недолго выколоть.
Так уж повелевала воинственная мода тех времен, даром что войны тогда нигде не было.
Наряд дополняла миниатюрная черепаховая палочка с птичьей головкой из слоновой кости. Смыслящий в хороших манерах обыкновенно совал этот набалдашничек в рот, а если внутри вделана была еще свистулька, то и дул в нее: пределикатнейшее занятие.
Вот как выглядел новоприбывший, и, описав его костюм, мы уже почти дали понятие и о нем самом. Тогдашние щеголи по одежке протягивали и ножки, не только манеры, привычки, но даже характеры свои приспосабливая к требованиям моды.
Золотая молодежь, «jeunesse dorée» осьмнадцатого века щеголяла огромными узловатыми тростями, и в парижских салонах вошло в привычку не выговаривать буквы «р». Мода эта распространилась до самого Кобленца,[20]20
Кобленц – город в Германии, на Рейне, где после 1789 года нашла приют французская роялистская эмиграция
[Закрыть] и когда элегантные молодые офицеры из лейб-гвардии Людовика XVIII подавали перед строем команду, солдаты ее даже не понимали из-за утрированной грассировки.
В «калькуттские» же времена приказчики перестали понимать своих покупателей, потому что весь высший свет произносил «р» так раскатисто, будто рыча от ярости.
Когда носились шляпы а-ля Минерва, модны стали идеи республиканские, имена римские и древнегреческие; шляпа же а-ля Робинзон[21]21
Треуголка
[Закрыть] и галстук бантиком «a l'oreille de lièvre»[22]22
«заячьи ушки» (фр.)
[Закрыть] предполагали симпатии бонапартистские. Треуголку, в свой черед, сменила «chapeau à la russe» – русская шапка. Люди оставались прежние, только костюмы, принципы свои да обращение меняли; иногда, правда, еще имена, как один наш соотечественник, который, пройдя с 1790 года по 1820-й через все фазы парижской моды и будучи отроду Вари, сначала стал «Варрусом» на римский манер, потом на французский национальный – «де Варом», в полонофильскую пору заделался «Барским», после даже – Варовым, а домой вернулся под конец «герром фон Вар».
Но не он перед нами.
– Eh, ventrebleu! Eh, sacrebleu![23]23
А, черт! Проклятье! (фр.)
[Закрыть] – С таким восклицанием (большему он не научился у Беранже) пнул приезжий дверь, отряхивая мокрый плащ. – Что за страна!.. Эй, огня! Есть тут кто-нибудь?
Заслышав странные эти звуки, явился Петер Буш со свечой в руке. Вдоволь наглядевшись прежде на вломившегося незнакомца и на слугу его, он осведомился:
– Что угодно приказать?
Но ни преувеличенная готовность в голосе, подозрительно не вязавшаяся с обычной его повадкой, ни выражение лица отнюдь не обещали, что самому-то ему угодно будет исполнить услышанное.








