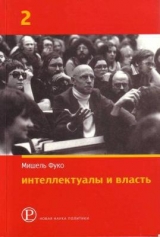
Текст книги "Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2"
Автор книги: Мишель Фуко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Анализ Платона хорошо известен. Чтобы ответить на этот вопрос, он производит деление. Он различает того, кто распоряжается неодушевленными вещами (например архитектора), и того, кто управляет животными; того, кто управляет отдельными животными (быками в упряжке, например), и того, кто повелевает стадами; и наконец, того, кто распоряжается человеческими стадами. И именно здесь мы и находим царственного мужа и политика: пастыря человеков.
Однако первичное разделение оставляет желать лучшего. Его следовало бы развить. Противоставление «людей» всем остальным животным – не лучший метод. Итак, диалог начинается с нуля с целью заново предложить всю серию различий: между дикими и домашними животными; живущими в воде и живущими на суше; рогатыми и безрогими; имеющими раздвоенное копыто и имеющими сплошное копыто; способными размножаться скрещиванием и не способными к этому. В итоге диалог теряется в бесконечных подразделениях.
О чем, таким образом, свидетельствует развитие диалога в самом начале и его последующий крах? О том, что если метод подразделения применяется неверно, он не в состоянии что-либо доказать. Это доказывает еще и то, что идея рассматривать политическую власть как отношения пастуха с его животными в то время, вероятно, представлялась весьма противоречивой. На самом деле, это первая гипотеза, приходящая на ум собеседникам, жаждущим раскрыть сущность политики. Так, значит, это ее общее место? Или Платон обсуждает сюжет, характерный для пифагорейства? Отсутствие пастырской метафоры в других политических текстах той эпохи, кажется, свидетельствует в пользу второго предположения. Однако мы можем, вероятно, оставить дискуссию открытой.
Мои личные поиски касаются того, как Платон приступает к анализу этого сюжета в конце диалога. Сначала он прибегает к помощи методологических доказательств, а затем обращается к известному мифологическому представлению о мире, который вращается вокруг своей оси.
Методологические аргументы представляются крайне интересными. Чтобы определить, подобен ли царь пастуху, приходится анализировать не то, какие виды животных могут образовать стадо, но то, чем занимается пастух.
Как же охарактеризовать его задачу? Во-первых, пастух всегда один во главе своего стада. Во-вторых, его работа состоит в том, чтобы следить за пропитанием животных; заботиться о них в случае болезни; исполнять музыку, чтобы собирать и вести их; организовывать их размножение с тем, чтобы получать наилучшее потомство. Таким образом, мы находим, как они есть, темы, типичные для пастырской метафоры, представленные в древневосточных текстах.
Какова же задача царя в свете всего вышесказанного? Подобно пастырю, он один во главе всего полиса. Однако в остальном кто поставляет человечеству пропитание? Царь? Нет. Земледелец, пекарь. Кто занимается людьми, когда они больны? Царь? Нет. Врач. А кто ведет их при помощи музыки? Учитель гимнастики, но не царь. Таким образом, достаточно большое количество людей могут притязать на титул «пастыря человеков». Политик, как пастырь человеческого стада, окружен сонмом соперников. Следовательно, если мы хотим понять, чем в реальности и по существу является политик, мы должны отвлечься от «всех, кто толпой окружает его», и попытаться показать, в чем политик не является пастырем.
Таким образом Платон приходит к мифу о вселенной, вращающейся вокруг оси последовательно в двух противоположных направлениях.
В первый период каждый вид животных образует стадо, ведомое своим божественным пастырем – даймоном. Человеческое ж стадо было ведомо божеством, воплощенным в человеке. Это стадо могло в изобилии распоряжаться земными плодами; оно не испытывало нужды в крове; и после смерти люди возвращались к жизни. Завершающая фраза подытоживает: «Божество было их пастырем, и люди не нуждались в политическом устройстве»15.
Во вторую фазу вселенная повернулась в противоположном направлении. Боги уже не были пастухами человеков, и люди отныне оказались предоставленными самим себе. Ведь они получили огонь. Какова, стало быть, роль политика? Становится ли он пастырем взамен божества? Никоим образом. Отныне его роль заключается в том, чтобы ткать плотное полотно для полиса. Быть государственным мужем означает не кормить, холить и разводить потомство, но сочетать: сочетать разнообразные добродетели; объединять противоположные темпераменты (пылкие и сдержанные), опираясь на общественное мнение в качестве ткацкого челнока. Царское искусство управления заключалось в том, чтобы собрать живущих «в общность, основанную на единомыслии и дружбе», создавая таким образом «великолепнейшую и пышнейшую из тканей». Ткань эта «обвивает всех людей в других государствах – свободных и рабов»16.
Следовательно, «Политик» представляет собой наиболее систематическую рефлексию античности по поводу пастырства, которое будет играть весьма важную роль на христианском Западе. То, что мы говорили о пастырстве, вроде бы доказывает, что какая-то тема, возможно восточного происхождения, во времена Платона была достаточно важной, чтобы быть обсуждаемой; и все-таки не надо забывать, что ее важность оспаривалась.
Однако же не во всем. Ведь Платон и в самом деле считает врача, землепашца, гимнаста и педагога пастырями. Зато он против того, чтобы они вмешивались в политическую деятельность. Он говорит об этом открыто: как политик найдет время для того, чтобы посещать каждого в отдельности; чтобы накормить каждого; чтобы услаждать каждого музыкой; чтобы заботиться о каждом в случае болезни? Только бог золотого века мог поступать подобным образом или, может быть, врач и педагог, ответственные за жизнь и воспитание небольшой группы людей. Однако располагающиеся между богами и пастухами люди, предержащие политическую власть, пастырями не являются. Их задача не в том, чтобы поддерживать жизнедеятельность группы индивидов. Их задача состоит в том, чтобы создать и упрочить единство полиса. Словом, проблема политики – это проблема отношений между единством и множеством в рамках полиса и его граждан. Проблема пастырства касается жизни индивидов.
Все это кажется, быть может, весьма отдаленным от нас. Если я настаиваю на рассмотрении древних текстов, то только потому, чтобы с их помощью показать, что эта проблема – или, вернее, серия проблем – была поставлена очень давно. Эти проблемы прослеживаются во всей западной истории в целом и представляются еще более значимыми для современного общества. Они соотносятся со взаимоотношениями действующей в государстве политической власти, понятой как правовые рамки сообщества, и власти, которую мы можем назвать «пастырской» и роль которой состоит в том, чтобы непрестанно обеспечивать жизнедеятельность всех и каждого, помогать им, изменять их удел к лучшему.
Пресловутая «проблема государства благосостояния» делает очевидными не только потребности и новые технологии управления в сегодняшнем мире. Управление должно быть признано тем, чем оно является: одним из весьма многочисленных проявлений тонкого взаимного сочетания политической власти, осуществляемой над гражданскими субъектами, и власти пастырской, осуществляемой над всеми живыми индивидами. Я, естественно, отнюдь не намереваюсь прослеживать эволюцию пастырской власти на всем протяжении существования христианства. Легко представить непреодолимые проблемы, с которыми можно столкнуться: с проблемами как «доктринального» характера наподобие титула «доброго пастыря», данного Христу, так и институционального, такими, как организация прихода и распределение пастырских обязанностей между священниками и епископами.
Я единственно намереваюсь осветить два-три аспекта, которые считаю наиболее важными в эволюции пастырства, иными словами, в технологии власти.
Для начала изучим теоретическое обоснование этой темы в христианской литературе первых веков нашей эры у Иоанна Златоуста, Киприана, Амвросия Медиоланского, Иеронима, а в том, что касается монастырского уклада, – у Кассиана и Бенедикта. Иудейские темы здесь предстают значительно видоизмененными, по крайней мере в четырех пунктах.
1. Прежде всего, поговорим об «ответственности». Как мы отметили, пастырь был обязан нести ответственность за судьбу всего стада и каждую овцу в отдельности. В христианской концепции пастырь должен отчитываться не только за каждую овцу, но и за каждое из действий овец, за все хорошое и дурное, что они способны сделать, за все, что с ними происходит.
Более того, христианство предполагает существование взаимозамещения и сложной циркуляции грехов и заслуг между каждой овцой и ее пастырем. Прегрешение овцы ставится в вину и пастуху. Он будет ответствовать за него в день Страшного суда. И наоборот, помогая своему стаду достичь спасения, пастырь обретает и свое собственное спасение. Однако, спасая овец, он рискует заблудиться; если он желает спастись, он обязательно должен избегать опасности быть заблудшим для остальных. Если он заблудится, то как раз его стадо и подвергнется наибольшим опасностям. Однако оставим эти парадоксы. Моей единственной целью является подчеркнуть напряженность и сложность моральных отношений, связывающих пастыря с каждым членом его стада. И в особенности я хотел бы подчеркнуть, что подобные отношения затрагивают не только жизнь индивидов, но и их действия в самых мельчайших подробностях.
2. Второе значительное изменение затрагивает проблему подчинения и повиновения. В иудейской концепции Бог был пастырем, а следующее за ним стадо подчинялось его воле и его закону.
Христианство, в свою очередь, рассматривает отношения между пастырем и овцами как полную индивидуальную зависимость. Безусловно, именно это – один из моментов, в которых христианское пастырство полностью расходится с греческой мыслью. Если греку приходилось подчиняться, то он делал это потому, что его принуждали закон либо воля полиса. Если ему доводилось следовать чьему-либо частному волеизъявлению (врача, оратора или педагога), то только потому, что этот человек рационально убедил его поступать именно так. И все это было подчинено неукоснительно обозначенной цели: излечению, обретению навыков или совершению наилучшего выбора.
В христианстве же связь с пастырем – это индивидуальные отношения личного подчинения. Пожелания пастыря исполняются не потому, что они соответствуют закону, но в основном потому, что такова его воля. В «Установлениях для обителей» Кассиана можно найти множество назидательных притч, в которых монах находит спасение, исполняя самые немыслимые повеления настоятеля17. Повиновение становится добродетелью. А это значит, что оно перестает быть временным средством достижения цели, как у греков, и становится самодовлеющей целью. Повиновение – это перманентное состояние; овцы обязаны всегда подчиняться своим пастырям: subditi18. Как говорил святой Бенедикт19, монахи не живут согласно своим личным волениям; их обет состоит в подчинении авторитету аббата: ambulantes alieno judicio et imperio20. В греческом христианстве это состояние покорности называлось apatheia. Эволюция этого понятия весьма примечательна. В греческой философии apatheia – это власть индивида над собственными эмоциями, обретенная благодаря упражнениям разума. В христианской мысли pathos – это воля, довлеющая себе и во имя себя самой. Apatheia освобождает нас от такого упрямства.
3. Христианское пастырство предполагает специфическую форму познания пастырем каждой из овец. Это знание – частное. Оно индивидуализирует. Знать, в каком состоянии находится стадо, недостаточно. Необходимо также ведать состояние каждой из овец. Подобная тема существовала задолго до появления христианского пастырства, однако она значительно усилилась в трех различных отношениях: пастух должен быть осведомленным о материальных потребностях каждого члена стада. Необходимо также знать то, что происходит, что совершает каждый из них, то есть: прегрешения перед обществом. Last but not least, он обязан знать, что происходит в душе каждого из них, ведать тайные прегрешения и продвижение по пути к святости.
Для обретения этого индивидуального знания христианство усваивает два основных инструмента, использовавшихся в эллинистическом мире: изучение сознания и направление сознания. Оно перенимает и при этом значительно искажает их. Изучение сознания, как известно, было распространено среди пифагорейцев, стоиков и эпикурейцев, которые видели в нем метод каждодневного отчета в том, что было совершено доброго и дурного по отношению к их обязанностям. Таким образом, становилось возможным продвижение по пути к совершенству, иными словами, овладению собой и укрощению страстей. Направление сознания преобладало также в некоторых образованных средах, однако в форме советов, – и иногда платных советов, – в особенно сложных ситуациях: при бедствии или в горе, вызванном превратностями судьбы.
Христианское пастырство тесно связало обе эти практики. Направление сознания выстроилось в непрерывную связь: овца непрестанно была направляемой не только с целью победно преодолеть опасный переход; она оказывалась ведомой каждое мгновение своей жизни. Быть ведомым стало состоянием, и вы оказывались «совсем пропащими», если пытались этого избежать. Кто не терпит советов, иссыхает как увядший листок, говорит избитая поговорка. Что касается обследования сознания, то нововведение состояло не в том, чтобы взращивать самосознание, но в том, чтобы позволить ему полностью раскрыться своему поводырю – обнажить для него глубины души. Существует множество аскетических и монашеских книг первого века нашей эры, интерпретирующих связь между направлением и изучением сознания и показывающих, насколько подобные техники были основополагающими для христианства и какого уровня сложности они достигли. Я хотел бы подчеркнуть, что они отражают появление одного очень необычного феномена греко-римской цивилизации, а именно связи между полным подчинением, самопознанием и признанием другому человеку.
4. Есть и другое преобразование – вероятно, наиболее важное. Все применяемые в христианстве техники дознания, исповеди, направления сознания и повиновения имели одну цель: привести индивидов к «умерщвлению» для этого мира. «Умерщвление» – это, конечно, не смерть, но отрешенность от мира и от самого себя: что-то вроде каждодневной смерти. Смерти, которая должна обеспечить жизнь в другом мире. Уже не первый раз мы видим, что пастырская тема связана со смертью, однако здесь она имеет другое значение. Речь идет не о жертвоприношении ради полиса; христианское умерщвление – это форма отношения к самому себе. Это некий элемент, составная часть христианской идентичности.
Мы можем сказать, что христианское пастырство привнесло взаимодействие, которого ни греки, ни евреи и вообразить не могли. Необычное взаимодействие, элементами которого являются жизнь, смерть, истина, повиновение, индивиды, идентичность; взаимодействие, которое, как представляется, не имеет ни малейшего отношения к полису, продолжающему существовать после жертвоприношения граждан. Успешно объединив два вида взаимодействия: между полисом и гражданином и между пастухом и стадом, – в том, что мы называем современными государствами, наши общества проявили себя как воистину демонические.
Как вы можете заметить, я пытаюсь здесь не разрешить проблему, но предложить подход к ней. Эта проблема того же порядка, что и те, над которыми я работал, начиная с первой книги о безумии и душевных болезнях. Как я уже говорил выше, она касается взаимодействия опыта (безумия, болезни, преступления, сексуальности, идентичности), знаний (психиатрии, медицины, криминалистики, сексологии и психологии) и власти (осуществляемой как в психиатрических и пенитенциарных заведениях, так и во всех остальных институтах, призванных контролировать индивидов).
Наша цивилизация разработала в высшей степени сложную систему знаний, в высшей степени изощренные структуры власти: во что же превращает нас эта форма знания, этот тип власти? В какой степени основополагающий опыт безумия, страдания, смерти, преступления, желания и индивидуальности связан (даже если мы не отдаем себе в этом отчета) с познанием и властью? Я уверен, что никогда не найду ответа; однако это не значит, что мы должны отказаться от постановки самого вопроса.
II
Я попытался продемонстрировать, как раннее христианство сформировало идею пастырского воздействия, непрерывно оказываемого на индивидов через выявление правды об их личностях. И еще я попытался продемонстрировать, насколько эта идея пастырской власти была чужда греческой мысли, несмотря на существование некоторых заимствований, таких, как изучение практического сознания и направление сознания. Сейчас я бы хотел, совершив скачок через несколько столетий, описать другой эпизод, который играет особую роль в истории управления индивидами с помощью правды о них самих.
Этот пример связан с образованием государства в современном смысле слова. Если я провожу историческое сопоставление, то, понятно, не для того, чтобы навести на мысль, что пастырская составляющая власти исчезает на протяжении десяти великих столетий христианской, римско-католической Европы. Тем не менее мне представляется, что вопреки всем ожиданиям, этот период не стал периодом торжествующего пастырства. Этому имеется множество объяснений. Некоторые из них носят экономический характер: пастырство душ – это типично городской опыт, сложно уживавшийся с бедностью и экстенсивным сельским хозяйством раннего средневековья. Существуют также причины культурного характера: пастырство – это сложный механизм, требующий определенного уровня культуры – как от пастыря, так и от его стада. Существуют также причины, обусловленные социально-политической структурой. Феодализм развил ткань личных, весьма отличных от пастырства отношений между индивидами.
Нельзя сказать, будто я намерен считать, что идея пастырского управления людьми полностью исчезла в средневековой Церкви. На самом деле она осталась и, можно даже сказать, продемонстрировала значительную жизнеспособность. Это могут подтвердить два рода фактов. Во-первых, многочисленные реформы, успешно проведенные в лоне Церкви, в частности в монашеских орденах, – различные реформы, последовательно проведенные в существовавших монастырях, – ставили своей целью восстановление пастырского порядка среди монахов. Что касается новообразованных орденов – доминиканцев и францисканцев, – то они предполагали прежде всего проведение пастырской работы среди верующих. В ходе следовавших один за другим кризисов Церковь неустанно стремилась восстановить свои пастырские полномочия. И более того. В среде самого населения на протяжении всего Средневековья можно наблюдать развертывание долгой череды сражений, целью которых было установление пастырской власти. Противники Церкви, которая манкировала своими обязанностями, отвергали ее иерархическую структуру и отправлялись на поиски более спонтанных форм сообщества, в которых паства могла бы обрести потребного ей пастыря. Поиски пастырского самовыражения имеют множество составляющих: иногда, как в случае с вальденсами, они приводят к борьбе, отличавшейся чрезмерной жестокостью; в других случаях, как в общине «Братьев жизни», подобные поиски сохраняют мирный характер. Иногда это стремление вызывает широкомасштабные движения, такие, как гуситское, а местами продолжает будоражить ограниченные группы, такие, как «Оберландские друзья Господа». Речь идет либо о движениях, близких к ересям (таких, как беггарды), либо об ортодоксальных движениях, потрясавших само лоно Церкви (таких, как итальянские ораторианцы XV в.).
Я привожу весь этот материал, не вдаваясь в подробности, с единственной целью подчеркнуть, что если в Средневековье пастырство и не было учреждено как реальное управление и общественная практика, оно все же было предметом непрестанной заботы и ставкой в нескончаемых битвах. На всем протяжении этого периода проявлялось страстное желание установить пастырские отношения между людьми; это стремление отразилось не только на мистических течениях, но и в великих эсхатологических чаяниях.
* * *
Безусловно, я не предполагаю здесь изучать проблему образования государств. И точно так же я не намерен исследовать различные экономические, социальные и политические процессы, посредством которых формировались государства. Наконец, помимо всего прочего, я не собираюсь анализировать разнообразные механизмы и учреждения, которыми государство обзавелось для обеспечения своего существования. Я хотел бы всего лишь фрагментарно обозначить то, что располагается между государством как политической организацией и его механизмами, иными словами, тип рациональности, задействованной при исполнении государственной власти.
Я обращался к этому в первой лекции. Вместо того чтобы задаваться вопросом, связаны ли издержки государственной власти с избытком рационализма или иррационализма, было бы разумнее, я полагаю, заняться специфической политической рациональностью, порожденной государством.
Ведь по крайней мере в этом отношении политические практики схожи с научными: в них всегда используется не «разум вообще», но весьма частный тип рациональности. Поразительно, что рациональность государственной власти была осознанной и прекрасно отдавала отчет себе в своей исключительности. Она вовсе не заключалась в спонтанных и действующих вслепую практиках и не была выявлена с помощью какого-то ретроспективного анализа. Она была сформулирована, в частности, в двух доктринальных системах: государственного интереса (raison d'Etat) и теории полиции. Я признаю, что эти два положения вскоре приобрели узкий и уничижительный смысл. Однако в течение полутораста-двухсот лет, в период формирования современных государств, они имели гораздо более широкий смысл, нежели сейчас.
Доктрина «государственного интереса» пыталась определить отличие принципов и методов государственного управления от, допустим, способа, каким Бог управляет миром, отец – своей семьей, а настоятель – общиной.
Что же касается теории полиции, то она определяет природу объектов рациональной деятельности государства; она определяет природу достигаемых целей и общую структуру применяемых орудий.
Таким образом, именно об этой системе рациональности я и хотел бы поговорить сейчас. Однако необходимо начать с двух предварительных замечаний: 1) Поскольку Мейнеке опубликовал одну из наиболее важных книг о государственном интересе21, я буду говорить преимущественно о теории полиции. 2) При создании государственной структуры Германия и Италия столкнулись с наиболее серьезными сложностями, и именно в этих двух странах государственный интерес и полиция чаще всего подвергались осмыслению. Таким образом, чаще всего я буду ссылаться на итальянские и немецкие тексты.
* * *
Начнем с государственного интереса, которому дается несколько определений: Ботеро: «Совершенное знание средств, с помощью которых государства создаются, укрепляются, сохраняются и растут»22.
Определение Палаццо («Размышления по поводу правительства и истинного государственного интереса», 1606): «Метод и искусство, позволяющие нам установить царство порядка и спокойствия в Республике»23.
Определение Хемница (De ratione status, 1647): «Известное политическое разумение, требующееся во всех публичных делах, советах и замыслах, единственной целью которого является сохранение, развитие и процветание государства; и для достижения оной выбираются самые скорые и удобные средства»24.
Остановимся на некоторых общих чертах этих определений.
1) «Государственный интерес» рассматривается как «искусство», иными словами, как техника, отвечающая определенным правилам. Эти правила отражают не просто обычаи и традиции, но еще и рациональные знания. В наши дни выражение «государственный интерес» вызывает ассоциации с «произволом» и «насилием». Однако в свое время под ним понимали рациональность, присущую искусству управления государствами.
2) Чем обосновано подобное искусство управления? Ответ на этот вопрос вызвал шок в зарождающейся политической мысли. И, несмотря на это, он совсем прост: искусство управления рационально в том случае, если размышление подводит его к видению характера того, что управляется, в частности, государства.
Но ведь провозглашать подобную низость означает порвать сразу и с христианской, и с правовой традицией, которая предполагала, что управление, по существу своему, справедливо. Она соблюдала все виды законов: человеческие, естественные, божественные.
По этому поводу есть весьма показательный текст св. Фомы25. Он напоминает, что «искусство в своей области должно подражать тому, что природа производит в своей»; только при этом условии оно благоразумно. При управлении королевством король обязан подражать управлению Богом природой и, кроме того, управлению души телом. Король обязан основывать города в совершенном подобии с тем, как Бог создал мир, а душа придает форму телу. Король обязан также направлять людей к их предназначению, подобно тому, как Бог направляет природные существа и душа направляет тело. А что же целесообразно для человека? То, что подходит для тела? Нет. Ему необходим врач, а не король. Богатство? Тоже нет. Достаточно хорошего управляющего. Истина? Опять-таки нет. Искать ее – дело наставника. Человеку необходим тот, кто способен открыть ему путь к райскому блаженству, опираясь на то, что является honestum26 на этом свете.
Как мы можем заметить, искусство управления берет за образец Бога, обязывающего сотворенные Им существа повиноваться законам. Модель рационального управления, выдвинутая св. Фомой, не является политической. В то время, в XVI–XVII веках, под вывеской «государственного интереса» ищут основы, способные направить практическое управление. Никого не интересует природа и ее законы в общем и целом. Интересует природа государства и его требования.
Итак, становится понятным возмущение в религии, вызванное такими поисками. Это объясняет, почему государственный интерес был уподоблен атеизму. Во Франции, в частности, появление такого словосочетания в политическом контексте обычно считалось «атеизмом».
3) Государственный интерес противостоит и еще одной традиции. Цель Макиавелли в «Государе» заключалась в том, чтобы выявить возможность ограждения некоторой доставшейся по наследству или в результате завоевания провинции или территории от внутренних и внешних противников27. Весь анализ Макиавелли стремится определить то, что поддерживает и упрочивает связь между правителем и государством, тогда как проблема, поставленная государственным интересом, – это проблема существования и природы государства как такового. Именно поэтому теоретики государственного интереса старались держаться от Макиавелли как можно дальше; у него была дурная репутация, и они не могли признать в его проблеме свои собственные. И наоборот, противники государственного интереса пытались опорочить новое искусство управления, изобличив его как наследие Макиавелли. Несмотря на беспорядочные конфликты, развернувшиеся спустя столетие после написания «Государя», государственный интерес все-таки знаменует собой появление типа рациональности, полностью противоположного – пусть только в одном аспекте – рациональности Макиавелли.
Цель этого искусства управления состоит как раз не в том, чтобы укрепить власть государя в его сфере. Его цель – укрепление самого государства. Это одна из наиболее характерных черт всех определений, выдвинутых в XVI и XVII вв. Рациональное управление сводится, если можно так выразиться, к следующему: если иметь в виду природу государства, оно способно подавить своих противников на неопределенно долгий срок. Это под силу государству в случае, если его власть будет увеличиваться. Но и враги будут становиться сильнее. Государство, единственная забота которого – продолжать функционировать, – неизбежно потерпит крах. Эта мысль чрезвычайно важна и связана с новым историческим видением. Фактически она предполагает, что государства – это реалии, которые стремятся любой ценой как можно дольше устоять на постоянно оспариваемой территории.
4) Наконец, мы видим, что государственный интерес как рациональное управление, способное усилить мощь государства в согласии с ним самим, предваряется построением определенного типа знания. Управление возможно только тогда, когда известна сила государства. В этом случае ее возможно сохранять. Потенциал своего государства и средства его увеличения необходимо познать так же, как и силу и потенциал других государств. Управляемое государство (l'État gouverné) должно, по существу, противостоять всем остальным. Управление несводимо, таким образом, просто к применению общих принципов разума, мудрости и благоразумия. Необходимо знание: конкретное, точное и выверенное знание касательно могущества государства. Искусство управлять, характерное для государственного интереса, неразрывно связано с развитием того, что называлось «статистикой» и политической «арифметикой», – иными словами, с познанием сравнительной мощи различных государств. Подобное знание необходимо для достойного управления.
Подытоживая, можно сказать, что государственный интерес – это не искусство управления согласно божественным, естественным и человеческим законам. Такому управлению незачем соблюдать общий мировой порядок. Речь идет об управлении, согласованном с мощью государства. Цель такого управления – усиление мощи государства как в том, что касается расширения его границ, так и в том, что касается его способности противостоять другим государствам.
* * *
Представления авторов XVII и XVIII вв. о «полиции» существенно отличаются от того, что мы понимаем под этим понятием сейчас. Стоило бы поразмыслить над тем, почему большинство этих авторов – итальянцы и немцы, но разве это главное? Под «полицией» они имеют в виду не определенный институт или механизм, функционирующий в рамках государства, но присущий государству способ управления; сферы, практики и цели, требующие государственного вмешательства.
Для простоты и ясности я проиллюстрирую свою идею текстом, который можно считать сразу и утопией, и реальным проектом. Это одна из первых программ – утопий полицейского государства. Эту программу в 1611 году Тюрке де Майерн составил и представил голландским Генеральным Штатам28. В «Науке и рационализме в годы правления Людовика XIV»29 Дж. Кинг обращает внимание на значение этого довольно необычного труда, одного названия которого – «Аристодемократическая монархия» – достаточно, чтобы понять, что значимо для автора: речь идет не столько о выборе между различными типами политического устройства, сколько об их сочетании ради одной жизненно важной цели – государства. Тюрке называет его Городом, Республикой, а также Полицией.







