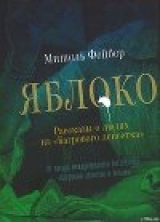
Текст книги "Яблоко. Рассказы о людях из «Багрового лепестка»"
Автор книги: Мишель Фейбер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Скажите ей, что мне уже лучше.
– Да, мистер Рэкхэм.
– Что она сегодня поделывает?
– Принимает приехавшего с визитом мистера Сент-Джона, мистер Рэкхэм.
– Он ведь и вчера был здесь.
– Да, мистер Рэкхэм.
Уильям кивает, отпуская ее. Важно, чтобы она знала: он не упускает из виду ничего происходящего в доме.
Оставшись наедине с чашкой кофе, он погружается в размышления о своем втором браке. Ненавязчивое присутствие в его жизни Констанции оказалось благодетельным. Из всех разочарований, какие ему пришлось проглотить за последние пятнадцать лет, Констанция была, пожалуй что, наименьшим. В горестную пору, которая наступила после того, как он лишился семьи, Констанция предложила ему создать другую, тем самым избавив его от необходимости сносить жалость толпы: «Это Уильям Рэкхэм, бедняга: тот самый, у которого жена утопилась в Темзе». Констанция сделала все, что могла, для написания новой страницы семейной истории Рэкхэма и с гордостью носила его имя. Вот только… Она так и не дала ему наследника, хоть и намекала на такую возможность, а теперь она уже не в том возрасте, да и видятся они лишь изредка. Он работает у себя в кабинете, она вращается в обществе. Какую-либо часть тела Констанции, находящуюся ниже ее подбородка, Уильям представить себе затрудняется.
У Конфетки были острые бедра, такие острые. Двигаясь в ней, ты чувствовал, как они впиваются в твой живот. А ладони ее были шероховатыми: какая-то кожная болезнь. Странно, он никогда не боялся подцепить на ней сифон. Хотя один только Бог знает, каким порокам предавалась Конфетка до того, как он ее обнаружил, – за ней закрепилась репутация девушки, которая соглашается делать то, от чего отказываются другие.
Все, о чем ты меня попросишь.
А каким теплым, каким податливым было ее тело! Каким это казалось чудом – вскальзывать в ее шелковистую щелку! И не только это – как чудно было сознавать, что на любую твою просьбу она ответит: Да, Да, Да. И не с бездумным покорством, точно служанка, нет, скорее, как… друг.
И память вновь возвращает его к послеполуденным часам на лавандовом поле. В том дне присутствовало нечто не поддающееся озлобленной переоценке – сколько ни пытайся вывалять его в навозной жиже предательства, в жирной грязи цинизма, ничто к нему не липнет, он остается чистым, веющим ароматами свежести. Как же это возможно, после всего случившегося? И Уильям снова отступает назад, в апрель 1875 года и снова замирает вместе с Конфеткой на вершине Улейного холма. Они глядят на северо-восток: там, далеко-далеко, висит украшенная радугой завеса дождя. Уильям смотрит на свою любовницу сзади, ладонью заслонив от солнца глаза. Длинная юбка Конфетки шелестит на ветру, лопатки, когда она поднимает, чтобы прикрыть лицо, руку, выступают из-под плотной ткани платья. Да, поднимается ветер, лаванда мягко волнуется под ними, и Уильяму кажется, что он и Конфетка стоят на носу корабля, плавно скользящего по сиреневатому морю.
На что она смотрит? На то же, на что и он. И что же это? Все и ничего. Во взгляде ее проступает подобие страха, понимания того, что красота, которая ее окружает, слишком велика, что вселенная слишком огромна, а люди слишком малы. Всего лишь несколько слов, если бы он произнес их в тот миг, могли бы снова восстановить равновесие между ними. Несколько слов, если бы только он мог вовремя их подыскать… Однако Конфетка поднимает руку повыше, наклон ее бедер меняется, и платье льнет к ее телу не так, как льнуло мгновением раньше, и он видит под тканью холмики грудей и вспоминает, какое ощущение оставляют они, когда лежат в его ладонях. И Уильяма охватывает желание раздеть ее догола, поставить на четвереньки и раздвигать ладонями щечки ее зада, пока не зазияет, распахнувшись, влагалище…
Все, о чем ты меня попросишь.
Он заставляет себя открыть глаза. Мужчине, миновавшему середину жизни, не к лицу предаваться нежным воспоминаниям о шлюхе. Он человек респектабельный, не какой-нибудь богемный распутник. Праздные друзья его юности разбрелись кто куда, ибо в товарищи человеку его положения уже не годились. Он – столп общества, да, столп. Рука Уильяма опускается к брюкам, не то потирая восставший член, не то пытаясь принудить его опуститься – тут он не уверен. Как жадна она была до него! – если можно было верить ее словам. А верить женщине нельзя. Мир – это липкая мешанина измен.
Агнес. Если уж он предается любовным помыслам, так посвящать их следует ей. Она была его цветочком, его маленькой драгоценностью. Невинная, неиспорченная. Ни единый мужчина не прикасался до него к ее нагому телу. Она лежала с ним рядом, под ним, косная и холодная, точно кусок мяса, которое остудили, чтобы вырезать из него фигурку женщины. Ему вообще не следовало прикасаться к ней. Зачем он к ней прикасался? Да затем, что она была самой сладкой на свете игрушкой, и он жаждал ее получить. Мужчина ведь не святой.
Он еще дальше откидывает голову на спинку кресла. Вдавливает жесткое дерево в кожу затылка, стараясь справиться с пульсирующим волнением, поселившимся в его мозгу. Сегодняшний день еще может стать плодотворным, если только ему удастся справиться с обуявшим его жаром. Ничего, с минуты на минуту начнет действовать лекарство.
А какой хорошенькой она была. Хорошенькой, как цветок, и такой же бледной. Загубленные цветы, стол в морге. Машины на его фабрике в Суррее; будь проклят тот, кто их ему продал. Партия лепестков лаванды, целое состояние, вся она загублена, изгваздана в машинном масле, пропитана неискоренимым смрадом, который оно создает, сгорая. И ничего уже не сделаешь, остается лишь ждать следующего урожая. Он отдан на милость Природе и его конкурентам. Господь да спасет его – никто другой спасать не станет. Губы Конфетки: как сухи они были, точно перышки под его губами. И как сладко было ее целовать. Однако думать о ней не дело, не дело. Тот послеполуденный час в апреле – мираж; его попросту не было; он лишь иллюзия, мреющая над грудой навоза.
Труп на столе морга. Мужчины, заставившие его смотреть на тело, наполовину изъеденное рыбами. Череп вместо лица. Он сказал, что это Агнес. Но Агнес ли то была? Он всматривается снова. И череп чуть-чуть обрастает мясом, потом еще чуть-чуть, обретает, словно дразня Уильяма, человеческий облик, наращивая один лоскутик кожи за другим. Он смотрит, завороженный. Перед ним словно вырастает по какому-то волшебству из лужицы воска уже растаявшая свеча – кость облекается женской плотью, пока не становятся ясно узнаваемыми глаза, щеки, губы Агнес. Да, да, нечего было и сомневаться. Вся атмосфера мертвецкой понемногу утрачивает грубость, и вскоре стол, на котором лежит Агнес, обретает сходство с постелью, и в мягком свете белая мантия ее, подобающая монашке, если не ангелу, начинает сама собою светиться.
А следом верх берут счастливые воспоминания об утраченной им маленькой женушке. Он вспоминает очаровательную, странную девочку, какой она была при первой их встрече, сладко пахнущую незнакомку. Агнес уже исполнилось семнадцать, но выглядела она моложе. И держала себя так, точно грудь у нее отросла только вчера или позавчера и она не знает, что с этой новинкой делать. Сознавая, что на нее смотрят, Агнес выступала с грациозной сдержанностью, а забываясь, могла бежать в прискок, чуть подбрасывая юбки; когда же какое-нибудь замечание либо происшествие забавляли ее, она разражалась смехом, заразительным, как у ребенка. Впрочем, если ей случалось усесться в правильного рода кресло, стоявшее в правильного рода комнате, она приводила на ум портрет леди, написанный сэром Джошуа Рейнольдсом. И она, безусловно, умела вести себя так же серьезно и сдержанно, как любая почтенная дама, вечно прячущая улыбку за веером. В одежде Агнес отдавала предпочтение светлым тонам, в особенности белому, отчего при полуденном солнце просто светилась, и ему, когда он глядел на нее, приходилось козырьком прикладывать ладонь ко лбу.
Иди, поиграй с кем-то другим. Ты делаешь мне больно.
Уильям, застонав, снова откидывает голову на спинку кресла. Судьба жестока, судьба зла. Все прелюдии любви отвергаются, все благие намерения сталкиваются с непониманием, все деловые замыслы оборачиваются пшиком. Нет, Нет и Нет — таков ответ Судьбы. Даже возможность обзавестись сыном и увидеть, как следующее поколение пожинает плоды трудов твоих, даже в этом ему было отказано: Судьба сказала Нет. Кто унаследует его империю? «Империю»? Ладно, чем бы она ни была, кто унаследует ее? Констанция. Констанция, ежедневно встречающаяся с ним за обедом, как если б они были постояльцами отеля, воспитанно беседующими, вглядываясь слегка затуманенными глазами в незримые горизонты их раздельных жизней. То, что известно Констанции о производстве парфюмерии, могло бы уместиться на булавочной головке. Она похоронит его, прольет несколько слез, скормит его дело какой-нибудь рыбе покрупнее и станет жить дальше. Добрая старая Констанция, терпеливая Констанция, выдержанная Констанция. Ждать столько лет – годов, которые он просидел в кабинете, марая бумагу, зарабатывая на своем пути к могиле сумму за суммой.
Впрочем, где-то существует и дитя. Единственное его порождение. Одному только Богу известно, где она сейчас; полиция этого уж точно не знает. Софи. Он дал ей имя Софи. Эта девочка могла бы стать усладой его старости. Могла подарить ему внука, которому он передал бы дело. Теперь же она – как знать? – подвизается, вполне возможно, в борделе, обслуживая пьяных хамов, пока Конфетка сидит и считает денежки. А может быть – как знать? – и лежит в могиле.
Когда он пытается представить дочь взрослой женщиной, внутреннее зрение его затуманивает мука. И все, что ему удается различить, это багровое, припухшее, залитое слезами детское личико да ноющий голос Софи, умоляющей не разлучать ее со столь любимой ею мисс Конфеткой. О, сколь злокозненным, сколь змеиным умом обладала эта женщина, сумевшая околдовать его дочь так же, как околдовала его! «Немедленно прекрати, Софи!» – потребовал он, однако девочка оказалась неспособной выполнить его приказ. «Открой твои красивые синие глазки и посмотри на меня», – потребовал он, однако она и тут ему не подчинилась.
Синие глазки. Да, глаза у нее были синие. И действительно красивые. Как у ее матери. «У нее твои глаза», – так сказал он Агнес сразу после родов, едва лишь повитуха торопливо утащила младенца из комнаты, оставив исступленную Агнес в залитой кровью постели. То были самые ободряющие слова, какие он, разочарованный полом дитяти, сумел придумать: «У нее твои глаза».
«Нет! – взвизгнула Агнес и прижала к лицу ладони, словно боясь, что он попытается чайной ложкой выковырять ее глаза из орбит. – Ни у кого моих глаз быть не может! Только у меня!»
Повторяя движение, которым пыталась защититься его жена, Уильям вздергивает к лицу ладони, холодные, влажные. И опрокидывает попутно бутылку с портвейном. По счастью, она оказывается пустой, хоть он и не помнит, когда и как успел допить остававшееся в ней вино. Бутылка катится по столу и с музыкальным звоном валится на пол. Он склоняется в кресле, чтобы поднять ее.
Бешеный вихрь тьмы подхватывает его, повергая в свободное падение. Он вовсе не ощущает себя человеком, валящимся на пол, нет, – скорее, зонтом, унесенным порывом ветра, цилиндром, сорванным с головы мужчины и летящим, кружась, по воздуху, – теперь уж этот цилиндр не поймать, он сам приземлится Бог знает где. А его, успеет ли кто-нибудь подхватить его, Уильяма?
Бедный мальчик.
Голос принадлежит женщине. Уильям лежит на спине. Больше не падает. Тьма сменилась пульсирующей краснотой, он лежит в туннеле подземки или, быть может, канализации, глядя в кирпичный сводчатый потолок. Каждый кирпич светится так, точно его раскалили в горне. Пот, сочась из всех пор Уильяма, покалывает кожу, ему кажется, что под нею скопился жар, грозящий прорвать ее и выплеснуться наружу.
И внезапно над ним склоняется юная шлюха, темноволосая, с напудренным личиком. В глазах ее поблескивает убийственное упоение. Он пытается отползти от нее, однако множество рук вцепляется в него и начинает срывать с его тела одежду, раздевая Уильяма догола. И только покончив с раздеванием, они позволяют ему отползти, извиваясь, скользя по грязной воде и его собственной крови.
«Помоги мне», – произносит он одними губами, ибо дара звучащей речи лишился.
Я здесь, Уильям.
Голос Конфетки. Уильям узнает его сразу, хоть и провел без него пятнадцать лет. Теплый, искренний, чуть хрипловатый. Самый обольстительный голос на свете.
«Отпусти меня с миром», – стонет он.
Позволь мне помочь тебе.
«Ты уже помогла мне, довольно, – огрызается он, крепко зажмуриваясь. – Моя дорогая Агнес мертва. Ты отняла у меня дочь. Я состарился прежде срока».
Чшшшшшшш…
Он чувствует, как на лицо его ложится ладонь. Ее ладонь, такая же шершавая, как прежде, шершавая, как кора. Ни разу за прошедшие со времени ее ухода пять с половиной тысяч дней не ощущал он прикосновения столь нежного. Уильям знает: стоит открыть глаза, и он увидит ее – и заплачет от радости и признается ей, что сбился с пути, что все эти годы блуждал, как ребенок, потерявшийся в темном лесу, страстно желавший, чтобы она отыскала его и отвела домой. Он чувствует, как она наклоняется, чтобы поцеловать его, мягкие пряди ее густых волос опускаются ему на шею и плечи, дыхание Конфетки увлажняет его губы.
– Мистер Рэкхэм?
Он слабо противится ее объятиям (за какого же дурака она его принимает?) и в то же время жаждет остаться в них, рыдать на ее груди, затеряться между ее ног.
– Мистер Рэкхэм?
Нежное прикосновение Конфетки к щеке его обращается в похлопывание, потом в неуверенный шлепок. Он открывает глаза. Две женщины опустились на корточки по сторонам его тела, каждая ухватывает его за подмышку и пытается оторвать от ковра. Лица их обретают четкость очертаний. Одно принадлежит Летти. Другое – более ухоженное, с блестящими глазами и острым носиком – его жене.
– Все в порядке, – хрипит он. – Отпустите меня.
– Вы ужасно горячий, мистер Рэкхэм, – говорит Летти.
– Просто пылаешь, я бы так сказала, – произносит Констанция и неторопливо, словно пробуя чайник, прикасается ладонью к его лбу.
– У меня жар, – признает он. – Пройдет.
– К нам уже едет доктор Керлью, – сообщает Констанция.
– Нет-нет, – бормочет он, пока они помогают ему усесться в кресло. – Не надо.
– Все уже сделано, Уильям.
Он снова стонет, на этот раз от раздражения. Он не может позволить себе потерять время сверх того, какое уже потерял. «Туалетные принадлежности Рэкхэма» осаждены конкурентами. Он должен оборонять свою территорию.
– Оставьте меня, оставьте, – умоляет он.
Женщины переглядываются. Жар донимает Уильяма не настолько, чтобы помешать ему заметить в глазах обеих проблеск недозволенной близости. Женщины против мужчин. Это женское противоборство столь глубоко и универсально, что переступает даже через пропасть, разделяющую госпожу и прислугу. Он знает, о да, уж он-то знает.
– Оставьте меня.
Женщины выполняют его просьбу. Ну да, Летти и не может ее не выполнить, не правда ли? Что до Констанции, милой ласковой Констанции, милой терпеливой Констанции, она дарит ему на прощание один из ее мягких обиженных взглядов. Ничего, она, вне всяких сомнений, утешится, как только вернется на любезное душе ее поприще светского общения. Будет пить чай, оттопырив мизинчик и не отрывая искрящихся глаз от того, кто сидит у нее сегодня, пока ее муж предается неприметным трудам наверху, за одной из многих закрытых дверей.
Уильям усаживается попрямее, расправляет плечи, разглаживает льнущие к голове поредевшие волосы. Он несколько перестарался с лекарством, это понятно. Теперь же ясность мысли вернулась к нему. Температура пока не спала, однако она не помешает ему сделать то, что он должен сделать. Холодная дрожь пробегает по его спине, словно некий проказник пустил ему за ворот струю ледяной воды. В ноздрях возникает нестерпимый зуд… но на этот раз он не дремлет. Проворный, как мысль, Уильям выхватывает носовой платок и мощно чихает в него. Ни капельки не вылетело наружу.
Он набирает полную грудь воздуху. День только еще начинается. Уильям окидывает взглядом стол. Чашка остывшего кофе. Стопка ждущих ответа писем. Перо, чернильница. Он пододвигает к себе начатое письмо, готовый продолжить с места, на котором остановился. Четверть листа уже исписана его несколько неопрятным почерком.
Уильям разминает пальцы, берет перо, должным образом укладывает перед собою лист и вглядывается в то, что уже успел написать.
Начало, – вот и все, что он уже успел написать, – начало начало начало начало начало…
К нам приближается сонмище женщин в широкополых шляпах
Половину меня изготовил отец. Ровно половину, сказала мама. Но какую именно, она уточнять не стала, и потому некоторое время я полагал, что мои голова, руки и грудь сделаны отцом, ведь он был натурой артистической и, стало быть, получил бы немалое удовольствие, исполняя тонкую работу, которой требовало сооружение моего лица и в особенности глаз, представлявшихся мне чудом технического совершенства. Что касается мамы, она, решил я, отвечала за нижнюю часть моего торса, за ноги и гениталии. (Спешу прибавить, что какие-либо сексуальные обертоны в этих представлениях отсутствовали: мне было всего семь лет и, не забывайте, речь идет о совершенно иной эпохе.)
Мои заблуждения но части производства детей могли обратиться в одно из тех верований, с коими нам никогда не удается расстаться полностью, в идиотические убеждения, от которых мы еще и могли бы избавиться в утренний час некоего апрельского вторника, да только шанс этот, а он был последним, оказался упущенным, и потому они навсегда укоренились в нашем сознании. Однако судьба уготовила мне иную участь. Понимаете, мы с мамой были очень близки. Что ни день, мы вели долгие разговоры обо всем на свете. И, надо думать, я сделал во время одного из них какое-то замечание относительно той моей половины, которую изготовил отец, о пупке, может быть, потому что я помню, как мама прочла мне изменившую ход моих мыслей лекцию об ингредиентах. Каждый человек, сказала она, это смесь ингредиентов, что-то вроде супа. Мать доставляет одну их половину, отец другую. Затем они смешиваются, провариваются, и в результате на свет появляется ребенок, в нашем случае – я.
Честно говоря, я с удовольствием остался бы при моем ошибочном варианте. Мне как-то не нравилось думать о себе, как о мешке, в котором намешано бог знает что, оболочке из бледной кожи, под которой плещется нечто темное и липкое. Это казалось мне недостойным, не говорю уж о том, что оно меня и пугало. Мальчиком я был отчаянно предприимчивым, а первые мои шесть лет провел в австралийской глуши, бродя по каменистой местности, слетая вниз головой с огромных бревен, вываливаясь в грязи и всячески злоупотребляя вседозволенностью, которой отличалась наша семейная обстановка. О синяках и ссадинах я знал все, и знал досконально, а вот мысль о том, что все содержимое моего тела может вытечь через какую-то случайную ранку, стала для меня неприятной новостью.
Оглядываясь назад, я вижу, что весна 1908 года была отнюдь не невинным временем года, таким же, как все ее предварявшие, но заговором забот, скоординированным покушением на мою детскую самоуверенность. Новость о моем сходстве с супом оказалась лишь одним из многих вторжений в мою жизнь, бывшую до той поры безмятежной игрой занятого только самим собою ребенка. Наверное, для меня просто настало время понять, что я – не исключение из Истории, но ее составная часть.
Знаете, поскольку детство мое пришлось на пору, которую называют теперь эдвардианской эрой, – я и родился-то на следующий день после смерти королевы Виктории, – эдвардианцы всегда казались мне детьми. Детьми, которые лишились матери, но были слишком малы, чтобы осознать это, и потому продолжали играть как ни в чем не бывало, лишь постепенно, краешком глаза замечая темные тени, маячившие за стенами их солнечной детской. Тени смятения и беспокойства. Звуки споров, протестов, звуки, с которыми кто-то раскидывает по коробкам принадлежавшие матери вещи, разбирает мебель, едва ли не рушит весь дом. А дети, хоть и нервничают, но продолжают играть, напевая привычную песенку.
Сознавал ли я, что английскую империю осаждали ее же подданные? Сознавал ли, вырезая на вполовину диких просторах австралийского юга боевые копья из веток эвкалипта, что в Лондоне поднимают голову всякого рода смутьяны – лейбористы, суфражистки, «Шин фейн», «Общество самоуправления Индии», тред-юнионы самых разных мастей? Знал ли хоть что-нибудь о забастовках, голодных маршах безработных, пикетах, бунтах? Разумеется, нет. Даже премьер-министры, и те вели себя так, точно ничего этого не было. Однако приходит время, и терпение грузчиков лопается, они вваливаются в детскую и принимаются срывать со стен красивые картинки, и дети прикрывают ладошками глаза, однако, не совладав с любопытством, подглядывают сквозь пальцы. Вот это и случилось в 1908 году.
Разумеется, первые мои наблюдения были строго ограничены тем, что происходило со мной самим. По какой-то причине, уяснить которую я так никогда и не смог, наша семья решила вернуться «домой». Я-то всегда считал моим домом Австралию, и мысль о том, что настоящий наш дом мы каким-то образом утратили или просто покинули его ради долгих каникул и теперь должны, чтобы добраться до своих постелей, проплыть двенадцать тысяч миль, меня потрясла. Однако мама настаивала на том, что наш дом – Англия, и после шести мучительных, проведенных в море недель в ней мы и оказались. Наш новый приют находился на Колторп-стрит, что в Блумсбери, неподалеку, сказала мне мать, от дома, в котором некогда жил великий Чарльз Диккенс. Кто он такой, я не знал, зато знал, что нахожусь далеко, очень далеко от мест, в которых некогда жил я.
И словно для того, чтобы усугубить мое замешательство, самый первый проведенный мной в школе день заставил меня усомниться в правильности нашего нового адреса, который я с таким усердием заучил наизусть. Брюзгливая старая леди, записав мое имя в большую книгу, уведомила меня источавшим презрение тоном, что Колторп-стрит находится вовсе не в Блумсбери, а в Кларкенуэлле. Родители отрицали это с упорством, заставившим меня заподозрить, что они ошибаются, я и по сей день запинаюсь на миг, прежде чем сообщить кому-либо о том, что жил некогда в Блумсбери, хотя с тех пор далеко не один знаток успел заверить меня, что Колторп-стрит никакого отношения к Кларкенуэллу не имеет, а ошибалась-то как раз брюзгливая старая леди. Что делать, такова Британия. Мне довольно было провести в моей новой школе считанные минуты, чтобы понять, какими крупными неприятностями чреваты для человека сущие пустяки.
Ах, какие уроки я получил! Товарищами моими впервые оказались англичане, а не сброд антиподов, ничего не ведавших ни о классовых различиях, ни о правилах благопристойности. Казалось невероятным, что дети столь малые обладают столь изощренными, исчерпывающими познаниями, относящимися до всякого рода социальных тонкостей. И тем не менее, они таковыми обладали. Все, от адреса до пуговиц на пальто, было исполнено смысла, и, как правило, унизительного.
Разумеется, особой ахиллесовой пятой были родители. У тебя возникало ощущение, что ты выбрал их сам, и выбрал неправильно. Уяснив себе, что считают нормальным английские дети, я понял, что в моих родителях ненормально практически все. Суждения выносились в начальной школе Торрингтона на основе неписаного свода правил, а мои родители были повинны в нарушении многого их множества. К примеру, первого своего ребенка – меня – мама родила, когда ей уже перевалило за тридцать, что было до крайности странно, а с библейской точки зрения так даже и противно естеству. Если же верить кое-кому из моих одноклассников, это было попросту невозможно. Наверняка она уже побывала замужем и для того, чтобы начать новую жизнь с моим отцом, бросила целый выводок успевших подрасти детишек. Я набрался храбрости и спросил у мамы, приходится ли ей папа первым мужем.
– Конечно, – улыбнулась она. – И последним тоже, это я тебе обещаю.
– А что ты делала до него?
– Изучала мир.
– Как исследователи Африки?
– Точь-в-точь. Вот, правда, в Африке я так и не побывала.
– А где ты была?
– Я же тебе рассказывала, и не раз.
– Но почему ты замуж не выходила?
Она устремила взгляд вдаль, словно пытаясь различить какой-то затерявшийся в тумане ориентир.
– Не была к этому готова.
– Все другие женщины выходят замуж совсем молодыми.
– Неверно. Возьми хоть тетю Примулу. Она и вовсе замужем не была.
– Она – старая дева.
– Боже, боже, вот таким словам я тебя никогда не учила. А я-то думала, что в школе вас одному только и учат – петь «Правь, Британия».
– Про «старую деву» мне Фредди Харрис сказал.
– Глупый он мальчик. У тебя в одном выпавшем волосе больше ума, чем у него во всей голове.
Вот и еще одна головоломка: не теряет ли человек с каждым выпавшим волосом и малую толику ума? И не потому ли совсем уж старые, лысые люди нередко впадают в слабоумие?
– А почему ты перестала изучать мир? – спросил я у матери.
– Так я и не перестала, – ответила она. – Наоборот, изучаю с большим, чем прежде, рвением. Тем более что нет страны более странной, чем наша.
Вот тут я не мог с ней не согласиться.
* * *
Как ни близки были мы с мамой, я не стал говорить ей, что научился от еще одного мальчика слову, относившемуся к тете Примуле: «противоестественная». Тетя Примула жила с нами, в нашем доме. Она всегда жила с нами, даже в Австралии, еще до моего рождения. Лет ей было примерно на пять больше, чем маме, однако теперь, глядя на ее фотографии, я осознаю то, о чем не имел в то время никакого понятия: женщиной она была поразительно красивой. Куда более красивой, это можно сказать с уверенностью, чем моя мать, у которой помимо больших синих глаз имелся пусть и маленький, но двойной подбородок, несколько выступавший вперед лоб и непокорные, пушистые светлые волосы. А тетю Примулу небеса благословили совершенными чертами лица, исключительной лепки шеей, шоколадно-карими глазами и шелковистыми темными волосами, чьи локоны послушно занимали предназначенное каждому из них место. Несколькими десятилетиями раньше она могла бы стать музой прерафаэлитов, хотя они настояли бы, наверное, на том, чтобы тетя Примула облачалась в облегающие бархатные платья с расшитыми лифами. Эдвардианские же годы подобным нарядам не благоприятствовали.
Честно говоря, для женской моды то была дурная пора. Мама привычно одевалась в то, что носила почти каждая женщина, принадлежавшая к одной с ней прослойке общества: простые белые блузы широкого и свободного покроя, приспособленного к ничем не поддерживаемой, низко свисавшей груди, обернутой полосой нательной ткани, отчего торс мамы обретал легкое сходство с голубиным. Такая блуза заправлялась в доходящую до лодыжек серую юбку, которая туго перехватывала талию. С моих ползунковых еще лет я запомнил, как фантастически эффектно выглядела мама в лисьих мехах, однако вскоре после нашего переезда в Англию она, вернувшись с какого-то загадочного публичного собрания (мама вечно посещала какие-то загадочные публичные собрания), заявила, что лис убивать нехорошо. И симпатичнейшим просторным мехам, которые я так обожал, пришел конец. Вместо них мама стала носить длинное, черной шерсти пальто, более всего напоминавшее торбы с овсом, из каких кормили извозчичьих лошадей. Дома она собирала волосы в вечно распускавшийся пучок; выходя же на люди, надевала шляпку, которая вполне могла сгодиться в подушечку для фортепианного табурета.
А вот наряды тети Примулы, напротив, всегда отличались безупречностью линий. Почему же, в таком случае, мои одноклассники находили ее «противоестественной»? Да потому что покрой ее одежд был мужским, вот почему. Она отдавала предпочтение строгим пиджакам и сюртукам – немного перешивавшиеся, чтобы расширить их в груди и добавить женственные накладные плечи, они почти ничем, по сути дела, не отличались от одеяний величавых парламентариев. Тетя Примула даже карманные часы на цепочке носила. Я в то время не воспринимал это как мужскую черту. Я слишком привык видеть тетю Примулу и маму, сидящими, привольно раскинувшись, на диване и посмеивающимися. Мне она представлялась ласковой и озорной, отделенной миллионами миль от чопорных мужчин, наполнявших мою повседневную жизнь, – от кислых школьных учителей, от хмурых уличных метельщиков и суровых полисменов. Однако, когда я, по прошествии пятидесяти, скажем, лет, вглядывался в ее фотографию, меня поражала неженская прямота ее взгляда. «Кто вы такой, чтобы судить меня?» – словно спрашивает она у фотографа, коему позирует в халате, сорочке с высоким воротом и шейном платке.
Я всегда называл ее тетушкой и никогда Примулой. Мама называла ее Посс. А она маму – Софи.
Какое место отводилось в нашей семье отцу? Не считая, конечно, трудов, которые он потратил, чтобы изготовить половину меня? Этого я и сейчас с уверенностью сказать не могу. Маму он называл «Сердце мое» – всегда только «Сердце мое». Однако произносил он эти слова немного рассеяно, примерно так, как разговаривают сами с собой поглощенные неким делом люди. Впрочем, временами, когда он посмеивался над каким-нибудь заданным ему мамой вопросом, в них ощущалась шутливая подчеркнутость – и мама сердито фыркала, выпячивая нижнюю губу и сдувая со лба непокорные волосы.
Отец хоть и был густоволос, и голосом обладал низким, росту был невеликого и, подобно тете Примуле, не дотягивал до стандартов нормальности, установленных моими английскими однокашниками. Начнем с того, что он был художником – живописцем. Дома других людей наполняли безделушки, китайский фарфор, запах сухих духов; наш был заполнен книгами, недописанными холстами, жесткими от высохших красок тряпками и запашком терпентина. Это вовсе не значит, что мы были намного беднее людей, владевших безделушками и фарфором, – отнюдь. Мы принадлежали к вполне обеспеченному среднему классу. Однако в те дни говорить о деньгах было не принято, и потому я плохо представляю себе, чем поддерживалось наше уютное существование – не считая, конечно, заказов на портреты, время от времени достававшихся отцу, заказов, которые повергали его в дурное расположение духа и побуждали к произнесению страстных тирад о святости чисто артистического выражения. «Гнусная корысть!» – бурчал он, пиная ногой первую попавшуюся вещь, имевшую несчастье без дела лежать на полу. Я полагал тогда, что «корысть» – это род грязи, заносимой в дом с нечистых лондонских улиц.








