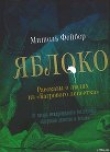Текст книги "Дождь прольется вдруг и другие рассказы"
Автор книги: Мишель Фейбер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Она повесила трубку. Спать я улегся на три часа раньше обычного, да при этом еще и обслужил сам себя – впервые с тех пор, как подыскал новую работу.
На следующий день работа эта шла у меня вкривь и вкось. Я чувствовал себя никому не нужным – ну, и прохожие на такого никчемника даже смотреть не желали. Не решаясь чрезмерно удаляться от наделявшего меня безликостью входа в «Туннель любви», в глаза я никому заглянуть не мог. К Даррену приехал друг из глубинки, и на ленч они ушли вместе. А я просто остался торчать при дверях, работу свою исполнял без всякого рвения и делал при этом вид, будто не замечаю воздетых бровей Джорджа.
Под конец дня, возвратившись домой измотанным и униженным, я обнаружил в почтовом ящике письмо с филиппинскими маркой и штемпелем. Письмо предлагало мне работу в одном из рекламных агентств Манилы – с предоставлением жилья и автомобиля.
Я задумался, тяжело и надолго, и в итоге надумал бросить «Туннель любви», ничего никому не сказав. В конце концов, рекомендации мне не потребуются, да и не похоже, чтобы уход мой сильно кого-то огорчил. Я написал в рекламное агентство, извещая, что согласен на предложенные условия, и сразу после этого почувствовал себя до того погано, что уж и не знал, чем мне лучше заняться – порыдать, покрушить мебель или еще разок поонанировать. И в конце концов, решил в самый последний раз позвонить Карен.
Она сняла трубку, произнесла: «Алло», и я не стал тратить слов: я сказал ей, что мне предложили работу, что было бы безумием на нее не согласиться, но я люблю ее и не хочу уезжать. Она же сказала, что не понимает, какое отношение это может иметь к ней, что у нее выходной, что если у меня возникла проблема, значит, я должен сам сделать выбор и идти с ним до конца. А я с жалкой бравадой ответил ей, что в таком случае, мне, наверное, лучше уехать.
– Ну и правильно, – сказала Карен. – Вот так и поступи. Ладно, до встречи. Пока.
* * *
На следующий день я отправился в город, купить билет до Манилы. Рекламное агентство просило, чтобы я приехал как только буду готов, а готов я уже был.
Показываться в «Туннеле любви» я ни малейшего желания не имел, однако, возвращаясь из конторы авиалинии, буквальным образом натолкнулся на Даррена, направлявшегося скорее всего на работу. Как ни хотелось мне удрать от него подальше, мы уже встретились глазами, и, стало быть, удирать было поздно. А кроме того, эти его глаза! Они действовали на меня так гипнотически, что уже через пятьдесят секунд я прямо посреди улицы рассказал ему все.
– Ехать мне, по правде сказать, не хочется, – говорил я. – Я надеялся, что между мной и Карен может что-то возникнуть, но теперь уже ясно – я ей не нужен, ни в каком смысле.
– А ты говорил с ней об этом?
– Пытался. Она с удовольствием болтает со мной как с товарищем по работе, однако сверх этого никаких разговоров вести не желает.
– Вот тут ты меня удивил, – сказал Даррен и показал рукой на скамейку – может, присядем? – Я-то думал, ты ей вроде как нравишься.
– Да? А вот мне Карен дала понять, что вы с ней – «вроде как супруги», – выпалил я, дав волю сидевшему во мне мазохизму.
Даррен улыбнулся, вытянул перед собой тонкие ноги.
– Карен и я, мы с ней по очереди моем душевую кабинку и поджариваем хлеб по утрам. Не знаю, понимает ли она, что мои представления о «супружестве» чуть более романтичны. А кроме того, она для меня существо не того пола.
– Она дала мне понять, что это не имеет значения.
– Да? Ну, знаешь, это такой признак по-настоящему умного человека – он способен заставить тебя поверить во что угодно.
Я вгляделся в его лицо, пытаясь понять, не смеется ли он надо мной. Он не смеялся, но я все равно покраснел.
– Так или иначе, – сказал я, – Карен, похоже, не очень восприимчива к романтической идее любви.
– Ты шутишь? Да кто же к ней не восприимчив? Просто разные люди по-разному ее выражают, только и всего.
– Ну, наверняка же ты этого не знаешь?
Он засмеялся, расстегнул молнию на сумке и вытащил журнал под названием «Хорошо подвешенный».
– Только этоя наверняка и знаю. Постой-ка… постой, – и Даррен начал перелистывать журнал, отыскивая то, что хотел мне показать.
– Вот, посмотри, – он ткнул пальцем в мужчину с бицепсами размером в мотоциклетные седла, членом величиною с лом и лицом, на котором было написано: «Иди сюда, щенок, я тебя с кашей съем». Даррен подождал, пока я как следует им налюбуюсь, потом приблизил свое лицо к моему и прошептал: – Уверяю тебя, даже этот мужик в самой глубине его сердца, запрятанного под все это мясо, жаждет, чтобы кто-нибудь любил его и только его – преданно, нежно и вечно. К этому, да поможет нам Бог, все и сводится.
Я нервно хихикнул и тут же заметил краем глаза двух прохожих, остановившихся неподалеку и перешептывавшихся. До меня донеслось слово «отвратительно», однако относилось ли оно к «Хорошо подвешенному», который трепетал страницами на коленях у Даррена, или к нам, двум гомосекам, только что не целующимся на стоящей в общественном месте скамье, сказать было трудно.
– У меня все-таки создалось впечатление, что физическая любовь и даже простая привязанность Карен не интересна, – продолжал настаивать я.
– Я понимаю, о чем ты, – вздохнул Даррен. – Думаю, суррогаты страсти, которые окружают ее со всех сторон, мешают Карен хоть как-то проявлять свои чувства. Знаешь, мы однажды зашли с ней в банк и там в очереди стояла обжимавшаяся парочка. Карен с отвращением понаблюдала за ней, а потом сказала: «Интересно, кого они хотят обмануть?» Может быть, те двое ее и услышали. Во всяком случае, они прыснули и принялись целоваться прямо-таки поскуливая, что твои счастливые собачонки. Карен посмотрела на них с таким выражением, точно ее вот-вот вырвет, и ушла.
– Грустно все это.
– Да, а тут еще ее детство: сексуальные надругательства, лупившие друг друга родители. Хотя я думаю, что, на самом-то деле, очень многое объясняется ее глухотой.
– Чем?
– Глухотой. Ты разве не знал, что она почти ничего не слышит?
– Что?!Нет!
– Ну, конечно. Когда ей было восемь, папаша отлупил ее по голове ракеткой для настольного тенниса, и после этого со слухом у нее стало совсем худо. Нет, по губам она читает отлично, но ведь интонации такважны, а их-то она и не воспринимает. В конце концов, и люди искренние, и последние ублюдки могут говорить в точности одно и то же, и если не слышать, какони говорят, возникает, наверное, искушение считать неискренними всех и каждого.
– Глухота… —ошарашенным эхом отозвался я и прислонился к Даррену, словно ища поддержки. Еще одна пара прохожих, таращилась на нас с отвращением и жалостью, видимо, решив, что я вот прямо сию минуту узнал, что болен СПИДом.
– И при этом она же такая гордая, – продолжал Даррен. – Ведет себя так, будто все у нее замечательно. Она даже изобрела нечто вроде системы ответов на телефонные звонки, пригодной на все случаи жизни, представляешь?
– Ох, Даррен, – воскликнул я, когда услышанное дошло до меня целиком и полностью. – Как я тебе благодарен! Это же все меняет!
И мы опять обратились – в глазах прохожих – в чету влюбленных гомосексуалистов, милующихся на скамейке.
– Так что ты теперь собираешься делать? – спросил Даррен.
– Ты бы шел на работу, – посоветовал я ему. – Не знаю, чем все кончится. Может, мы еще и увидимся в «Туннеле любви». И спасибо тебе за все.
Даррен, с всегдашним его спокойным достоинством, обнял меня на прощание и ушел.
А я отправился прямиком в магазин почтовых принадлежностей – в изысканный, косящий под старину – и купил там пачку бумаги для писем, украшенной мотивами «Ветра в ивах». Во внутреннем кармане куртки у меня отыскалось орудие прежней моей деятельности – тонкий фломастер. Поймав и не отпуская взгляд продавщицы, я объяснил ей, что должен написать чрезвычайной важности письмо, для чего мне придется оккупировать самый краешек ее прилавка, – дабы поместить на него листок вот этой восхитительной почтовой бумаги, которую она – о, счастье! – смогла для меня отыскать. Я смотрел и смотрел ей в глаза и улыбался, а когда понял, что могу наконец отпустить их на волю, приложил к бумаге самый кончик фломастера и вывел:
«Милая Карен»
Овцы
(пер. И. Кормильцев)

Чтобы попасть в Альтернативный центр мира, каждый из пяти приглашенных туда художников выбрал свой способ.
Авиабилеты были проплачены кураторами Альтернативного центра: все, что оставалось сделать художникам, – это вовремя оказаться в аэропорту имени Кеннеди. Учитывая тот факт, что все пятеро жили в Нью-Йорке, стоявшая перед ними задача на первый взгляд не казалась чересчур сложной.
Однако из всей компании только Геррит Планк, как все нормальные люди, собрал чемодан накануне поездки, а на следующий день сел в автобус, идущий до аэропорта.
Мортон Краусс, получив билеты, тут же сплавил их за полцены одному студенту в университете, где числился преподавателем живописи, а на вырученные деньги закупил наркотиков. Затем, накануне запланированного отъезда, он позвонил одному из своих бывших любовников, жившему на севере Англии (разговор за счет абонента), и стал плакаться, что ему, дескать, предложили выступить на симпозиуме в Шотландии (блестящая возможность поправить карьеру!), но нет денег на самолет. Из университета его вышвырнули пинком под зад, объяснил Мортон, «после скандальной выставки гомоэротических фотографий, среди которых были и те, ну ты сам знаешь какие, те самые, где мы с тобой…»
Джун Лабуайе-Сук использовала билеты для одного из своих перформансов, который назывался «Доверие». Центральным объектом в перформансе являлась маленькая комнатка без окон, похожая на фотолабораторию. Авиабилеты, вместе с рядом других личных вещей Джун, были приколоты кнопками к стене – посетителям на выбор предлагались ножницы, фломастеры, зажигалка, клей, кетчуп и бачок для использованных гигиенических салфеток. После того как Джун так и не удалось уговорить хоть кого-то из посетителей, чтобы тот уничтожил, испортил или украл билеты (а тем более – свидетельство о рождении, паспорт, кредитную карточку, ключи, письма и тому подобное), она все-таки решила отправиться в Шотландию, но выехала в аэропорт на день раньше, чтобы воспользоваться случаем и сутки поработать: под «работой» подразумевались фотопортреты пассажиров, ожидавших у транспортера на выдаче багажа свои чемоданы и сумки. Когда до полета оставался час, Джун передала камеру и отснятые пленки своему постоянному курьеру.
Билеты Ника Клайна первым делом попали в руки его агента, до невероятия непристойной особы, которую звали Гэйл Фреленг. Она тут же направила в Альтернативный центр мира факс, в котором требовала прояснить некоторые моменты, поскольку, как она выразилась, «честно говоря, я о вас никогда не слышала». Через несколько дней она получила объемистую бандероль, содержавшую рекламные брошюры и каталоги предыдущих выставок, организованных Центром. В авиакомпании, куда позвонила Гэйл, подтвердили, что билеты оплачены и действительны. В ходе дальнейшего обмена факсами удалось также получить официальные подтверждения тому, что Нику Клайну предоставят отдельный номер и что его выступление будет завершать симпозиум. Имя Ника будет появляться во всех печатных материалах, связанных с симпозиумом, причем либо на первом месте, либо напечатанным крупным шрифтом, либо, на худой конец, в списке, составленном в алфавитном порядке. Осуществив все это, Фреленг попыталась позвонить самому Нику, чтобы сообщить ему о предстоящей поездке в Шотландию, но Ника дома не оказалось – он отправился на свалку искать колпаки от фордовских колес.
Фэй Барратт убедила авиакомпанию поменять ей билет на другой, до Оттавы. Она объяснила, что ее мать прилетает из Шотландии в Канаду, поскольку умирает от рака лимфатических желез, и что авиакомпания поступит нехорошо, если помешает их последней встрече. Она беззастенчиво ревела в три ручья у окошечка кассы, время от времени поминая своего адвоката и Опру Уинфри, [4]4
Ведущая одного из самых популярных в США ток-шоу.
[Закрыть]в результате чего билет ей все-таки поменяли. Все это Фэй задумала в надежде на то, что, добравшись до своего бывшего бой-френда, она уговорит его вернуться в ее объятия и отправиться вместе с ней в Шотландию, и тогда платить за билеты будет уже он. Дело кончилось тем, что обратно в Нью-Йорк ее подвезла женщина, с которой Фэй познакомилась в общежитии YWCA, а деньги на новый билет она заняла у некоего владельца галереи под залог трех еще не написанных картин.
В аэропорту в день отправления художники не контактировали друг с другом. Впрочем, ни один из них и прежде не питал никакого интереса к работам своих коллег и не посещал чужих выставок, ограничиваясь чтением критических обзоров. Кроме того, они даже не могли узнать друг друга в лицо, потому что шевелюры их, которые в восьмидесятые годы состояли из обильно смазанных гелем остроконечных пучков, теперь, по моде девяностых, стали длинными и взлохмаченными. (А у Мортона Краусса – длинными и сальными.)
В Эдинбургском аэропорту художников поджидал микроавтобус, которому предстояло доставить их в Альтернативный центр мира. На часах было семь утра – не лучшее время для всех новоприбывших, кроме Геррита Планка, – поэтому, доковыляв до автобуса, они забрались внутрь, почти не обратив друг на друга внимания. За рулем сидел таксист в униформе автотранспортной компании: он не знал о симпозиуме ровным счетом ничего, кроме того, как туда добраться.
– Все в порядке? – только и бросил он через плечо, заводя двигатель. Ответом ему было бессвязное мычание, бормотание и одинокое «да» Геррита.
Микроавтобус покинул территорию аэропорта, выбрался на автостраду М9 и очень долго ехал по ней в северном направлении.
Мортон Краусс, Фэй Барратт и Ник Клайн большую часть путешествия крепко проспали под защитой тонированных стекол, которые сдерживали напор утренних лучей весеннего солнца. Геррит Планк бодрствовал, но не видел смысла в разговорах, и только Джун Лабуайе-Сук решилась завязать беседу.
– Похоже, мы уже давно проехали Эдинбург, – сказала она.
– Конечно! – согласился шофер. Окрестности становились все более и более дикими. Вскоре показались горы.
– Глазам своим не верю! – воскликнула Фэй Барратт, которую разбудила упавшая к ней на колени голова Мортона Краусса. – Эти горы покрыты снегом! Где я возьму теплую одежду?
– Похоже на картинку на пачке сигарет «Альпайн», – буркнул Мортон. – Или на логотип «Парамаунт пикчерс».
Только через пять часов микроавтобус притормозил в какой-то деревушке. Художники высыпали наружу, вообразив, что остановились для заправки бака и посещения туалета; каково же было их изумление, когда водитель выбросил в окно большой пакет, поднял стекло и стартовал с места на полной скорости.
– Эй, – заорал Мортон (самый подозрительный и раздражительный из всех пятерых). – А ну назад! Назад, хрен моржовый, я тебе говорю!
Несомненно, подобное обращение прозвучало в маленькой деревне Инвер (а может – и на всей территории северо-шотландского нагорья) впервые.
* * *
Художники в тот момент еще не знали (но вскоре узнают – как только откроют пакет и прочитают содержащиеся в нем отпечатанные на машинке письма), что стали жертвами изощренного розыгрыша, организованного неким лицом, именующим себя Ценителем живописи. Ценитель не пожалел ни сил, ни средств, чтобы доставить всех пятерых в Инвер (зато ему удалось немного сэкономить на обратных билетах в Нью-Йорк, которые он успел аннулировать). Однако, чтобы компенсировать возникшие в связи с этим неудобства, он дарит каждому художнику по экземпляру альбома цветных репродукций «Красоты горной Шотландии». Альбом включал в основном работы местных художников-реалистов XIX века. На титульной странице каждого экземпляра было от руки написано:
«Я очень рад возможности познакомить Вас с миром настоящего Искусства и той природной средой, что служит для него источником вдохновения.
Всегда Ваш Ценитель живописи»
Каждое письмо было адресовано лично одному из пятерых художников и по тексту несколько отличалось от других.
В письме Герриту Планку злобной критике подвергалось абстрактное искусство вообще и, в частности, композиции из цветных бетонных плит, на которых специализировался Планк.
Диатриба в письме к Джун Лабуайе-Сук была направлена против концептуального искусства, беззастенчиво манипулирующего зрителями, и, в частности, против перформансов самой Джун, которые, как считал Ценитель живописи, свидетельствовали не просто о полном отсутствии каких-либо профессиональных навыков, но об инфантилизме художницы и ее несносном характере. Особенно он отметил перформанс «Фабрика людей», в котором хорошо сложенные молодые люди по очереди мастурбировали в специальной комнатке, наполняя спермой шприц за шприцем. Шприцы затем выкладывались на столик перед входом в другую комнатку, куда зазывали посетительниц выставки, предлагая им воспользоваться шприцами. Этот перформанс, по мнению Ценителя живописи, знаменовал собой низшую точку падения культуры двадцатого века.
В письме к Нику Клайну нападкам подвергались инсталляции. Ценитель живописи возмущался тем, что выставочные помещения не используются для демонстрации работ талантливых и ответственных художников, но превращаются в «настоящие свалки разнообразного мусора». Далее он заявлял, что, по его мнению, ничего более бессовестного, чем демонстрация обыкновенной кучи песка под претенциозно-многозначительной надписью «Метаморфозы бесконечно малого», невозможно вообразить. (На самом деле это название было придумано Гэйл Фреленг, а вовсе не Ником.)
В послании к Фэй Барратт разоблачалась профессиональная беспомощность, скрывающаяся под личиной последнего писка социально-политической моды, – именно таковы были, по мнению Ценителя живописи, картины Фэй, посвященные теме сексуального кризиса у женщин. Особенно детальному разбору подверглось полотно, озаглавленное «Можешь забрать это себе», недавно приобретенное музеем Гугенхайма. Уже сам сюжет – картина изображает женщину, вырезающую себе матку ножом с ручкой в форме пениса, – более чем неприятен, а грязная, комковатая текстура свидетельствует о том, что художница совершенно не владеет техникой письма маслом, ее мазня даже не заслуживает критического разбора.
Письмо Мортону Крауссу было, по существу, разносом самого Мортона Краусса, и в особенности его знаменитой экспозиции 1989 года «Половые акты с перцем». Во время этого шоу, идея которого стоила Мортону чрезвычайных умственных усилий, посетителям предлагалось приобрести оригинальные порнографические фотокарточки без рамок, размером 8×10, по цене $50 за штуку. Было изготовлено по двадцать копий каждого снимка, более или менее идентичных (если не считать мелких дефектов, связанных с прославившейся благодаря Мортону методикой проявки «в тазике»). Покупатель должен был ткнуть пальцем в приглянувшуюся ему фотографию, тогда работник галереи срывал карточку с гвоздя, на котором она висела, и вручал ее новому владельцу в коробке из-под пиццы. Затем на стену вешалась другая копия того же фото и так далее – пока не раскупались все (что происходило довольно быстро). Шоу стало последним заметным успехом Мортона. С тех пор Мортон не сумел выдумать ничего такого, что могло бы превзойти «Половые акты»: ведь сама идея «картин на вынос», в общем-то, принадлежала не ему, а «вдохновительница» больше не разговаривала с художником с тех пор, как он обменял ее видеомагнитофон на наркотики. Тем не менее «Половые акты» стали в некотором роде легендой и, судя по всему, произвели немалое впечатление на Ценителя живописи. По его мнению, никому в мире больше не удавалось продемонстрировать в рамках одной экспозиции такое впечатляющее сочетание непристойности, безвкусицы, непрофессионализма и откровенного цинизма.
– Ну и че? – спросил Мортон самого себя, дочитав письмо. – Да пошел ты…
– Беее! – отозвалась пасшаяся по соседству овца.
Последовала минута молчания, в течение которой художники окончательно осознали, какими лохами они оказались. Где-то вдалеке гудел, пробираясь сквозь облака, военный самолет.
– Нужно, чтобы кто-нибудь позвонил Гэйл, – сказал Ник Клайн. – Я дам вам ее номер. Она сообразит, что нужно делать.
Все пятеро разбрелись в разных направлениях искать телефонную будку, но в деревушке Инвер, похоже, подобное сооружение отсутствовало. За залом общинных собраний, который был закрыт и украшен плакатом с надписью ЛОТО, простирались пустыри и мелководье. Подальше от берега плавали лебеди, а где-то совсем вдалеке на фоне дюн виднелась покачивающаяся на волнах маленькая рыбачья лодка. Слева на дорожном указателе было написано ШКОЛА, но глаз не находил никаких признаков таковой: ни тебе баскетбольной площадки, ни автостоянки, ни толпы гомонящих тинэйджеров, ни полицейских. Стояла такая тишина, что можно было услышать, как встряхивают крыльями лебеди. Справа раскинулась сама деревушка, состоявшая из единственной улицы, ограниченной с одной стороны галечным пляжем, а с другой – шеренгой современных маленьких бунгало (вместо живописных старых коттеджей, которых можно было бы ожидать в подобном месте).
– В одном из этих домов наверняка есть телефон. Если, конечно, сюда уже провели электричество, – сказала Фэй Барратт задумчиво, собираясь с силами, чтобы постучаться в какую-нибудь дверь и попытаться завоевать симпатии аборигенов. Основная проблема заключалась в том, что такими вещами лучше всего заниматься, когда ты одна, – попутчики в данном случае только мешают. К тому же подобные штуки ей удавались обычно только с собратьями-американцами – несколько лет назад во Франции она безуспешно пыталась обратить на себя внимание публики в привокзальном кафе и добилась участия только со стороны польского столяра, у которого, впрочем, не было денег.
– Я вижу телефонные провода, – сообщил Геррит Планк. – Повсюду. – И спокойно, сдержанно показал вверх, подняв одну бровь и одновременно указательный палец.
– Кое-чего не хватает, – сказала Джун Лабуайе-Сук, – инсталлятора!
Данная реплика, впрочем, относилась уже не к телефонным коммуникациям, а к Нику Клайну, которого действительно нигде не было видно.
– Деревнягребаных Проклятых, [5]5
Намек на известный научно-фантастический фильм Вольфа Рилла (1960) по рассказу Джона Уиндема «Мидвичские кукушки».
[Закрыть]– заключил Мортон Краусс. – Резня,понимаешь, бензопилой в Техасе.
Ник Клайн же тем временем пил пиво в деревенском пабе и вовсе не собирался никого ни о чем просить, разве что еще об одной кружке пива, и хозяин немедленно удовлетворил эту его просьбу, сразу же признав в посетителе серьезного потребителя алкоголя, имеющего большой и многогранный опыт в данной сфере.
Сидя за столиком в «Инвер Инн», Ник изучал меню на стене, размышляя, настолько ли он голоден, чтобы рискнуть съесть нечто отличающееся от копченой говядины с маринованными овощами, которой он завтракал каждый день в гриль-баре «Хуанита». Ник, единственный из художников, благодаря стараниям Гэйл Ферленг и банка First National, обладал солидным запасом шотландской валюты, но загвоздка заключалась в том, что он не имел ни малейшего представления, что такое стовиз. [6]6
Национальное шотландское блюдо – мясо, тушенное с картошкой и луком в горшочке.
[Закрыть]Он был на все сто уверен, что не хочет ни шотландского пирога (68 пенсов), ни биф– или чизбургера (£1.20), ни копченых сарделек (£1.70), ни лазаньи или цыпленка под соусом карри (£1.86). Так что оставался только стовиз (£1.70).
Ник еще какое-то время, прищурившись, пил пиво. Может быть, кто-нибудь из посетителей затронет тему стовиза и тогда Ник сможет понять, что это такое.
Паб был чистеньким и непретенциозным, в таких залах собираются бойскауты. Машина для игры в пинбол и бильярдный стол стояли в ожидании игроков. Кроме Ника в пабе находился только старик с собакой, которая прикорнула у его ног, обутых в шлепанцы. За стойкой, украшенной рядами перевернутых бутылок с виски, декоративных тарелок и целлофановых пакетиков с чипсами, владелец паба протирал стаканы, в то время как его жена по телефону делала ставки на лошадей.
– Номер пятый, Выбор Капитана, – говорила она в трубку. – Номер шестой, Любимец Евы. По пятьдесят пенсов на оба номера.
Ник обратил внимание на ее странный акцент и задумался над тем, сколько времени ему предстоит провести в Шотландии. Пусть кто-нибудь другой позвонит Гэйл: он терпеть не мог говорить по телефону. А если даже никто не позвонит, Гэйл все равно его рано или поздно найдет: прежде всегда находила. Но если придется ждать слишком долго, то можно ведь и без денег остаться.
– А эта Фиона бабенка-то ничего – ну, знаешь, племянница того плотника из Килдари.
– Петтигрю?
– Ага, того самого.
Никто так и не поднимал тему стовиза, а Ник уже почти допил вторую кружку. На стене напротив него висела петиция: «Мы, нижеподписавшиеся, требуем, чтобы британское правительство снизило акциз на пиво». К этому моменту петиция была подписана восемью гражданами, проживающими в Инвере. Нику пришло в голову, что он тоже с удовольствием бы под ней подписался, потому что пиво относилось к числу ценностей, в которые он верил. С другой стороны, Гэйл всегда просила его не подписывать ничего, не посоветовавшись предварительно с ней. Все-таки придется ей позвонить. Телефон уже освободился.
– Будьте добры, – сказал Ник.
– Да, сэр.
– Еще одно пиво, пожалуйста.
Прошло несколько минут, и в паб вошли три молодых человека в рабочих комбинезонах, за которыми следовали четверо художников. Интересно, подумал Ник, вспомнит ли кто-нибудь о его предложении позвонить Гэйл Фреленг, но вместо этого они – женщины, по крайней мере – тут же стали интересоваться наличием общественного транспорта. Коротышка с сальными волосами в это время нашептывал что-то на ухо здоровенному голландцу, который морщился и старался не вслушиваться.
– Автобус только что уехал, – сказал владелец паба. – Да и шел он все равно в Портмахомак, а вам совсем в другую сторону.
– А что, назад он не поедет? – спросила Фэй Барратт.
– Ну… и да, и нет, – ответил владелец. – Обратно он поедет другой дорогой, через Нью-Гиниз, Маккейз, Лох-Аи…
– А следующий когда?
– Школьный автобус в полпятого.
Такой ответ явно не порадовал художников, и, пошептавшись, они направились к выходу. Ник Клайн поспешно встал и заплатил за пиво, решив не отставать от коллег – на тот случай, если они вдруг попадут в такое место, откуда можно позвонить Гэйл Фреленг. Мортон Краусс, который из принципиальных соображений никогда не носил при себе иностранной валюты – разве что мелочь, не больше пяти долларов в переводе на американские деньги, – с интересом посмотрел на странной расцветки банкноты, мелькнувшие в руках Ника Клайна.
– Мы за тебя волновались, старик, – сказал он. – Думали, вдруг ты заблудился.
– Да нет, я просто сидел тут, – отозвался Ник, засовывая странные золотистые монетки к себе в карман.
– Мне стовиз и пинту пива, – сказал один из юнцов в комбинезоне, когда Ник выходил из паба следом за товарищами по несчастью.
Через полчаса до художников дошло, что предложенный Джун Лабуайе-Сук план – выйти на шоссе и поймать такси – попросту неосуществим. За это время мимо них проехала красная «Тойота», полная подростков переходного возраста, микроавтобус «Фольксваген», битком набитый детишками, и трактор, волочивший за собой загадочного назначения устройство. Над головой, то в одну, то в другую сторону с гудением пролетал реактивный бомбардировщик, словно гигантское насекомое, встревоженное треском пулеметных выстрелов, доносившихся с расположенного за болотами полигона.
– Может, поискать гостиницу? – предложил Ник.
Из головы у него не выходил образ трех юнцов в комбинезонах, сидящих в баре над тарелками с горячим, дымящимся стовизом, хотя, как выглядит сам стовиз, Ник, естественно, не имел ни малейшего представления.
– Я обратно в деревню не пойду, – заявила Фэй. – Там одни тупые грязные мужики.
– А ты, Геррит? – поинтересовалась Джун Лабуайе-Сук.
Она знала, как правильно произносится его имя, и даже смогла вспомнить, когда они с ним впервые заговорили, в каком стиле он работает. Тем не менее Геррит оказался непоколебим.
– Вряд ли, – ответил он.
– Тебе тоже не нравятся тупые грязные мужики? – Сарказм, вложенный в эту фразу, задел голландца за живое.
– Я ничего подобного не утверждал, – поморщился он. – Я не знаю, что это за люди. Просто если уж я решил идти вперед, то зачем возвращаться назад?
Джун Лабуайе-Сук обратила взор на Ника Клайна, но тот отошел на несколько ярдов и изучал что-то лежавшее на дороге – судя по всему, задавленного кролика. Мельком взглянув на Мортона Краусса и на секунду задумавшись, имеет ли смысл с ним говорить, Джун направилась к Нику.
– Славный! – сообщил Ник, показывая пальцем на кролика. Джун посмотрела на шкурку, распластанную на асфальте.
– Может, возьмешь его с собой в Штаты? – сказала Джун, пытаясь понять, все ли у этого парня в порядке с мозгами.
Ник покачал головой.
– У меня уже были с этим проблемы однажды на Фиджи. В аэропорту. На таможне. У меня в чемодане лежало несколько задавленных лягушек. Сухих, как осенние листья. Я объяснил таможенникам, что они совсем сухие. Но взять их с собой мне все равно не разрешили.
– Боже, какая жалость! – вздохнула Джун. – Послушай, давай вместе вернемся в деревню.
– Вместе? – Ник покраснел. – А зачем я тебе?
Джун вздохнула и раздосадовано пожала плечами.
– Неужели не понятно, Ник? Это крошечная, Богом забытая деревушка, и ты хочешь, чтобы я, одинокая женщина, одна отправилась в бар, где полно незнакомых мужчин? Меня могут изнасиловать, убить, зарыть посреди поля, и никто ничего не узнает.
– А что изменится, если с тобой буду я?
– Это очень традиционное общество, не так ли? Если женщина одна, ее считают своей законной добычей. Если же с ней парень, то, по их понятиям, она принадлежит ему.
– Ну, тогда ладно. Только если мне ничего не придется делать.
Джун и Ник направились обратно в деревню и вскоре вновь оказались в пабе. Стовиз к тому времени уже кончился, так что Нику пришлось удовлетвориться копченой сарделькой, которую он чуть позже все равно швырнул в поле за обочиной. Первым из всей компании он лишился невинности в отношении шотландского фаст-фуда. Джун попросила что-нибудь вегетарианское, и ей был предложен пакетик жареной картошки, который она отвергла в надежде на то, что где-нибудь поблизости отыщется вегетарианский ресторан.
– Здесь у них нет такси, – объяснила она остальным. – Надо просто позвонить какому-то Генри, он за четыре фунта довозит желающих до ближайшего городка.
– То есть… – начала Фэй.
– То есть я уже позвонила, и жена Генри сказала, что он скоро за нами приедет.
Генри действительно приехал довольно скоро, как только доставил пакет с жареными курами в местную гостиницу, игрокам в бильярд, не желавшим отрываться от важной партии. Генри отвез художников в Королевский замок в Теине – крошечном городке на берегу залива Дорнох. Когда художники очутились в Теине, все заведения в городе уже закрылись на обед. А турагентство, расположенное над аптекой, на втором этаже, – и вовсе до следующего дня.