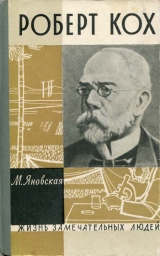
Текст книги "Роберт Кох"
Автор книги: Миньона Яновская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
ГОСПОЖА СОВЕТНИЦА

24 марта 1882 года сделало Коха предметом преклонения ученых; открытые им микробы были названы «коховскими палочками». Для всех грамотных людей, сумевших прочесть многочисленные сообщения о научном подвиге Коха, он стал великим открывателем причины туберкулеза. Для всех страдающих от этой проклятой болезни он стал отныне предметом вожделенных мечтаний, потенциальным спасителем.
Для Эмми Кох Роберт отныне особенно дорог: правительство пожаловало ему звание тайного советника, что открыло Эмми доступ в высшее общество Берлина.
Для Гертруды, милой четырнадцатилетней девочки, он остался по-прежнему любимым отцом, которым она гордилась и который доставлял ей все больше и больше огорчений: у него почти не находилось времени для задушевных бесед с нею, он до крайности редко проводил теперь дома свои вечера.
Для самого Коха… Впрочем, в этот год он еще оставался самим собой. Тем самым самоотверженным искателем, который за десять лет до этого в глухой провинции, именуемой Вольштейном, в одиночестве и нужде начал охоту за призраком и только благодаря своим личным качествам умудрился этот призрак поймать.
Едва заметно, правда, характер его менялся. Он стал резок, а иной раз и груб. Его пресловутая сдержанность потихоньку испарялась. Его нетерпимое отношение к своим противникам все чаще и чаще прорывалось наружу. И еще одна появилась у него черта: недоверие к соперникам, стремление преуменьшить их заслуги.
В сущности, достойный соперник в те годы был у Коха один-единственный: великий француз Луи Пастер.
В ту пору, когда Кох совершил свое второе открытие, Луи Пастер уже начал жатву плодов, принесенных его гениальностью. После «чуда» в Пуйи ле Фор, где он публично продемонстрировал сказочное действие сибиреязвенной вакцины, он был избран во Французскую Академию, и как раз через месяц после доклада Коха о туберкулезе держал в Академии благодарственную речь. Великий скептик, президент Академии Ренан в собрании «бессмертных» поставил его имя рядом с именами величайших гениев человечества: Галилея, Микеланджело, Мольера. Пастер едва успевал получать ордена и медали, которыми его награждали восторженные соотечественники, и пустился уже на поиски микроба бешенства. Результаты этих поисков через три года сделали его по-настоящему бессмертным.
Но и у Пастера бывали срывы и неудачи, и – надо честно признаться – он не любил говорить о них. Во всеуслышание заговорил об этих неудачах Роберт Кох, сделавший далеко идущие выводы: он начисто перечеркнул все достижения соперника.
Бой должен был разыграться 5 сентября 1882 года в Женеве, на Международном съезде гигиенистов, в присутствии избранных представителей мировой медицины. Пастер первый бросил перчатку, но Роберт Кох уклонился и не принял ее. Публичным выступлениям он предпочитал выступления в печати.
Незадолго до этого съезда Кох со своими ассистентами в довольно резкой форме напал на пастеровские сибиреязвенные прививки. Высказав как-то в частной беседе свою знаменитую оценку вакцинации ослабленными бактериями – это слишком хорошо, чтобы быть верным, – Кох заявил, теперь уже в печати, что Пастер – химик, а не медик, и потому неудивительно, что он не умеет ни разводить бактерии в чистом виде, ни по-настоящему исследовать их. Ослабление заразных свойств бактерий не доказано еще, а утверждение о предохранительном действии их прививок не подтверждено опытом. Все выводы Пастера полны ошибок, и у него, Коха, как и у каждого уважающего себя ученого-медика, не вызывают ни на грош доверия.
Великолепный массовый опыт, произведенный Пастером на пятидесяти животных в Пуйи ле Фор, когда двадцать пять баранов, получивших предварительную прививку ослабленной бактерийной культуры, не заболели после искусственного заражения сибирской язвой, а столько же контрольных погибло, Кох оставил без внимания. Зато дошедшие до него сведения о том, что далеко не все выпуски пастеровских вакцин предохраняют от заболевания, а некоторые даже сами вызывают болезнь, он непомерно раздул. Методологические ошибки, недостаточный опыт в получении вакцин он использовал как доказательство абсурдности самой идеи – предохранять от микробного заболевания прививкой ослабленного микроба, вызывающего это заболевание.
Пастер возмутился до глубины своей страстной души и с присущим ему темпераментом высказывал возмущение. (В скобках надо заметить, что он не имел, к сожалению, возможности возмущаться несправедливостью обвинения в том, что не все его вакцины соответствуют своему назначению: обвинение было справедливым, но Пастер понимал, что оно ни в какой степени не может опорочить его метод.) Пастер поехал в Женеву с твердым намерением потягаться там силами с ученым, с которым не мог не считаться – с ним считался теперь весь мир.
Пастер выступил в день открытия съезда с докладом: «Как предохранить живые существа от заразных болезней путем введения в них ослабленной культуры микробов». Он рассказал о созданной им и его сотрудниками вакцине против сибирской язвы и краснухи свиней, о том, что основные принципы спасения от заразных болезней уже найдены и они вселяют в его душу самые радужные надежды; потом он пожаловался, что, несмотря на все проверки и публичные опыты, есть еще ученые, относящиеся с недоверием к его теории.
Он посмотрел прямо в глаза Роберту Коху, сидевшему неподалеку, увидел ироническую недобрую усмешку и, быть может дрогнув внутренне, решительно заявил:
– Вы все, наверное, знакомы со статьей доктора Коха, полностью перечеркивающей наши успехи в этой области. Я был бы рад, если бы присутствующий здесь доктор Кох высказал при мне и публично все свои возражения, чтобы я мог попытаться разъяснить ему и разуверить его. Ибо мы все воодушевлены самыми высокими стремлениями – стремлениями к прогрессу и к истине, – с пафосом закончил Пастер.
Кох отреагировал на этот прямой вызов одной только фразой.
– Я предпочитаю ответить господину Пастеру в письменном виде, – сказал он, поднявшись со своего места.
Кох не замедлил сделать это. Он написал убийственную для Пастера брошюру; но, что хуже всего, статья его убивала и всю пастеровскую теорию. Иными словами, вместе с водой он выплеснул и ребенка. Это была честная критика ошибок Пастера и не слишком честная попытка свести на нет все его великие достижения. Энергия, которую он затратил на развенчивание французского ученого, достойна была лучшего применения…
Кох решительно отметал все, что Пастер внес в медицинскую науку. В качестве доказательства он использовал действительные неудачи с вакциной. Кох писал, что ему удалось приобрести у «агента Пастера» немного сибиреязвенной вакцины – точнее, того вещества, которое Пастер столь смело называет вакциной. Он испробовал это вещество, действуя согласно инструкции самого изобретателя. Что же он увидел? Пастер утверждал, что его первая вакцина убивает только таких-то животных, но совершенно безвредна для других, которых предохраняет от заболевания сибирской язвой; что вторая вакцина способна убить других животных, но не может причинить ущерба третьим, которых она также спасет от болезни, и т. д. Между тем вакцины дают совершенно не соответствующие рекламе результаты: они убивают тех, кого должны спасать, и не убивают тех, кого должны бы убивать, а часто ни тех, ни других не спасают от заболевания. Он, Кох, тщательно проанализировал содержимое флаконов и убедился, что в пресловутой вакцине полным-полно других, отнюдь не сибиреязвенных и неослабленных микробов. Как же господин Пастер не поинтересовался, не содержат ли его чудесные флаконы посторонних микробов? Можно ли после этого верить, что господин Пастер горит страстным стремлением к истине, о чем он во всеуслышание объявил в высоком собрании гигиенистов? Если бы истина действительно была дорога ему, он бы не замедлил рассказать о массе печальных результатов, последовавших за повальным применением его вакцины. «Такой образ действия, может быть, годится для рекламирующей себя торговой фирмы, но наука должна отнестись к нему с самым суровым осуждением», – заканчивал Кох свое страшное разоблачение.
Словом, статья Коха не оставляла камня на камне от пастеровских вакцин. Пастера она ввергла в страшный гнев. Не имея возможности опровергнуть фактические доказательства, к которым прибег Кох, – Пастер и сам знал, какие чудовищные беды подчас творила его вакцина против сибирской язвы, он не спал по ночам и страшился распечатывать письма, прибывавшие к нему со всех концов Франции и других стран от тех несчастных скотовладельцев, которым попадались неудачные флаконы, – он ответил только на нападки, касавшиеся его научной честности и созданного им метода. Ответил с большим достоинством, с величием ученого, не сомневающегося в своей правоте.
Он привел данные о количестве спасенных его вакциной животных, и множество фактов, подтверждавших правильность идеи лечения микробных болезней самими же ослабленными микробами. Закончил он свою отповедь следующими словами: «Как бы яростно Вы на меня ни нападали, Вы не сможете воспрепятствовать успеху моего метода. Я вполне уверен, что метод понижения вирулентности вируса окажет большую пользу человечеству в борьбе с угрожающими ему болезнями».
Коху казалось, что он раз и навсегда рассчитался с этим самонадеянным французом, возомнившим себя создателем науки о бесконечно малых существах – микробах. С одной стороны, его действительно раздражала поспешность, с которой Пастер провозглашал открытые им истины, и отсутствие у него той точнейшей микробиологической техники, той дотошности в обращении с бактериями, которой вполне законно мог похвастаться сам Кох. С другой – признание Пастера научным богом было ему крайне неприятно, тем более что бог этот был из стана побежденного в войне врага. До поры до времени он считал таким «богом» своего соотечественника Вирхова, но и к Вирхову теперь его отношение изменилось. Он признавал, что Вирхов сделал свое важное и полезное для науки дело, но считал, что теперь пришла пора ему уйти в тень. Слишком яркая фигура Пастера слепила близорукие глаза Коха. Он отлично понимал, что, несмотря на свой бесспорный приоритет в открытии этиологии сибирской язвы, несмотря даже на открытые им микробы туберкулеза, ему еще очень далеко придется идти по тернистой дороге научных открытий, чтобы угнаться за Пастером. Пастер не только открывал причины болезней – он учил бороться с ними. Вот в чем было, по мнению Коха, главное преимущество его соперника, вот почему его собственные труды бледнели перед трудами Пастера.
Нет, Кох напрасно думал, что вышел в этой полемике победителем! Неприятности с пастеровскими вакцинами были временными неприятностями. Повинно в том было неумело поставленное производство вакцин, невозможность делать их абсолютно чистыми в таком большом количестве в крохотной лаборатории Пастера без необходимого оборудования. Методика со временем усовершенствовалась, вакцина полностью оправдала себя. Как оправдалось и пророчество Пастера об огромной пользе, какую принесет человечеству его метод прививки ослабленных микробов.
Через три года после «женевской распри» Пастер совершил первую прививку против бешенства человеку. Теперь уж победа его, казалось бы, была полной и неоспоримой. Но и она вызвала противодействие коховской школы. Хотя несколько лет спустя Кох сам ввел в своем новом институте отделение для прививок людей, укушенных бешеными животными.
В это десятилетие непрерывно растущей славы, когда Кох работал главным советником по борьбе с инфекциями Королевского управления здравоохранения, с 1880 по 1890 год, он стал признанным законодателем бактериологии. И именно в эти годы происходило его перерождение как человека. Точнее – та, вторая его сущность, которой ему не следовало гордиться; все качества, долгое время сидевшие на самом дне его души, постепенно начали всплывать на поверхность и потихоньку одерживали победу в борьбе с тем Кохом, которым дорожило человечество.
«Знакомство с первой работой Коха, – вспоминает И. И. Мечников, – тотчас после ее появления на свет вызвало во мне чувство необыкновенного уважения к нему. Чувство это перешло в настоящее преклонение, когда я прочитал его первый доклад о чахоточной палочке. Завеса, которая долгие годы скрывала от тревожного человечества тайну о самом сильном его враге, сразу спала… К тому же совершенство техники, приведшее Коха к его поразительным результатам, приводило всех знакомых с делом в настоящий восторг.
Будучи руководителем целой школы молодых бактериологов, Кох сразу сделался противником моей теории невосприимчивости против заразных болезней. Он внушал своим ученикам темы работ, направленные против меня. Встретившись на Международном съезде гигиенистов в Вене в 1887 году с его главным ассистентом, я узнал от него, что Кох очень желает видеть препараты, относящиеся к моей последней работе о возвратном тифе, и просит, чтобы я ему прислал их. Я, разумеется, согласился, но прибавил, что повезу их сам и покажу Коху. Бывшие свидетелями этого разговора известные мюнхенские бактериологи уговаривали меня не делать этого, так как они были уверены, что я попаду впросак. Кох преднамеренно не увидит в моих препаратах того, что я в них описал, и объявит мои выводы опровергнутыми на основании личного осмотра моего материала. Я, разумеется, не послушался этой угрозы и спустя некоторое время поехал в Берлин. Явившись в Гигиенический институт, в котором профессорствовал Кох, я застал там его ассистентов и учеников. Осведомившись у Коха, они сказали, что свидание назначается на следующее утро. Тем временем я выложил свои препараты и стал показывать их его молодым сотрудникам. Они в один голос заявили, что то, что они только что видели под микроскопом, безусловно подтверждает мои выводы. Подбодренный этим, я с главным ассистентом отправился на следующий день в лабораторию Коха. Я увидел сидящего за микроскопом пожилого, но нестарого человека, с большой лысиной и окладистой, еще не поседевшей бородой. Красивое лицо имело важный, почти высокомерный вид. Ассистент осторожно сообщил своему начальнику, что я пришел согласно назначенному им свиданию и желаю показать ему мои препараты. «Какие такие препараты? – сердито ответил Кох. – Я вам велел приготовить все, что нужно к моей сегодняшней лекции, а вижу, что далеко не все налицо». Ассистент стал униженно извиняться и снова указал на меня. Кох, не подав мне руки, сказал, что он теперь очень занят и что не может посвятить много времени для осмотра моих препаратов. Наскоро было собрано несколько микроскопов, и я стал ему указывать на особенно, по моему мнению, доказательные места. «Отчего же вы покрасили ваши препараты в лиловый цвет, когда было бы гораздо лучше, чтобы они были окрашены в голубой?» Я объяснил ему мои доводы, но Кох не успокоился. Уже через несколько минут он встал и заявил, что препараты мои совершенно недоказательны и что он вовсе не усматривает в них подтверждения моих взглядов. Этот отзыв и вся эта манера Коха задели меня за живое. Я ответил, что ему, очевидно, недостаточно нескольких минут, чтобы увидеть все тонкости препаратов, и что поэтому я прошу назначить мне новое свидание, более продолжительное. Тем временем окружавшие нас ассистенты и ученики, которые накануне были во всем согласны со мной, хором заявили свое подтверждение мнения Коха…»
Спустя несколько лет Кох, правда, признал в печати, что Мечников был совершенно прав в своих выводах и что он, Кох, сам видел это по его препаратам. Но между этими двумя событиями утекло много воды: за это время Кох пережил свою самую большую трагедию, и высокомерие его как рукой сняло…
После 24 марта 1882 года, когда Кох пожинал обильный урожай своего совсем простого метода – выращивания микробов на твердой питательной среде, – он на время с головой окунулся в суматошную и утомительную жизнь признанной всеми знаменитости.
Парадные обеды, получение орденов, торжественные встречи и приемы отвлекали его от исследований. Зато по-настоящему счастливой чувствовала себя в вихре славы, закружившей ее мужа, Эмми Кох. На гребне этого вихря она, «госпожа советница», поднялась над привычной провинциальной средой, внезапно попала в круг высшего общества, о чем смела только мечтать в прежние времена.
Каждый прием, который Эмми устраивает в красивой большой квартире на Шоссештрассе, подымает в ней сознание собственного достоинства; постепенно она создает свой собственный мирок, заполненный светскими сплетнями, разговорами о модах, о музыке, встречами с женами коллег Роберта, а иной раз и его начальников. Гертруду она помещает в аристократическую школу, в окружение девочек из «хороших семейств».
Гертруда, так же как и мать, пришедшая поначалу в восторг от всех этих чудесных перемен, начинает понемногу понимать, что ни светская мишура, ни детские танцевальные балы в аристократических домах, ни собственная комната – ничто не может заменить ей общения с отцом. Прежде, в Вольштейне, она могла часами просиживать в маленьком уголке-лаборатории, следить за тем, что делает отец, заглядывать в микроскоп и видеть чудный, ни на что не похожий мир; могла выполнять мелкие поручения, как равная с равным беседовать с ним. Прежде у них были общие часы, когда вся семья собиралась за столом, ведя оживленные разговоры.
Сейчас ничего этого нет – ни лаборатории, куда она может в любую минуту забежать, ни совместных обедов и ужинов, ни таких интересных и увлекательных разговоров, какие велись тогда, в Вольштейне.
Она остро ощущает это отдаление любимого отца и в душе сожалеет уже о временах прозябания в провинции. Теперь Кох уходит рано в свое Управление, и бывают дни, когда Гертруда вовсе не видит его. Он не запрещает ей приходить к нему на службу, заходить в его лабораторию, где всегда полно теперь людей. Но разве может она чувствовать себя там, как дома? Он едва только успевает чмокнуть ее в щеку, задает два-три малозначащих вопроса и снова занимается своими делами, в которых для нее нет места.
Девочка страдает. Но Эмми – Эмми не испытывает неудобств от постоянного отсутствия Роберта. Она живет теперь своей собственной жизнью и только иногда, когда присутствие мужа обязательно для ее замыслов, просит его прийти домой пораньше и побыть немного с ее гостями. В такие вечера она всегда бывает нервна и взволнованна: любой фокус может выкинуть ее знаменитый муж, любую бестактность допустить, заставляя ее краснеть перед приглашенными.
Так бывало не раз. Один случай особенно запомнился Эмми – он надолго вывел ее из себя, и она затаила горькую обиду против Роберта.
Эмми пригласила маленькое общество: кое-кого из сотрудников Управления с женами, ассистентов мужа – Гаффки и Лёффлера, нескольких своих новоиспеченных подруг.
Кох неожиданно без протестов согласился в этот вечер прийти пораньше. Вместе с гостями уселся он за стол, на котором Эмми расставила красивую, недавно приобретенную посуду. Она подала вкусный ужин: кулинария всегда увлекала ее. Все с наслаждением едят, беседа льется без напряжения и пауз – и вдруг хозяин дома, ни слова никому не говоря, не извинившись, откладывает вилку и встает из-за стола. Эмми провожает его раздраженным взглядом, сдерживает себя, чтобы не выйти вслед за ним и не отчитать его как следует.
Проходит десять минут, пятнадцать, полчаса… Эмми начинает тревожиться, гости неприметно пересмеиваются. Потеряв терпение, Эмми ищет мужа, ищет по всему дому – его и след простыл! На дворе зима, шуба Роберта висит в шкафу, а сам он исчез неведомо куда.
Уткнувшись носом в теплый меховой воротник мужниной шубы, бедная Эмми глухо рыдает. Потом утирает слезы, запудривает лицо и, смущенная, возвращается к гостям. Одна из дам лицемерно утешает ее, другая только пожимает плечами. Мужчины, уже не скрывая добродушной насмешки, бросают обидные для Эмми реплики.
Тогда доктор Гаффки, отлично понимающий, куда и почему мог исчезнуть патрон, успокаивает Эмми:
– Я сейчас найду и приведу его домой, не надо волноваться, фрау Кох. Только дайте мне шубу – он ведь может простудиться на обратном пути.
Взрыв смеха гостей, злые слезы на глазах хозяйки. Гаффки, перекинув через руку шубу Коха, уходит… на Луизенштрассе.
Разумеется, Кох там. Он вышел из-за стола, потому что ему, ни на секунду не перестававшему думать о своих исследованиях, вдруг пришла в голову ценная мысль. Он ушел в лабораторию, совершенно позабыв о зимнем холоде, о гостях и о жене. Дойдя до дверей, он обнаружил, что ключи остались в пальто, а пальто осталось дома. Кох звонит в привратницкую, и изумленный заспанный служитель, тараща глаза на господина советника в вечернем костюме, с тающими снежинками на лысине, впускает его в лабораторию.
Когда Гаффки врывается сюда, Кох уже с полчаса сидит за микроскопом.
– Посмотрите, Гаффки, здесь очень забавная картина, – как ни в чем не бывало встречает он ассистента.
Гаффки мнется и молчит: ну как сказать ему сейчас, чтобы он бросил все и шел домой, где с нетерпением и обидой ждет его «посрамленная» перед гостями жена?!
И, ни слова не говоря, оставив шубу у служителя, доктор Гаффки возвращается на Шоссештрассе. Возвращается один…
Гости понимающе улыбаются. Эмми шокирована и раздавлена…
На следующий день она не разговаривает с Робертом. Он этого не замечает. Тогда она начинает истерически рыдать. Кох изумленно спрашивает: чем он ее обидел?
Минутами Эмми страдает от отчужденности мужа, минутами пытается понять, что же у них происходит? Почему так случилось, что, приобретя, наконец, все блага жизни, приличную квартиру, достаточно денег, возможность жить в свое удовольствие, почему она, приобретя все это, потеряла мужа?
Но попытки здраво разобраться в происходящем нечасто посещают ее. Обычно она думает о Роберте с раздражением, винит его в том, что он плохой муж и стал плохим отцом, что он совсем не дорожит семьей, что у него нет гордости, нет даже намека на самолюбие. Иначе он не ставил бы ее, свою жену, в глупое положение перед людьми, в какое она все чаще и чаще попадает по его милости. Уже поговаривают, что Кох избегает бывать дома, что живет он с женой недружно. Нет, она не выдержит всех этих разговоров, она должна пресечь их!..
Словом, Эмми ничего не понимает ни в характере, ни в образе жизни своего гениального супруга. Нельзя сказать, чтобы Кох очень уж страдал от этого: исследования поглотили целиком его силы, время, энергию; к тому, что они с Эмми разные люди, он уже привык и, не имея желания тратить силы на какие бы то ни было перемены в жизни, просто не замечал ни Эмминых обид, ни ее попыток втянуть его в светскую жизнь, ни – чего греха таить – самою Эмми. Единственная его радость в домашнем кругу – Гертруда. Вот кто беспокоил его. И напрасно девочка думала, что отец разлюбил ее, что он теперь ею не интересуется. Если был на свете человек, который занимал прочное место в сердце Коха, – так это Гертруда.
Однажды он, придя пораньше домой (чем удивил и обрадовал жену), позвал дочь к себе в кабинет (чем несказанно обидел Эмми) и повел с ней такой разговор:
– Я занят сейчас очень важным делом, девочка. Важным не для меня, а для всех людей на свете. Я буду еще долго занят и долго еще не смогу находить время, чтобы быть с тобой, играть, как это мы делали раньше, рассказывать тебе интересные истории, гулять…
Гертруда изумленно смотрела на него. На глазах навернулись слезы. Проглотив комочек, подступивший к горлу, она тихо ответила:
– Ты даже не заметил, что я уже большая и со мной не надо играть и гулять, как в Вольштейне… Ах, Вольштейн!..
Кох смущенно пощипывал свою рыжеватую бородку, растрепал ее вконец, провел рукой по лысине и глухо сказал:
– Прости меня, дорогая, для меня ты всегда будешь маленьким любимым существом… Но раз ты утверждаешь, что уже большая, я и расскажу тебе, как взрослой, чем я сейчас занимаюсь и почему у меня ни на что не хватает времени… Ты поймешь…
И он раскрыл перед девочкой все свои карты. Он рассказал ей о трудной охоте за микробами чахотки – этого бича человечества, о том, что из этой охоты получается и чего он не может добиться; о том, какое это будет счастье для всех людей, если его исследования приведут к желаемым результатам. Он сказал ей даже о том, о чем ни одному человеку ни разу еще не намекал:
– Теперь, когда мне удалось поймать, наконец, этих отвратительных маленьких зверьков, я начну искать средство для их уничтожения. Найти лекарство от чахотки – вот моя заветная цель…
Гертруда слушала как зачарованная, потом вскочила со стула и повисла на шее отца.
С этого дня она частенько заходила к нему на Луизенштрассе, не пугаясь больше людей, работавших там, подолгу оставалась в лаборатории, приглядывалась, прислушивалась и, совершенно счастливая и гордая успехами отца, уходила домой.
Дружба их стала теперь молчаливой, но более крепкой, чем когда бы то ни было. И еще больше Кох за это время отдалился от жены.
Ей бы сделать над собой усилие, попытаться вникнуть в дело мужа – дело, которое составляло цель и содержание его жизни. Ей бы защитить свою любовь, поднять ее вровень с его интересами. Кох бы откликнулся – еще жил в его сердце образ голубоглазой невесты, настолько дорогой, что она смогла в давние времена заставить его отказаться от цветных сказок, сочиненных в детстве, украшавших его юность, – от путешествий вокруг света. Еще таилась где-то на донышке души привязанность к ней.
Но Эмми упустила время, а время нельзя вернуть. И, не встречая никакого понимания у жены, не видя ее желания приобщиться к его такой наполненной, такой интересной жизни, Кох навсегда замкнулся и не ждал уже никаких перемен.
Впрочем, нельзя во всем обвинять Эмми. Воспитанная в мещанской среде, привыкшая к тому, что главное в жизни – материальное благополучие и общение с людьми, выше тебя стоящими по положению и чинам, что самое важное для женщины – создавать мужу уют, отлично кормить его и заботиться о его костюме; что каждая женщина должна быть матерью и воспитывать детей в строгих правилах; не получившая систематического образования, ограниченная умственно, Эмми не могла понять всей сложности положения жены ученого. Никто никогда не говорил ей, что жена должна быть другом мужа, что для мужчины типа Коха главное – его работа, что только через работу, через интерес, проявляемый к ней, а может быть, и посильное участие в ней – только через это она может занять прочное место в его сердце.
Для нее занятия Роберта были путем к достижению богатства и славы, а отнюдь не самоцелью; и она искренне возмущалась тем, что муж уделяет этим занятиям все свое время, что у него нет ни капли стремления использовать те блага, которые, наконец, принесла ему работа.
Так и жили они бок о бок. Для людей – муж и жена; на самом деле – совершенно посторонние люди, которых роднила только их общая дочь. Возможно, так продолжалось бы до конца жизни, если бы Кох оставался всегда таким, каким был в годы жениховства, или в годы блужданий, или даже в те времена, когда в полном одиночестве начал свое приобщение к науке. Но Кох изменился; менялась его жизнь – менялось мировоззрение и отношение к людям. А главное – изменялось со временем его отношение к самому себе.
Эмми не понимала и этого, так что мысль о том, что в один прекрасный день все может измениться и совсем не так, как она того хочет, что когда-нибудь ее душевное одиночество превратится в одиночество покинутой женщины, никогда не приходила ей в голову.
И пока она заполняла свое время пустыми развлечениями, обидами на Коха, приемами и сплетнями, ее гениальный муж продолжал без сна и отдыха трудиться на ниве науки, совершенно уже не обращая на нее никакого внимания.
Он теперь постоянно был окружен людьми, и, надо сказать, это не доставляло ему никакого удовольствия: во-первых, по самой своей натуре он был нелюдим; во-вторых, он ненавидел кого бы то ни было обучать, а люди, которые в большом количестве находились сейчас в его лаборатории, как раз требовали, чтобы Кох учил их. Врачи съехались к нему так быстро и дружно, как будто кто-то телеграммами вызвал их на очень важную ассамблею. В какой-то мере телеграф действительно был в этом повинен: сообщения в газетах о великолепном открытии Коха встревожили души медиков, и они помчались в Берлин, чтобы усвоить замечательную методику поисков микробов, найти практическое применение открытия для распознавания, лечения и предотвращения бугорчатки, поражающей любой орган человеческого тела.
Сейчас лаборатория Коха похожа была на Лейпцигскую ярмарку, хотя тут никто ничем не торговал и не заключал никаких контрактов: как на ярмарке, здесь были люди из разных стран, говорившие на разных языках, представлявшие разные национальности. Некоторые из них ни единого слова не понимали по-немецки, и Кох мог объясняться с ними разве что при помощи азбуки глухонемых.
Скрепя сердце Кох прочел им несколько лекций на чистейшем немецком языке, не задумываясь над тем, что они из этих лекций поймут. Ему пришлось также допустить их к своим препаратам и колбам, рассказать, как он составляет твердую питательную среду, на которой пышно расцветают колонии бактерий, как ему удалось консервировать их, каким образом надо составлять краски и окрашивать микробов. Одним словом, он преподал им азбуку бактериологической техники, создателем которой был.
Все это время он находился в дурном настроении – его тянуло к своим опытам, у него выкристаллизовались грандиозные планы, о которых знал только один человек в мире – Гертруда. И хотя такой наплыв «учеников» кому угодно мог польстить, Кох испытывал к ним чувство глубокой неприязни и с трудом дожидался, когда же они избавят его от своего утомительного присутствия.
Между тем это была только репетиция массового обучения – главное ждало его впереди. Но как раз в то время, восемь лет спустя, когда не было такой страны в мире, которая не прислала бы к Коху множества своих ученых, когда огромное здание его института было действительно битком набито медиками и у Коха на самом деле не оставалось ни секунды времени для собственных исследований, – тогда он был рад этому людскому наводнению, тогда он принял его как заслуженную благодарность за свою гениальность, как лавровый венок, возложенный на его вознесшуюся над миром голову.
А пока – пока он сурово и холодно встречался с иностранными врачами и со своими соотечественниками, с трудом уделял им время для коллективных бесед и не выразил желания откликнуться на многочисленные попытки врачей встретиться с ним с глазу на глаз, чтобы поговорить спокойно и не спеша на интересующие их темы.





