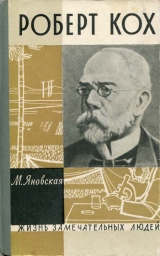
Текст книги "Роберт Кох"
Автор книги: Миньона Яновская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Однажды вечером Кох заговорил о тревожащем его предмете. Привыкший за эти несколько месяцев к полному, казалось бы, пониманию, которое установилось у него с Эмми, он решил посоветоваться с ней:
– Надо нам уезжать отсюда, дорогая. Здесь я на всю жизнь останусь только невежественным знахарем.
– Это ты-то знахарь?! – искренне возмутилась Эмми. – Да во всей округе нет сейчас более уважаемого врача, чем ты!
– Это потому, что люди, которых я лечу, еще большие невежды, чем я сам.
– Но почему ты так говоришь, Роберт? Разве твои заработки стали меньше?
Кох чуть не закричал на нее: опять деньги! Значит, только о них она и способна думать, значит, все, что дорого ему, что его волнует, – все неинтересно ей, если только это не деньги. Но он сдержался и, как мог, спокойно продолжал:
– Заработки мои стали больше, и ты это знаешь не хуже меня. Но я не могу и не хочу жить только для заработков, тем более что деньги получаю нечестным путем…
Эмми перебила его охрипшим от волнения голосом:
– Бог с тобой, Роберт, что ты говоришь?! Зачем возводишь на себя такой поклеп? Нет ни одного пациента в Раквице и в соседних деревнях, который не вспоминал бы тебя с благодарностью, когда ты был на фронте. Ты и сам знаешь, что все здешние жители довольны тобой!
Кох нахмурился: у него уже не было никакого желания посвящать ее в свои планы.
– Для меня это вопрос решенный, – лаконично закончил он. – Я буду искать такое место, на котором мог бы заняться тем, что меня интересует. Вероятно, лучше всего будет стать санитарным врачом.
Это даже не было ссорой – Эмми больше ни слова не возразила. Но с этого вечера все, что она с таким трудом завоевала в последнее время, рухнуло. Опять Роберт старался каждую свободную минуту посвятить Гертруде, опять отгородился от нее, Эмми, опять она испытывала ревность к дочери. Убежденная в своей правоте – она же только лучшего желала Роберту, как он этого не понимает?! – она стала раздражительной и придирчивой. И в доме чувствовалось, как медленно назревает серьезный разлад между супругами.
Неизвестно, когда произошел бы взрыв, если бы не печальное событие, потрясшее Коха: 13 апреля 1871 года от тяжелого воспаления легких умерла фрау Матильда Кох. Роберт очень любил свою мать, он только сейчас понял, как сильна эта любовь. Он почувствовал себя совсем осиротевшим – разве Эмми способна заменить ему светлую дружбу, которую щедро дарила своим детям фрау Матильда, а ведь он, Роберт, всегда был ее любимцем!
Но, кроме горя, это событие принесло Коху и другое: он вдруг понял, что так дальше продолжаться не может. Его мать «лечил» от воспаления легких такой же добросовестный и такой же невежественный врач, как и он сам. А сколько чужих матерей погибнет неизлеченными на его руках, если он и впредь будет довольствоваться теми средствами, которыми располагает нынешняя медицина?!
Чтобы лечить – надо знать, чтобы знать – надо изучать…
Кох усиленно готовится к экзаменам на право занимать должность врача в правительственном управлении. Подает ходатайство в Познань – он просит допустить его к экзаменам на должность окружного «физикуса» – санитарного врача; просит предоставить ему, по сдаче испытаний, первую же вакантную должность.
«Доктор Кох, живущий в Раквице, в округе Бомст, – писалось в характеристике, данной Коху от познанского правительства, – получивший диплом врача 12 марта 1866 года, подал заявление о допущении его к испытанию на «физикуса». Так как вышеупомянутый по отзыву окружного совета зарекомендовал себя научнообразованным врачом и имеет хорошую аттестацию от своих больных и уважение со стороны своих коллег, то правительство считает, что он может быть допущен к испытаниям на окружного «физикуса».
Получив разрешение из Берлина, Кох незамедлительно выезжает на экзамены. Он сдает две письменные работы; если они кажутся неудовлетворительными, к устным испытаниям его уже не допустят.
«Я готовился к этим работам с величайшим усердием, – пишет Кох отцу, – и надеюсь, что мои старания не пропадут даром и мои работы удовлетворят поставленным требованиям».
На сей раз счастье, кажется, по-настоящему улыбнулось ему. Письменные работы были признаны удовлетворительными, хотя и со многими оговорками.
«В формальном отношении обе работы доктора Коха не представляют ничего особенного, – написано в отзыве об этих сочинениях, – не говоря уже о необычайной форме и недостаточно культурном почерке автора, у него недостает указаний литературы, источники перепутаны. Однако при изучении содержания обеих работ видно, что автор прилежно поработал над темами, понял темы и приводит литературный материал с критической оценкой его; манера изложения ясная и корректная. Работа «О сотрясении мозга» обнаруживает знакомство с новейшей литературой и достаточную основательность проработки темы… Вторая тема («О положении судебного врача при решении вопроса о подсудности») хорошо проработана исторически и юридически… Ввиду изложенного, несмотря на формальные недочеты, работа оценивается «очень хорошо», и доктор Кох допускается к дальнейшим испытаниям».
Устные экзамены прошли совсем легко. Очень довольный, Кох вернулся домой.
Это было в день его рождения – ему исполнилось двадцать восемь лет. Подарок, который преподнесла ему Эмми, был настолько неожиданным, что Кох просто глазам своим не поверил…
Неизвестно, какими мотивами руководствовалась Эмми, когда выбирала для мужа подарок. Возможно, ей хотелось снова установить в семье мир и понимание, которые царили здесь так недолго после его возвращения из Франции; возможно, она думала этим привязать Коха к дому; возможно, надеялась, что, забавляясь ее подарком, муж перестанет думать о научных исследованиях. Они пугали ее, она еще не забыла его детских «исследований», когда он с таким наслаждением рассказывал ей о пищеварении ящерицы и тут же демонстрировал им самим вскрытое животное. Она понимала, что наука отнимает Роберта не только у нее, но и у семьи как таковой, потому что он никогда не променяет научный труд на частную практику и, довольствуясь жалованьем, которое ему назначат на государственной службе, ничего больше не станет зарабатывать.
Трудно угадать, чем руководствовалась молодая фрау Кох, только ко дню двадцативосьмилетия мужа она преподнесла ему микроскоп.
Ох, как же она ошиблась в своих расчетах и как скоро убедилась в своей ошибке! Ведь она сама толкнула его в пучину науки, сама дала в руки орудие исследователя, сама захлопнула перед собственным носом дверь комнаты Коха…
Тем временем в городе Вольштейне Познанской провинции открылась, наконец, вакансия, на которую так надеялся Кох. Нелегко и непросто досталось ему это место: на правительственную должность всегда было много желающих. Но Коха поддержали местные власти, и из всех многочисленных конкурентов именно он удостоился чести быть зачисленным окружным санитарным врачом в городе Вольштейне.
В этом городе родилась мировая слава Роберта Коха.
ГЕНИЙ ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ
«Это была одна из тех счастливых случайностей, на которые наталкиваются те именно ученые, которые все делают, чтобы на них натолкнуться».
К. Тимирязев

В небольшой таверне сегодня шумно и многолюдно, как всегда в субботний день. Юлька раскрывает темную покосившуюся дверь, и навстречу ей вырываются смех и песни. Прямо с порога, напрягая голос, девушка кричит:
– Эй, господин бармен, есть товар для моего хозяина?
Она из всех сил таращит глаза, чтобы не рассмеяться, но не сдерживается и фыркает.
Никто не обращает на нее внимания, только из глубины комнаты от стойки отходит толстый пожилой человек и, многозначительно подмигнув Юльке, скрывается в двери чулана. Юлька следует за ним.
– И чего ты хохочешь на все заведение? – отчитывает ее бармен. – И для чего это нужно поднимать на смех хорошего человека!..
Бармен не сочувствует смешливому отношению девушки к поручению: товар есть товар, за него исправно платят деньги, и смеяться здесь решительно не над чем.
Через несколько минут Юлька выходит из таверны, неся на далеко вытянутых руках небольшой деревянный ящик. Губы ее брезгливо кривятся.
Дал же бог ей такого чудака в хозяева! Все-то у него не как у людей! То посылал ее к мяснику за бычьей кровью, то вздумал теперь покупать в таверне – что бы вы думали? – обыкновенных мышей. Тьфу, до чего они противно пищат!.. Впрочем, если говорить правду, то она немного кокетничает. Хозяин ей попался добрый, уважительный. Живет она у него совсем неплохо. А что он немножечко не в себе, так это уж, видно, от бога…
Немного не в себе… Не одна Юлька думала так о Кохе. По Вольштейну давно уже ходили слухи о странных увлечениях доктора. Люди пожимали плечами, иногда многозначительно прикасались пальцем ко лбу и разводили руками: дескать, если у человека не все дома, тут уж ничего не поделаешь.
Но в общем к доктору относились хорошо. Никто не мог пожаловаться на его невнимательность, никому он не отказывал в помощи; а что не все выздоравливали от его лечения, а кое-кто из больных даже помирал – так, видно, на то воля божья…
Вольштейн такая же дыра, как и Раквиц, только немного побольше. Но народ здесь живет добродушный и доброжелательный, не слишком обеспеченный, но на лечение у всех хватает. Доктор Кох с момента приезда сразу же завоевал себе авторитет, а вскоре и любовь жителей. К нему охотно обращались по всяким поводам, будь то роды, зубная боль, дифтерит или просто старческое недомогание. Он приходил по вызовам в любое время дня и ночи, и почти в любое время можно было зайти к нему домой на прием. «Когда он входит – больной уже выздоравливает», – говорили про него.
Красивый двухэтажный дом Кохов на главной улице, близ Белой горы, возвышался над остальными одноэтажными, крытыми дранкой домиками Вольштейна. Если заглянуть в стрельчатые окна первого этажа, можно увидеть самого доктора, склоненного над трубкой микроскопа или занимающегося какими-то одному ему понятными операциями над мышами. Вообще, если бы не эта страсть к возне с мышами, можно было бы сказать, что доктор – человек безупречный. Впрочем, мыши ведь никому не мешают; если этому чудаку нравится вкалывать им какие-то палочки в хвосты – пусть вкалывает, пусть развлекается от трудов своих праведных.
Так думала основная масса жителей Вольштейна о Роберте Кохе. Немного посудачили о его «странностях», немного посмеялись над чудаковатыми привычками, да и замолчали: на отношении Коха к своим обязанностям мышиные занятия никак не отразились.
Ничего об этих разговорах Кох не знал, ничем, что делается в городе сейчас, не интересовался, совсем не имел времени для бесед с женой и очень редко мог поиграть с любимой дочкой.
Кох запойно работал. Стоя на пороге первого своего открытия, он целиком погрузился в исследования. Глухая провинция, отсутствие ученых коллег, неприспособленная лаборатория, полное одиночество (единственный помощник – восемнадцатилетняя прислуга Юлька), отсутствие самых элементарных вещей, необходимых для научной работы, – ничто не смущало Роберта Коха. Наконец-то исполнилась его мечта: он может заниматься исследованиями причин заразных болезней, углубиться в науку, к которой так давно стремился!
Луи Пастер, попавший после получения звания профессора в Дижон преподавателем лицея, горько жаловался в письме своему другу: «…Я физически не могу здесь ничего делать, я уеду в Париж препаратором…»
Коху Дижонский лицей показался бы храмом науки по сравнению с его вольштейнской дырой. Но Кох не был избалован хорошими условиями работы, да они в ту пору и не казались ему необходимыми. Все, что надо было, он теперь имел: микроскоп, крохотную, отгороженную от приемной занавеской «лабораторию», самую примитивную посуду, неограниченное количество мышей и весьма ограниченное количество талеров. Ничто теперь его не смущало. Он шел к своей цели очень медленно, очень скрупулезно, никуда не сворачивая и ни у кого не прося помощи.
Была, правда, минута – в душе Кох благословлял ее, – когда он думал, что сможет посоветоваться с большим человеком, крупным ученым, слово которого в тот момент было бы для него законом…
Возможно, профессор Вирхов, отличающийся хорошей зрительной памятью, и припомнил лицо Коха, так неотступно преследовавшего его за несколько лет до этого в «Шарите»; быть может, вспомнил даже попытку молодого врача заговорить с ним по вопросам науки, но виду он не подал. Он приехал в Вольштейн в качестве президента антропологического общества, охотно принимал гостеприимство вольштейнского окружного врача, не без удовольствия блеснул перед ним своей огромной эрудицией, когда возле древнего захоронения заговорил о найденных скелетах несколько тысячелетней давности. Но Вирхов не поддержал намерения Коха посвятить его в какие-то свои поиски – у профессора не было времени, он не мог тратить его на забавы провинциального «ученого». Впрочем, у него никогда не было времени, он всю свою жизнь прожил как-то на рысях.
Быть может, все сложилось к лучшему и для Коха и для человечества. Быть может, заговори тогда Вирхов с ним о его исследованиях – а заговорил бы он непременно насмешливо и неодобрительно, – Кох опустил бы руки и не подарил бы миру своих открытий. Позже, уже уверившись в своих силах, он стойко выдержал стычку с Вирховом. То тогда, в Вольштейне, пожалуй, хорошо, что разговора не получилось…
Больше никаких попыток получить квалифицированную помощь, какие-нибудь указания Кох не делал. Совершенно самостоятельно, почти без литературы – да и какая могла быть тогда литература по вопросу, которым только начали интересоваться ученые! – Роберт Кох творил в своем маленьком уголке большие дела.
То было время, когда в медицину торжественно и шумно вступала бактериология.
Началось это, пожалуй, еще с предсказаний Генле. А может быть, гораздо раньше – трудно провести четкую грань между той минутой, когда о микробах ничего еще не знали, и той, когда о них стало хоть что-нибудь известно. Можно только со всей определенностью сказать, что от догадок о существовании микробов, от того дня, когда их впервые увидели, даже от того часа, когда их стали обнаруживать сперва в бродящих жидкостях, а затем и в крови животных и человека, – до того дня, когда бактериология начала превращаться в науку, прошел не один год, не одно десятилетие. Собственно, наукой бактериология стала только во второй половине прошлого века, и рождение ее началось с трудов Пастера и Коха.
С незапамятных времен люди стали замечать, что избегнуть заражения можно, только изолировав больного человека от здорового. Очень давно врачи и особенно ветеринары убедились, что заразные болезни могут передаваться, если перенести «заразное начало» от больного организма к здоровому. Классический пример этого – прививка людям заразного начала человеческой и коровьей оспы.
И очень давно возникли первые смутные догадки о связи открытых Левенгуком в последние десятилетия XVII века микроскопических существ с заразными заболеваниями.
Позднее замечательный русский врач Данило Самойлович, самоотверженный борец с чумой, высказал мысль, что чума вызывается «неким особливым и совсем отменным существом». В середине XIX века дерптский профессор Брауэлл обнаружил в крови овец, пораженных сибирской язвой, палочковидные тельца. В том же году эти тельца нашли у больных овец французы Давен и Райе. В шестидесятых годах великий русский хирург Пирогов говорил, что причина заразы есть «нечто органическое, способное развиваться и возобновляться». К этому времени Генле в своей брошюре, сравнивая развитие болезни с развитием живого существа, гениально предсказывал, что заразные заболевания вызываются существами животного происхождения и передаются от больного человека к здоровым.
Но все это были расплывчатые понятия, умозрительные представления, не подкрепленные опытом. С одной стороны, состояние медицинской техники не позволяло исследователям подвести экспериментальную базу под свои догадки и наблюдения; с другой – голоса их были одинокими и пропадали в шуме медиков-эмпириков, заглушались разного рода «королями» тех или иных теорий, в рамки которых не укладывались понятия о микроорганизмах как возбудителях болезней.
В тот год, когда Пастер совершил свое великое открытие причин брожения, вся химия лежала у ног Либиха, как медицина – у ног Вирхова. Как и Вирхова, Либиха боялись, перед ним трепетали, против него не смели выступить. Когда Делофан через несколько лет после Давена и Райе снова увидел в крови больных сибирской язвой животных микроскопические палочки и нити, он написал: «Я далек от мысли видеть в них образования, способные вызвать сибирскую язву, или тела, которые бы заключали в себе сущность заразного начала, передающего болезнь. Но мне кажется, что кровь сибиреязвенных животных приобретает болезненное расположение, особенно благоприятствующее размножению этих телец». Иными словами, палочки сибирской язвы составляют не причину, а следствие болезни, ибо, по теории Либиха, болезнь может вызываться только бесформенным заразным началом в виде разлагающегося белкового вещества.
Положение сразу изменилось, когда в 1861 году Пастер открыл подвижную палочку, приводящую в брожение сахар с образованием масляной кислоты. Это открытие послужило толчком к исследованиям великого англичанина Листера, который ввел в хирургию дезинфицирующие средства, способные уберечь открытые раны от попадания в них микроорганизмов, вызывающих тяжелый воспалительный процесс.
Идеи Листера постепенно завоевывали себе признание в научных кругах. Карболовые повязки и карболовые «наводнения» в операционных действительно устраняли нечто носящееся в воздухе, и заражение, которым прежде заболевали почти в ста случаях из ста, не наступало. Все яснее для многих становилось, что это «нечто», эти виновники заразы, – микробы; именно от них Пастер «лечил» вино, пиво и шелковичных червей, которые, как он это доказал, никогда не заражались сами по себе.
В то время когда в Париже академик медицины Пастер собирался посвятить себя изучению возбудителей заразных болезней, безвестный врач Роберт Кох в глухой немецкой провинции молча и скрытно занялся научным доказательством тех истин, провозвестником которых давно уже был Пастер.
У Коха не было ни лаборатории, ни библиотеки, ни советчиков, ни помощников. Более того, у него даже не было осведомленности – нет никаких указаний на то, что Кох имел представление об опытах, которые делали ученые в разных странах, о теории Пастера, о карболовых повязках Листера или об открытии венского акушера Игнация Земмельвейса, доказавшего, что родильная горячка, сгубившая огромное количество матерей, происходит от заразного начала, переносится самими врачами от больной женщины к здоровой и может быть побеждена чистотой и антисептическими средствами.
Кох продирался сквозь дебри медицинских тайн собственными силами. И тем, чего достиг, он обязан единственно своему упорству, аккуратности и высокому представлению о призвании врача.
Та любовь, которую он внушил своим пациентам, та надежда, которую возбуждал у больных и их близких, тот авторитет, каким он пользовался у вольштейнцев, не приносили ему никакой радости. Напротив, именно все эти проявления доверия и уважения к нему как врачу угнетали его, заставляли мучиться и страдать, потому что он отлично знал: ничем он не может помочь больным людям, нет у него для этого ни средств, ни знаний!
И, мучаясь от собственного бессилия, Кох решил раз и навсегда покончить с этим очковтирательством, которое называли «медицинской помощью».
Улавливая каждую свободную минутку, как только пациент выходил за дверь, Кох садился в свой уголок и, до слез напрягая глаза, смотрел в новый, но далеко не последней модели дешевенький микроскоп. За микроскопом его можно было застать во все часы дня и ночи. Он смотрел, смотрел, пока туман не застилал от него объектив…
Его одиночество не было просто одиночеством провинциального ученого – это было полнейшее человеческое одиночество, без друзей, без моральной поддержки и – чего таить! – без подлинной привязанности. Только дочь Гертруда была его утешением в эти годы подвижничества, только ей одной он, отлично понимая, что девчушка еще ни в чем не смыслит, мог говорить о своих наблюдениях.
Жена не была ему другом. Он был благодарен ей за подарок – что бы он делал, если бы не микроскоп?! – но его раздражали ее ограниченность, ее мещанские устремления, ее недовольство тем, что он променял пациентов на свои «никому не нужные развлечения». В этом ему не повезло, хотя он и не винил ни в чем Эмми – по-своему она была преданной женой. Она никогда не забывала приготовить ему самое его любимое блюдо, постоянно напоминала, что пора уже есть или спать, что его ждет очередной больной. Но как раз это-то и раздражало Коха. Она отрывала его от занятий, которые все больше и больше захватывали его, вот-вот обещая ему награду за колоссальный, напряженный труд. Он понимал, что несправедлив к ней, что не может требовать от нее такого же увлечения его работой; откуда у нее, никогда не воспитывавшейся в атмосфере труда и уважения к нему, ничего не знавшей о науке, кроме того, что он сам когда-то «преподал» ей, – откуда у нее могут появиться такие же, как у него, одержимость, понимание необходимости того, что он делает?!
Когда он пытался ей объяснить, что отнюдь не развлекается, а хочет найти научные основы для своего врачевания, она отвечала: не проще ли потратиться на поездку в Берлин и поучиться там у известных профессоров. Когда же он говорил, что и они стали знаменитыми только благодаря своему большому опыту и практике, а отнюдь не потому, что им известны какие-то научные тайны, неведомые ему, она только пожимала плечами, должно быть осуждая его в душе за излишнюю самоуверенность.
Всякий раз после таких попыток – пусть не приобщить жену к своему каторжному труду, пусть хотя бы добиться терпимого к нему отношения, – после каждой такой попытки Кох, с трудом сдерживая готовое прорваться раздражение, убегал к себе за занавеску и погружался в микроскопирование. Какое-то время до него долетали еще звуки приглушенных рыданий Эмми и сжимали ему сердце; потом он уже ничего не слышал, отрешаясь от всего, кроме тех удивительных и заманчивых картин, которые наблюдал в микроскоп.
Сперва он смотрел на все, что попадалось под руку. Чтобы найти сущность заболеваний, он брал кровь из порезанного пальца ребенка, мочу, которую ему приносили «на просмотр», плевки из плевательницы для чахоточных. Он клал под микроскоп стеклышко с мазками и наблюдал быструю и хлопотливую жизнь, которая ему открывалась.
Где-то здесь – в этом он не сомневался – таилась разгадка всех тайн, причина человеческих страданий, конец беспомощности врачей. Где-то тут… Но где?.. В чем?..
Так длились недели, месяцы, годы… Он научился бросать нужное количество света на линзу маленьким рефлектором, он понял, как важно хорошо протирать предметные стеклышки, чтобы на них не оставалось ни одной пылинки. У него не было газа, и он довольствовался керосиновой лампой. Он даже не задумывался над тем, что своими поисками микробов – возбудителей болезней он копает яму для своего кумира – Рудольфа Вирхова. Ему не приходит в голову, что ученый, кто бы он ни был, способен оспаривать очевидность только потому, что она идет вразрез с его убеждениями.
Но до очевидности еще далеко. Пока все поиски не приводят ни к чему. Коха это тревожит, хотя терпения у него сколько угодно. Он понимает, что нужна какая-то определенная система в исследованиях, в противном случае можно всю жизнь просидеть над микроскопом, занимаясь усовершенствованием техники микроскопирования, и так ничего и не добиться.
И тут ему повезло, если можно назвать «везением» бедствие, обрушившееся на других. «Случайно» под объектив его микроскопа попала капля крови погибшей от сибирской язвы овцы.
По роду своей деятельности Кох обязан был находиться в курсе всех инфекционных заболеваний округа, как тех, которые поражают людей, так и тех, которыми болеют животные. Он обязан был следить за чистотой улиц всего уезда Бомста, в который входил Вольштейн, центра и окраин, за правильным содержанием мясных, боен и лавок, за тем, чтобы к покупателям не попадал залежалый товар. Когда в Бомсте разразилась эпизоотия сибирской язвы, первым, кого поставили в известность, был Кох.
По странному стечению обстоятельств как раз в то время, когда Кох впервые взял из трупа павшей от «сибирки» овцы немного крови, положил одну ее капельку между двумя тоненькими, хорошо протертыми стеклышками и сунул эти стеклышки под микроскоп, Пастер в Париже собирался засучив рукава взяться за доказательство того, что сибирская язва вызывается особыми микробами.
Никто не знает, когда впервые появилась на земле сибирская язва. Существует легенда, которая относит ее к древним временам Моисея. Эта болезнь распространена почти по всему земному шару. Она не признает географических границ, хотя чаще всего ограничивает свое распространение каким-нибудь определенным районом; она появляется молниеносно и столь же неожиданно исчезает; она может из года в год губить скот в одной какой-нибудь деревне – в России, в Италии, Испании, Венгрии, Франции, Египте и многих других местах, – совершенно не задевая соседнюю деревушку, в которой, казалось бы, и скот, и почва на пастбищах, и система содержания скота совершенно одинаковы. Она, эта болезнь, поистине загадочна. Она налетает, словно сваливается с неба, поражает овец, лошадей, коров, через них заражает и людей, и от нее нет никакого спасения. Кончается она сама по себе. И невозможно уловить, в чем же причина ее исчезновения. Для скотоводов «сибирка» такое же бедствие, как нашествие саранчи для хлеборобов. Людям она несет разорение и часто смерть в страшных мучениях.
…Вернувшись из деревни, где он удостоверил смерть от сибирской язвы овцы – первой жертвы эпизоотии, – Кох сел за микроскоп. Когда он на мгновение оторвал глаза от объектива и осторожно повернул микрометрический винт, он вдруг увидел, что у него дрожат руки.
– Эмми, скажи, что сегодня приема не будет, – крикнул он жене, – и не беспокой меня ни по какому поводу!..
Приема не было ни сегодня, ни завтра, ни на третий день. Больные, которых прямо со двора фрау Кох поворачивала к воротам – приемной у Коха не было – и давала им адрес ближайшего врача, недоумевали. «Должно быть, наш доктор сильно заболел, – думали они, – никогда еще он не отказывался принимать нас…»
Они определили правильно: доктор Кох действительно «заболел» болезнью, которая может обрушиться на каждого подлинного ученого и от которой он выздоравливает, только доведя до конца свои исследования.
Под объективом микроскопа между тем открылось невиданное зрелище: множество палочек, то коротких, то длинных, какие-то клубочки, похожие на комки свалявшейся ваты, заполняли свободное от кровяных шариков место. И тончайшие ниточки клубков и короткие и длинные палочки были неподвижны.
«Что бы это значило? – думал Кох. – Если это микробы, то почему они мертвы? Я не вижу никакого движения среди них. Если это не микробы, то что же это? Никогда, ни в одном препарате я не видел еще ничего подобного…»
Продолжая наблюдать и не видя никаких изменений, Кох решил, что, должно быть, это просто распавшаяся кровь больного животного, превратившаяся в нити и палочки как раз в результате болезни.
«Это надо проверить», – сказал он самому себе и, аккуратно прикрыв тряпочкой микроскоп, вышел из дому.
Он пошел на бойню и выпросил там немного крови только что убитых на мясо животных. Всего он собрал по нескольку капель от пятидесяти коров, овец и баранов. Вернувшись в свою «лабораторию», он вытащил из микроскопа те первые стеклышки и на их место положил другие, между которыми была растерта капля крови от здоровой овцы.
Кровь как кровь – никаких посторонних подозрительных предметов. Кох проверил так все пятьдесят образцов – они не отличались друг от друга. Тогда он сделал вывод: у здоровых животных в крови не бывает подобных палочек и клубочков, это свойство только крови, пораженной сибирской язвой. «Но значит ли это, что мои палочки являются возбудителями болезни, или они следствие ее? Как бы это узнать?»
«Прежде всего я должен убедиться в том, что они живые, – рассуждал Кох, – или что они мертвые. От этого зависит все дальнейшее».
Внутренне он был уверен, что они живые, что они и есть те микробы, которым кое-кто «осмеливается» приписывать свойство заражать несчастных коров и овец «сибиркой»; но менее всего Кох был склонен в вопросах науки прислушиваться к своему внутреннему убеждению. Напротив, он считал, что чем сильнее эта предвзятость, тем тщательней он обязан ее опровергать.
Он решил попытаться развести палочки на искусственной среде. Он знал, что сибирская язва почему-то предпочитает «селиться» в местах с более влажной, болотистой почвой, где она чаще всего поражает скот. Значит надо создать какие-то подходящие, сходные с природными условия, что заставит эти палочки показать себя во всей своей зловредной красе.
Он вышел в столовую. Эмми страшно обрадовалась, когда услышала его шаги, – наконец-то Роберт вспомнил о еде! – и не менее сильно испугалась, когда увидела его отсутствующий взгляд и осунувшееся лицо. Она не успела сказать ни слова. Она только изумленными и испуганными глазами следила за тем, что он будет делать. А он подошел к буфету, взял оттуда несколько глубоких и мелких тарелок и, пробормотав что-то виноватым голосом, снова исчез за своей занавеской.
Зачем ему понадобились тарелки? Просто у него не было никакой лабораторной посуды. Он использовал для опыта столовые тарелки, насыпал в них мокрый песок и создал нечто похожее на прибор для разводки бактерий.
Даже у Пастера – а ему немало пришлось помучиться на чердаке парижской Эколь Нормаль, где помещалась его первая лаборатория, – даже у него не было такой предельной бедности, как у Коха. Оборудование первой лаборатории Пастера могло бы сойти за образец академического оборудования по сравнению с теми средствами (точнее, с полным отсутствием их), какие были в распоряжении Коха, когда он делал первые шаги к своему замечательному открытию.
Потом он отставил на время тарелки, поняв, что не с этого нужно начинать. Начинать он решил с перевивки зараженной крови от одного животного к другому.
Вот тогда и появилась впервые Юлька у хозяина близлежащей таверны. Кокетливо посмеиваясь и передергивая от смущения плечиками, она передала бармену предложение доктора Коха: взять на себя за определенную мзду поставку ему, Коху, всех мышей, которые будут застревать в многочисленных мышеловках, стоящих в погребе, кладовой и прочих местах, где хозяин таверны хранит свои продукты.





