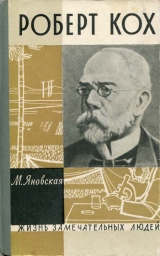
Текст книги "Роберт Кох"
Автор книги: Миньона Яновская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
«НИКОГДА НЕ БЫТЬ ПРАЗДНЫМ»
«Роберт на третий день рождества уже уехал обратно в университет. При своих горячих занятиях он не знает никакого покоя».
Из письма Матильды Кох

23 апреля 1862 года Кох поступил в Геттингенский университет на естественный факультет. Второго мая он писал матери: «Жара здесь, как в августе; в полдень трудно выйти из дому из-за жары. Но не одна эта жара меня здесь угнетает: к этому я бы скоро привык. Еще хуже скверная вода и постель, в которой исчезаешь под множеством одеял, а главное – пища. Моя еда так дешева, как это только можно сделать. Утром я пью молоко с куском хлеба, в обед – так называемая «закуска», и притом три четверти порции самого низкого качества, вечером – кусок хлеба с салом. О завтраке я не могу и думать, ибо даже хлеба не хватает. И все-таки, несмотря на то, что я экономлю, где только возможно, деньги исчезают. Плата за лекции, за учебники поглощает много денег…» Почти все письмо заполнено цифрами, сколько стоит каждый учебник, сколько он заплатил за лекции, во сколько талеров обходится ему «закуска». Роберт перечисляет все свои траты, чтобы строгий отец не рассердился на него, а более чем экономная мать не сочла его расточительным.
Быть может, бедность родителей Коха и непомерная дороговизна университетской жизни сыграли на этот раз положительную роль. Когда Роберт заикнулся о том, что хотел бы перейти с естественного на медицинский факультет, родители неожиданно согласились: медицинский был куда более «хлебным», став доктором, Роберт сможет зарабатывать гораздо больше, чем обыкновенный школьный учитель.
Этот знаменательный в его жизни переход с одного факультета на другой произошел через два года студенчества. Два этих года не пропали для него даром.
Вряд ли он слышал в университете о знаменитом споре Пастера с тремя французскими биологами на тему, возможно ли самопроизвольное зарождение, и о блестящей победе его в этом споре, где он доказал, что ничто не рождается из ничего и каждая, даже не видимая глазом, частичка жизни имеет подобных себе родителей; вряд ли он знал и о нашумевшей на весь Париж лекции Пастера в Сорбонне о невидимых мельчайших врагах человека – микробах, которые носятся в воздухе и вместе с пылью проникают во все уголки вселенной, в легкие человека, в его пищу. Не знал он также и об экспериментах французского врача Виллемена, впервые сумевшего заразить лабораторных животных туберкулезом, перевитым от пораженного чахоткой органа человека, и этими опытами положившего начало экспериментальному изучению туберкулеза. Не читал он небольшой брошюры, вышедшей в 1840 году, в которой говорилось, что заразные начала представляют собой мельчайшие живые существа, попадающие в тело человека и развивающиеся в нем после определенного скрытого периода. Неважно, что никто еще не мог обнаружить эти существа, писал автор, это легко объясняется несовершенством современных микроскопов.
Между тем автор брошюры – немецкий анатом Генле – был учителем Коха по университету. Но он и не пытался познакомить студентов со своей теорией: теория эта разбилась в прах перед авторитетом всемирно известного химика Либиха, потому что шла вразрез с его собственным учением. Генле больше не возвращался к ней и посвятил всю свою остальную жизнь исключительно анатомии. И хотя в те годы, когда Роберт Кох учился в Геттингене, то тут, то там начали уже появляться серьезные исследования в области микроскопических возбудителей заразных болезней, хотя Пастер своими опытами по брожению наголову разбил химическую теорию Либиха – анатом Генле навсегда перестал интересоваться микробами.
Роберт Кох не был посвящен ни в эти научные споры, ни в научные открытия, которые росли в то время как грибы, возникая в разных странах, в разных концах земного шара. А жаль! Как бы эти знания пригодились ему потом, через несколько лет, когда он совершенно самостоятельно, в полном одиночестве, в жалкой лачуге, названной им лабораторией, с невероятным трудом и терпением пришел к тем же самым выводам, которые предположительно высказал за тридцать пять лет до этого его учитель Генле!
Годы, проведенные на естественном факультете, не прошли для Коха без следа: он глубже вник в естественные науки, приучился к точности в методике исследований – в дальнейшей его жизни эта предельная точность, быть может, сыграла решающую роль.
Но Роберту все это казалось мертвым и официальным. Сухой материал, излагавшийся профессорами на лекциях, не мог заменить ему живого общения с природой. Зоология, ботаника представлялись ему всего лишь застывшими формулами. Он чувствовал, что во всех этих науках в том виде, в каком они преподносились на факультете, отсутствует живая действительность.
А он-то мечтал о кораблях, которые унесут его в Новый Свет!
Роберт жил замкнуто и одиноко. Он много и добросовестно занимался, но увлечение, с каким он привык постигать тайны природы, не приходило. В тоске бродил он по университетским аудиториям, машинально вслушиваясь в гул, доносившийся оттуда.
Но вот он остановился. За массивной дверью – тишина. Непривычная и непонятная. Странно, что в эти часы занятий нашлась хоть одна пустая аудитория. Можно войти в нее и помечтать без помех.
Он приоткрыл дверь, заглянул в щелку – и замер: аудитория полна студентов, у кафедры стоит красивый старый профессор и тихим, проникновенным голосом что-то говорит. На длинном столе возле лектора расставлены заманчивые и непонятные предметы.
Минуту Роберт колебался, потом решительно вошел. С этого дня он не пропускал ни одной лекции по физиологии, предпочитая аудиторию медицинского факультета, где сто студентов не дыша слушали тихий голос профессора Георга Мейснера, занятиям на своем, естественном.
Кончилось тем, что он записался на все медицинские предметы, о чем и сообщил своим дорогим родителям.
Так случилось, что Кох стал студентом-медиком. Наконец-то он нашел свое призвание! Наконец-то университетские стены перестали давить его, а лекции и занятия начали доставлять истинное удовольствие!
Он не стал от этого общительней: друзей у него по-прежнему не было. Но он забыл, что такое скука, перестал замечать течение времени, не думал о том, что хорошо бы поскорее закончить учение и стать, наконец, самостоятельным человеком. Напротив, ему казалось, что он способен хоть пять, хоть десять лет учиться медицине, и никогда ему это занятие не надоест.
Любимый труд всегда приносит плоды. Очень уравновешенный даже в своих увлечениях, Роберт Кох, однако, на сей раз увлекся с несвойственной ему горячностью. Он не довольствовался обязательными заданиями: у профессора Генле он выпросил дополнительную тему для научной работы и сам не заметил, как быстро и хорошо справился с ней.
Но профессор Генле отлично понял, с кем имеет дело. Точность, с которой была проделана эта нелегкая анатомическая работа из области гинекологии, ясность методов исследования, лаконичность изложения – все это сразу подняло новичка медика в глазах профессора на голову выше всех остальных студентов.
Сверху, под заголовком сочинения, старательным почерком было выведено: «Любимому отцу в знак уважения и благодарности». И над всем этим красовался девиз.
4 июня 1865 года, через год после того, как Роберт сменил естественный факультет на медицинский, в большой аудитории университета Георга-Августа в Геттингене собралось несколько сот человек. Были тут и студенты, и вольнослушатели, и профессора, и просто преподаватели. Собрались они на традиционное собрание: здесь должна была вручаться ежегодная премия лучшему, достойнейшему студенту за научный труд.
Декан факультета после небольшой вступительной речи объявляет:
– Лучшей работой этого года признана та, что подана под девизом «Никогда не быть праздным». Римский поэт прав: в имени – предзнаменование. Пусть тот, кто никогда не бывает праздным, представится.
Легкое движение в зале, оборачиваются головы, глаза высматривают счастливца. Счастливец, до слез смущенный и взволнованный, поднимается с дальней скамьи. Это юноша среднего роста, широкоплечий, худощавый. Ничем не примечательное лицо, овальные очки. Вот он зачем-то снимает очки и, близоруко щурясь, смотрит вперед, на декана. Глаза его без очков кажутся строгими и холодными. Темный поношенный сюртук и поблескивающие на коленках штаны лучше всякой анкеты говорят о его социальной принадлежности.
Одни разочарованно пожимают плечами, другие с нескрываемым удивлением разглядывают этого не замечаемого ими прежде студента. В аудитории поднимается гул, потом все аплодируют.
Роберт Кох проходит через зал и осторожно, как драгоценность, принимает сначала руку декана, а потом руку своего профессора. Он не слышит, что они говорят ему, не видит протянутого голубого конверта.
– Возьмите же это вещественное доказательство нашего признания, – смеется декан и сует в руки Коха конверт.
Дома Роберт, к великой своей радости, обнаруживает в конверте восемьдесят талеров! При его нищете это огромные деньги…
Гордость заполняет его: первые деньги, заработанные научным трудом! Что-то скажет отец – не секрет, что он не очень-то верил в способности Роберта легко и быстро овладеть медицинской профессией, хотя в его последний приезд домой на каникулы отец мог бы кое в чем убедиться. Эмми потом показала ему письмо матери. Фрау Матильда с гордостью писала: «Роберт успешно лечил ногу Марии и лапу у собаки Аякса… А как он залечил рану у Ганзеля, которого искусал злой пони!..» Между тем он тогда еще даже не учился на медицинском – все свои знания он приобрел у профессоров-медиков, когда посещал их лекции в свободное от основных занятий время.
«11 июня 1865 года, – пишет он отцу. – …Хотя в мой последний приезд ты был не слишком высокого мнения о моих медицинских познаниях… все же иногда случается, что и слепой голубь находит зерно. Так случилось теперь со мной. При нынешнем распределении премий мне была за мою работу присуждена первая премия…»
Любой другой студент, несомненно, истратил бы значительную часть денег на небольшую товарищескую попойку, но Роберт не общается со студентами, пьянство претит ему; он даже не входит ни в одно из многочисленных студенческих обществ. Он привык быть один и в нужде и в радости; сейчас он отметит счастливый день тоже в полном одиночестве.
Впрочем, не совсем – одиночество будет разделено с камерой-обскурой, той самой, которую когда-то подарил ему дядя Эдуард. Он вынимает ее из шкафа, бережно стирает пыль, подходит к узенькому чердачному окну своей комнаты и смотрит на улицу – он даже не заметил, какая сегодня погода. Ничего, кроме башен и крыш домов, не видно. Весело махнув рукой, он берет аппарат и уезжает с ним за город. Позже он пошлет домой фотографии, которые сделал в этот день, – пусть в семье останется память о дне его первой награды.
А через несколько недель – еще одно из ряда вон выходящее событие: Роберта Коха, студента шестого семестра, назначают ассистентом профессора Краузе – директора Патологического института.
В «Известиях Геттингенского университета», где обычно публикуются подобные назначения, против фамилии Коха стоят: «Получивший первую премию за конкурсное сочинение».
Этот необычный случай – студента зачисляют на почетную должность ассистента! – не прибавил Коху доброжелателей. Студенты из тех, кто побогаче, и без того считавшие себя обойденными при распределении премий, бранили «этого бедняка, который позабыл уже запах горячей пищи», донимали его насмешками, издевались над его бедностью, которую называли скупостью, придирались к старому, хотя и опрятному костюму, посылали вдогонку злые словечки, когда Роберт в редкий свободный день уходил со своим стареньким фотоаппаратом подальше от университета, куда-нибудь в тенистый парк к далекой речке.
Роберт не обращал внимания на эти завистливые и злые выпады. Он только пожимал плечами, строго оглядывал обидчика из-под старых, немодных очков и шел своим путем.
Зато работа ассистента принесла ему большую радость. И не только потому, что почетное назначение было доказательством того, что его отличили от других студентов, но главным образом потому, что он получил возможность по-настоящему заняться патологической анатомией, к которой с самого начала учения на медицинском факультете начал испытывать особое пристрастие.
Он подолгу не выходит из клиники, наблюдая течение болезней, изучает патологические изменения, которые они вызывают в органах больного. Он пишет свою вторую научную работу; возможно, она станет его докторской диссертацией.
Удивительно все-таки, как рано и быстро поднялся он до подлинного понимания науки, как легко приобщился к тяжелому труду исследователя! Работу, которую он взял на себя после получения премии, уже куда более уверенный в своих силах, он проводил параллельно с Георгом Мейснером. Только профессор экспериментировал на собаках, у Коха же «подопытным животным» был он сам. Речь шла об образовании янтарной кислоты в организме.
Это было не самое приятное время в его жизни: уйму денег приходилось тратить на спаржу – в эти дни он съел ее так много, что потом уже всю жизнь не мог видеть; изрядную дыру в его бюджете пробивало масло – ежедневно он должен был съедать по полфунта; яблочная кислота, которую следовало принимать внутрь, тоже не вызывала приятных эмоций. Он героически выдержал всю эту чудовищную диету – кроме кусочка хлеба, он больше ничего не мог добавлять к своему рациону – и полуголодное существование, которое наступило вслед за «спаржевой оргией» Работа была благополучно завершена, привела к тем результатам, которые ожидали от нее, и профессор Мейснер, человек скупой на похвалы, выразил Коху свое полное удовлетворение.
Исследование содержания янтарной кислоты в организме человека – второй опубликованный научный труд молодого Коха. Он, правда, не представлялся в качестве диссертации при получении докторской степени: ученую степень Коху присвоили за ту работу, которая год назад была удостоена первой премии университета. Разумеется, он еще должен был сдать докторский экзамен, что он и сделал 13 января 1866 года. Через три дня в актовом зале ему был вручен диплом с отличием.
Событие это было отмечено волнующей поездкой в Гамбург, к любимому дядюшке. Хотя трудно, конечно, поверить, что именно встреча с ним вызвала столько волнений в душе новоиспеченного доктора медицины. И, конечно же, не в дядюшке и не в поездке было дело: в Гамбурге у своей родственницы гостила Эмми Фраатц. Свидание с ней, на котором Роберт намерен был поставить все точки над «и», должно было стать вторым радостным событием этого года.
Свидание состоялось на шумной гамбургской набережной. Все вопросы были заданы, и все ответы получены. Но почему же Роберт испытал такое разочарование – смутное, едва уловимое ощущение, что произошло что-то не то?..
Ему суждено было вспомнить это ощущение через несколько лет. И суждено было пожалеть, что он тогда не прислушался к нему…
Эмми не жеманилась, когда он предложил ей стать его женой. Вопрос этот казался молчаливо решенным, и было бы странно, если б их многолетняя дружба не закончилась в конце концов браком. Об этом браке давно уже, не таясь, говорили в семье Кохов, с ним смирились в семье генерала-суперинтенданта. Хотя – и это тоже не считали нужным скрывать от Эмми – сам генерал полагал, что его дочь заслуживала более выгодной партии. Правда, генеральша утверждала, что Роберт серьезный и трудолюбивый человек и что профессия врача непременно принесет ему богатство. Так что их дорогая Эмми в скором времени сможет жить со своим мужем как это достойно дочери Фраатцев.
Неизвестно, что из этих разговоров больше всего пришлось по душе Эмми, на что она обратила особое внимание. Многократно повторяемые слова не могли не запомниться ей, и, быть может, она тоже вслед за отцом полагала, что, соглашаясь стать женой Роберта, оказывает ему, неимущему врачу, пока еще без практики, особую милость.
Роберт между тем раскрывал перед невестой свою душу, как не раз делал это в годы их детства.
– Мы исколесим с тобой, дорогая, весь мир. Какие чудесные места повидаем, какие интересные коллекции соберем! Я стану корабельным врачом, а ты – моей женой. Женой, другом, помощницей… – увлекаясь, рассказывал он все, что передумал за годы учебы в университете. – Я изучу неизвестные еще болезни и буду лечить людей не теми дурацкими микстурами, которые теперь вынуждены прописывать врачи, а настоящими лекарствами, способными излечить болезнь. Мы поселимся в небольшом городке. Я постараюсь завоевать себе там авторитет у жителей. И в те периоды, когда мы будем отдыхать от путешествий, v меня будет неплохая практика… Ты имеешь что-нибудь против моих планов, Эмми? – внезапно осекся Роберт, инстинктивно чувствуя, что его горячие речи не находят отклика.
– Я просто не понимаю, от чего ты приходишь в восторг, Роберт? Я всегда мечтала о красивом доме, о милых детях, конечно, и о добром муже. Зачем мне ездить на корабле – я же не матрос, правда? Вообще женщина должна жить на суше, на земле, готовить мужу вкусный обед, провожать его по утрам на работу, воспитывать детей, понемногу копить деньги… Ведь ты не можешь сразу положить в банк большую сумму, чтобы обеспечить семью? Этим я еще могу пренебречь. Но зачем мне пренебрегать назначением и призванием женщины? Право, я тебя не понимаю…
Роберт и не заметил, что теперь они уже не идут по набережной – он остановился как вкопанный, все еще не выпуская руки Эмми из своих горячих пальцев. Он смотрел на нее, оглушенный этими трезвыми суждениями, и не понимал, как же это случилось, что он, оказывается, вовсе не знает Эмми, что для него неясен и непонятен ее душевный мир, что она совсем не близка ему и совсем не хочет его понимать. Столько лет он без оснований считал, что может встретить у Эмми полное понимание!..
А были ли у него основания? – тут же усомнился он. Эмми, правда, всегда молча выслушивала его рассказы о тех наблюдениях, которые он по наивности называл «исследованиями», охотно бродила с ним по горам, иногда даже соглашалась посмотреть на его коллекции. Но что, собственно, из этого следовало? И прав ли он теперь, рассказывая ей все свои мысли и мечты, все намерения и планы взрослого мужчины? Быть может, ей это не под силу – понять его? А возможно, они совершенно разные люди, никогда друг друга не понимали, никогда не пытались заглянуть в душу друг к другу? И тогда – тогда следует ли им начинать жизнь вместе?.. Сможет ли он долго выдержать?..
Он сам мысленно оборвал себя: о чем он думает, в чем сомневается?! Да разве он может представить на месте Эмми другую женщину – свою жену?! Он ни на одну никогда и не смотрел! Нет, разумеется, не прав он, а она права: невозможно семейному человеку блуждать по морям-океанам, невозможно женщине сопровождать его в этих блужданиях. Разумеется, она права! Но – ох! – до чего же тяжко у него сейчас на душе!..
А Эмми смотрела на него большими невинными глазами холодно и спокойно, не сомневаясь в том, что сумеет добиться своего.
Они снова пошли, медленно и не так уверенно, как за несколько минут до этого. Роберт оглядывался по сторонам, не понимая, что хорошего в этом пыльном, полном людей городе. Эмми недоуменно ждала, когда же ему надоест ходить и он проводит ее домой. Ведь все уже решено и обговорено, можно идти отдыхать.
Он все-таки успел перед расставанием сказать ей:
– Сейчас я намерен поехать в Берлин. Я хочу послушать лекции у великого Вирхова, это автор… впрочем, не имеет значения. Просто мне надо немного усовершенствоваться. А через год, когда я найду подходящую работу, мы поженимся…
На том и расстались. Роберт – мрачный, смятенный; Эмми – спокойная и удовлетворенная. В тот же вечер она написала письмо фрау Матильде Кох, в котором сообщила, что раз и навсегда отбила у Роберта охоту к приключениям, что он теперь никогда не покинет Германию, – милая мама может быть совершенно спокойна, Эмми ручается ей в этом всем их будущим.
Мама Кох прослезилась, прочитав о предстоящей женитьбе сына, радостно улыбнулась, узнав, что Эмми сумела-таки настоять на своем и подрезала крылья ее дорогому мечтателю. Потом она прочитала письмо отцу, и они вместе начали строить планы будущего благополучия молодого преуспевающего доктора Роберта Коха.
А доктор Кох тем временем приютился в маленькой уютной квартирке на Францезишештрассе, 53. И напрасно Эмми и родители столь уверенно торжествовали свою победу над упрямой душой Роберта: он вовсе не отказался еще от намерения уехать из Германии. Одним из первых его посещений в Берлине было русское посольство: он подал прошение о назначении его в Петербург военным врачом.
Дни Коха были невероятно насыщены: он выходил из дому на заре и возвращался поздним вечером, когда Берлин погружался в сон. Столица произвела на него потрясающее впечатление. В восторге он бегает по галереям, музеям, театрам, лихорадочно листает в библиотеках книги, едва успевая прочесть те, что отбирает; он подолгу стоит у витрин книжных лавок, с тоской думая, что не может купить тут ни одной книжки. На еду у него остается мало времени, еще меньше – денег: жизнь в Берлине куда дороже, чем в Геттингене.
И все-таки ему тут нравится. Нравится ощущение внезапной свободы, нравится столичная сутолока, нравится даже беготня по разным приемным: он хлопочет о месте судового врача. Русский посол уже отказал ему, но это его не очень огорчает: кажется, удастся все-таки уехать в дальнее путешествие. Он уже завязал в Берлине кое-какие связи и получил кое-какие – правда, весьма туманные – обещания.
Пожалуй, хуже всего обстоят дела с усовершенствованием медицинских знаний. Каждое утро с трепетом душевным приближается Кох к Луизенштрассе, где вот уже полтора века находится знаменитая «Шарите» – целый больничный городок, битком набитый страждущим, в подавляющем большинстве бедным людом.
1710 год был страшным годом для Берлина, как, впрочем, и для всей Европы: черная смерть, чума, надвигалась на город. В качестве чрезвычайной меры правительство срочно выстроило громадный бревенчатый барак для больных. Через сто лет барак этот уже превратился в знаменитую королевскую больницу, рассчитанную на тысячу восемьсот коек.
Это была клиническая база не только для Берлинского университета, но и для военного медико-хирургического Института Фридриха-Вильгельма. Бедняки, лечившиеся здесь, не имели права отказываться от разного рода исследований, от обучения на них студентов. Преподавали тут профессора университета и института, ординаторами работали молодые военные врачи, прикомандированные после окончания учебы Институтом Фридриха-Вильгельма.
В начале сороковых годов сюда поступил Рудольф Вирхов, только что окончивший медико-хирургический институт. Он стал ассистентом при патологоанатомическом отделении «Шарите»; здесь ему пришлось заняться исследованием трупов, раскрывающим сущность данного болезненного процесса, проверять правильность поставленного при жизни больного диагноза, способа лечения и т. д.
Это было как раз то, о чем мечтал молодой медик. Талант его развернулся быстро и ослепительно: полтора года спустя он произнес публичную речь на торжественном заседании в честь пятидесятилетнего юбилея Института Фридриха-Вильгельма на тему «О необходимости и правильности медицины, обоснованной механической точкой зрения».
Речь, в которой молодой ученый начисто разгромил господствовавшие в то время умозрительные настроения, сделал блестящую попытку объяснить болезненные явления механическим, то есть естественно-историческим, путем, безжалостно опрокинул все признанные авторитеты и кумиры, произвела на «старейшин» медицины впечатление взрыва. Взгляды Вирхова были настолько новы, что поставили вверх ногами все до тех пор известное. Старые военные врачи громко возмущались: механические объяснения жизни и болезней они называли «расшатыванием государственных устоев», «антипатриотической вылазкой». А еще через год Вирхов раскритиковал учение знаменитого австрийского патолога Карла Рокитанского, объяснявшего развитие болезней «порчей соков» в организме человека. Вирхов утверждал, что сущность болезненного процесса заключается в патологическом изменении клеток, из которых «построены» человек и животные, и – что самое главное – доказывал свои мысли не умозрительно, а на основании точных научных данных: исследованием органов и тканей под микроскопом, лабораторными анализами, результатами множества вскрытий трупов людей, умерших от различных болезней.
Два этих выступления были зародышем будущей теории «клеточной патологии», зачатой здесь, в «Шарите», и окончательно сформировавшейся в 1855 году.
К этому времени Вирхов вот уже десять лет возглавлял первый в Германии, специально для него созданный Патологический институт.
Вот почему Роберт Кох, со студенческих времен преклонявшийся перед теорией Вирхова и перед самим ученым, с таким волнением подходил к королевской больнице. Пройти курс практики у самого Вирхова – о большем не мог мечтать ни один молодой немецкий врач.
Но именно в «Шарите» и начались все его берлинские разочарования. Собственно, из-за них он так быстро покинул столицу, хотя ему нравился «характер здешней жизни», как он писал в письме к отцу, и он надеялся «на возможно дольший срок растянуть свое пребывание в Берлине».
Поначалу «городок болезней» просто ошеломил Коха. Приглядевшись, он мысленно переименовал «Шарите» в «городок страданий». Походив сюда несколько дней, понял, что попусту тратит время. После двух-трех попыток приблизиться к Вирхову бросил эти попытки и написал отцу, что вынужден уехать отсюда, потому что «ожидание пользы, которую я надеялся почерпнуть для моей работы, не оправдалось».
Четыре тысячи больных до отказа заполняли все многочисленные огромные палаты «Шарите». Один-два раза в неделю врачи производили обход. Но бывало, что они не успевали уделить внимание всем больным, и тогда десятки их неделями оставались без врачебного наблюдения. Беглые, короткие осмотры не могли принести существенной пользы ни больным, ни молодым врачам, служившим здесь, ни многочисленным практикантам-вольнослушателям.
В это утро Кох решил во что бы то ни стало прорваться к профессору, побеседовать с ним о некоторых неясных для него проблемах исследования клеток организма.
Было еще совсем темно, хотя служилый люд бежал уже по улицам Берлина. Едва только Кох вошел в коридор больницы, как сразу же попал в поток молодежи, окружившей невысокого худощавого профессора, строгий взгляд которого вот уже несколько дней Роберт пытался уловить. Пробраться в центр этой густой толпы не было никакой возможности, и Роберт, вздохнув, решил проследовать со всеми в палаты и там уже протиснуться вперед.
Так бывало неоднократно: толпа шла в палату, где на сегодняшний день был назначен осмотр какого-нибудь особенно интересного для практикантов больного; там, в палате, Вирхов молча осматривал его, бросая на ходу несколько не слишком понятных фраз, затем говорил что-то лечащему врачу – что именно, нельзя было расслышать – и следовал дальше. Вся многочисленная свита в полном молчании шла за ним, так и не узнав, чем болел пациент, какое дано ему назначение, чем особенно интересен этот случай.
Так было и на сей раз. Большая неуютная, плохо проветренная палата полна больных. Койки стоят почти вплотную друг к другу, протиснуться непосредственно к больному можно с трудом. Кох застрял где-то в дверях – дальше ему пройти не дали. Откуда-то издалека услышал негромкий голос профессора, не отличавшегося многословием, понял, что речь идет о чахотке, осложненной туберкулезом кожи лица; видеть больного он не мог – перед ним стояла плотная стена вольнослушателей. Постояв так с минуту, он решительно нажал плечом на соседа, такого же, как и он, близорукого и такого же, по-видимому, раздраженного, и пробормотал: «Позвольте мне пройти». На что юноша резонно ответил:
– Если бы это было возможно, я ни у кого не стал бы просить позволения…
– Однако вы могли бы немного повернуться, – настаивал Кох, все еще нажимая плечом.
– Только таким же агрессивным путем, как и вы, – ответил юноша, слегка отталкивая Коха.
Они перекинулись еще несколькими желчными фразами, после чего оба, не сговариваясь, надавили на спины стоящих впереди и – чудо! – продвинулись-таки на один шаг. Дальше Кох уже действовал сам: раздражительный сосед застрял где-то позади.
Когда Кох добрался, наконец, до постели больного, возле которого находился профессор, Вирхов уже повернул обратно, а за ним повернула и вся масса слушателей. Профессор Вирхов постоянно куда-то спешил, не задерживался ни на одну лишнюю минуту. И вообще создавалось впечатление, что все эти глядящие ему в глаза молодые люди только раздражают его.
Кох, взмокший от усилий, переведя дыхание, двинулся вместе с остальными, стараясь держаться поближе к профессору. На минуту ему даже удалось забежать вперед и заглянуть в спрятанные за седыми бровями глубокие умные глаза Вирхова. Но тот только скользнул по нему взглядом и пошел дальше.
Несколько раз за этот день Роберт Кох пытался приблизиться к профессору в надежде задать хотя бы один-два вопроса и услышать пусть самый торопливый и невразумительный ответ. Но все его усилия были тщетны! Вирхов вообще не терпел, когда ему задавали вопросы, считая, что его объяснения абсолютно исчерпывающи и никаких дополнительных разговоров не требуют.
Удрученный Кох отправился домой. Еще некоторое время он продолжал посещать «Шарите» и Патологический институт – считалось, что он проходил практический курс у Вирхова, – а потом, подсчитав жалкие остатки своих денег, испугался, что даром тратит время, вместо того чтобы хлопотать о месте, и через месяц после приезда в Берлин отбыл к родным в Клаустгаль.
Что же ему делать дальше? В Берлине все его надежды на получение места на судне или в любом городе за границей рухнули. Он уезжал отсюда ни с чем, не имея никаких перспектив, ни талера в кармане, никаких надежд в ближайшее время работать и, что немаловажно, зарабатывать деньги.
Между тем мысль о том, чтобы пойти практикующим врачом в какую-нибудь немецкую деревню, была для него невыносима. И прежде всего потому, что он ни в грош не ставил приобретенные в университете знания. Для лечащего врача они не могли пригодиться. Он отлично понимал, что любая лечебная работа его сейчас, когда он не в состоянии самостоятельно поставить даже несложный диагноз, была бы сплошным очковтирательством. Если в университете он получил изрядные познания в теоретических дисциплинах, то сведения, без которых не может существовать практикующий врач, были скудны и ограниченны. Впрочем, вероятно, во всей Германии мало кто из врачей мог похвастаться более глубокими познаниями в области лечения болезней. Обстоятельство это, даже если бы Кох и знал о нем, мало чем могло бы его утешить. Не станет же он у постели больного дифтеритом ребенка ссылаться на то, что даже сам король медицины Рудольф Вирхов не в силах вылечить этого ребенка.





