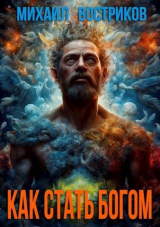
Текст книги "Как стать богом (СИ)"
Автор книги: Михаил Востриков
Жанры:
Эпическая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Ангел Смерти это» – и снова занялся своим фужером.
СЮЖЕТ 11/2
И я ему верю. Почти. Потому что не поверить было, знаете ли, довольно трудно, а поверить – совершенно невозможно… Я привел здесь этот эпизод, чтобы продемонстрировать: пользы от меня вам будет немного – ничего интересного вы о связях его от меня не узнаете, как ничего об этих связях не узнал я сам за десять лет беспорочной службы. Что касается его клиентов, то десятки и десятки их прошли передо мною, все они совершенно официально занесены в соответствующие файлы, и файлы эти могут быть представлены в любой момент – по соответствующему запросу, скажем, Налогового управления.
Десятки и десятки, главным образом, мам и бабушек со своими отпрысками… Попадаются среди них и папы с дедушками, но это вариант более редкий, почти экзотический. Жадные родительские глаза в жадном ожидании чуда сегодня, сейчас, желательно в середине сеанса… Испуганные детские, испуг в которых так быстро и трогательно заменяется испуганным интересом, а потом и обстоятельной деловитостью, и вот перед тобою сосредоточенно сопящий пацан, словно занятый каким-нибудь сногсшибательным, чудесно пахнущим, новым с иголочки дареным конструктором…
И вечный страдальческий вопль: ну почему же нельзя девочку?!! Он и сам не знает толком, почему он не может работать с девочками. С девочками, с девушками, с матронами… Он сказал как-то (не мне, но в моем присутствии), что видит людей как бы на просвет – прожилки, сложнейшая ячеистая структура, нити, шевелящееся цветное с богатыми оттенками сложно организованное месиво, но совсем не видит женщин: они для него все, как сплошные терракотовые, бирюзовые, графитовые, малахитовые сосуды – они непрозрачны, хотя и невероятно, почти божественно, красивы… Но: любоваться – да, работать с ними – нет. И это при том, что родители девочек особенно – невероятно, удивительно, неправдоподобно! – настырны…
СЮЖЕТ 11/3
Он скромен. Этого у него не отнимешь. Он невысокого о себе мнения – и на словах, и на деле. Величайшим и непростительным грехом своим он считает лень и категорическое неумение заниматься тем, что ему неинтересно. Когда я пристаю к нему в том смысле, что надо, мол, наконец и поработать, он отвечает мне из Екклезиаста:
«Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй…»
Но на самом деле, он так не думает. Просто налетающие приступы творческого ступора мучают его, словно какая-нибудь экзема – от которой не умирают, но и никогда не вылечиваются до конца. Я знаю, он не любит думать об этой своей экземе. Ему скучно и тошно об этом думать. Ему (как мне кажется) вообще – и уже довольно давно – скучно и тошно существовать. С тех пор, наверное, как он пережил свой двадцать второй приступ профессиональной импотенции и понял вдруг, что эти приступы теперь – навсегда… Это, по-моему, единственное, что страшит его и беспокоит по-настоящему. Он, наверное, и сам не помнит уже, когда это произошло впервые и окончательно. Наверное, это было как открытие в себе семени смерти: вдруг понимаешь впервые и окончательно, что ты смертен и ждать осталось не так уж и долго – ну, пятнадцать лет, ну, двадцать… А ведь только вчера ты полагал себя (а значит, и был) бессмертным!
СЮЖЕТ 11/4
Что такое двадцать лет жизни по сравнению с бессмертием? Что такое скупые дозы… разовые взрывы… счастливые пароксизмы вдохновения, сделавшиеся отвратительно редкими, в сравнении с тем ликующим сознанием мощи, которое сотрясало тебя еще совсем недавно, какой-нибудь десяток лет назад… Ощущение беспредельного всемогущества.
Ощущение Бога в груди – вот здесь, под самой ямочкой, под ключицами, где теперь – с некоторых пор – не бывает больше никаких ощущений, кроме, разумеется, тупой ишемической боли, если вздумаешь, как встарь, догнать уходящий автобус… Я вижу, как желчно завидует он людям, которые могут реализовать свой профессионализм в любой момент, когда им только этого захотелось. Художникам завидует. Музыкантам. Акробатам. Захотелось акробату сделать сальто назад – напружинил мышцы, присел, вскинул тело, перевернул себя в воздухе и снова стал на ноги – прочно и точно, как влитой. Или – ударил по клавишам и родил мелодию, которой только что не было и которая вдруг стала быть… Главное – в тот самый момент, как только тебе захотелось… пришло в голову… зачесалось… Несколько раз он при мне (по разным поводам) повторял:
«Я знаю, почему так много людей охотно занимаются колкой дров по крайней мере, сразу видишь результат своей работы…».
Это не его слова, это цитата, я только не помню, откуда. И он очень сочувствует сочинителям всех родов. Потому что сочинительство – это изобретение не существовавшего без тебя, до тебя и помимо тебя. Изобретение, повторяющееся вновь, и вновь, и вновь – в конечном счете открытие знания о человеке, который перед тобой – сидит и ничего не понимает, только глаза на тебя таращит, и в голову даже не берет, что все уже СЛУЧИЛОСЬ, что ты видишь перед собою уже не его, глазами лупающего, не оболочку его бренную, а суть, подноготную, душу. Сущее его и будущее, на многие годы вперед, аминь…
СЮЖЕТ 11/5
Я, как вы видите, постепенно приближаюсь к главному, к его работе, приближаюсь как бы по неуверенной шатающейся спирали, приближаюсь, новее никак не могу приблизиться, потому что не знаю, как поточнее о ней рассказать. Здесь нет никаких тайн! Сам он охотно и без какого-либо внешнего или внутреннего принуждения рассказывает о своей работе всякому, кто его об этом спросит.
Иногда мне кажется, что он и сам пытается разобраться в себе и в том, чем он занимается, – именно пытается, тужится, тщится – как правило, неуклюже, иногда – не без изящества, но всегда – безуспешно. Мне кажется замечательным и странным, что, охотно соглашаясь на интервью с газетчиками и журналистами, он словно нарочито и выборочно отказывает всем мало-мальски авторитетным изданиям.
«Московские новости» – решительное «нет».
«Известия» – нет.
«КоммерсантЪ» – нет, нет и нет.
«Московский комсомолец» – н-нет.
«Аргументы и факты» – пожалуй… а впрочем, нет, извините, нет…
Зато какой-нибудь «Логос и Космос» – с удовольствием!
«Голос Неведомого» – да-да, завтра в двенадцать.
«Черная аура» – пожалуйста!..
(Я понимаю, помимо всего прочего, его работа его же и кормит, реклама нужна ему, как хлеб насущный, хотя бы только для того, чтобы поддерживать определенный уровень жизни. Я не говорю уж о задачах высоких и целях неназываемых… Впрочем, если подумать, на кой ляд ему реклама, если мы имеем по пять-шесть заявок в неделю и разборчивы, словно до неприличия раздраженный Ниро Вульф? Но он обожает получать гонорары за свои интервью.
«Ха! – восклицает он, полный радостного удовлетворения, – Сто баксов! Не село, не пало! Ай да мы, ай да мы – работнички заработливые!»)
СЮЖЕТ 11/6
Вот, например, кусок из его интервью корреспонденту желтоватого журнальчика «Багровое утро магии»:
…Значит, это все-таки чудесный дар?
– Дар – да. В том смысле, что – от Бога. Не пито, не едено. Из немыслимого переплетения хромосом. Но почему вы говорите: «чудесный»? Инстинкт, побуждающий синицу в некий момент времени заинтересоваться прутиком, подобрать его, тащить куда-то на дерево, еще не зная, куда, а потом вдруг каким-то образом – каким? – понять: вот сюда, вот в эту развилку, только в нее и никуда больше… Это чудо?
– Но это… как бы… чисто инстинктивная деятельность…
– А ученый, среди ночи, в полусне-полубреду, вдруг понявший, что надо тензор энергии-импульса приравнять, черт его побери, к тензору масс, и тогда все встанет на свои места и Вселенная обретет новый смысл? Это не инстинкт? Только не говорите мне, что это разум! Я специально спрашивал у математиков, у физиков. Разум нужен, чтобы объяснить открытие, сделать его понятным для окружающих, а главное, для себя. Само же открытие к разуму никакого отношения не имеет. Оно возникает из пустоты, с белого потолка, из указательного пальца… А врач, который по выражению лица, по тоскливым глазам, по цвету кожи на ладонях ставит точный диагноз?
– Ну, это просто опыт… накопленная с годами информация…
– У компьютера информации может быть и поболе, но что толкует она, если нет программы? А какая программа работает в голове этого врача? Кто ее заложил туда? И откуда следует, что эта программа – в голове? А может быть, она в клетках всего тела сразу? А может быть, в душе?
– Да, но без информации любая программа бессильна…
– А кто вам сказал, что я обхожусь без информации?
Мальчишка сидит передо мной, я вижу его руки, пальцы, краску на щеках, шевелящиеся его уши… Я слышу его запах. Голос. Сами слова, которые он произносит, ответы его на мои вопросы, и как именно он на них отвечает… Да здесь столько информации, что любой компьютер спасует… А ведь я даже не знаю, что мне из этого нужно, а что нет! Программа решает без меня. Такая же программа, может быть, как в маленьком горячем тельце синички, только гораздо более хитроумная… А впрочем, откуда нам знать? Может быть, как раз наоборот гораздо более примитивная и совсем тупая.
– То есть вы просто задаете вопросы?
– Например. Например я просто задаю вопросы. И слушаю ответы. НАБЛЮДАЮ ответы. В этих ответах есть все, что мне нужно… Только вот вопросов становится все меньше и меньше, к сожалению. – И любой мальчишка… – Любой мальчишка. Строго говоря, любой человек вообще. Любой человек – это ходячая могила таланта.
– И вы раскапываете эту могилу?
– Грубо говоря, да. Но не раскапываю, а – вскрываю.
– И вы уверены, что при этом делаете его будущее счастливым?
– Представления об этом не имею. Я не делаю людей счастливыми. Я не делаю людей лучше. Я только ищу у них таланты и выбираю самый мощный, тот, что доминирует.
– А если таланта нет?
– Не знаю, что тогда. Но до сих пор такого не случалось. Может быть, мне не всегда удается найти ГЛАВНЫЙ талант, но какой-нибудь ОДИН талант я до сих пор находил всегда… Полная бесталанность – это, видимо, очень редкий талант…
Сцена 12. Я пишу будущее…

СЮЖЕТ 12/1
Так оно все и есть. Он задает вопросы. Мальчишка сидит перед ним, более или менее вольготно развалясь в специальном ласковом кресле по одну сторону стола, а он, скрючившись на полумягком древнем стуле (с прямой резной спинкой), по другую сторону стола лязгает ловкими спицами и задает вопросы. А иногда поет и требует, чтобы ему подпевали. Или читает стихи. Или их придумывает. Или вдруг принимается решать логические задачки. Масса вариантов, и никогда заранее не известно, какой именно вариант он выберет. Он и сам этого, по-моему, не знает… Любимое его занятие во время этой работы – вязать длинные шерстяные косы, абсолютно ни к чему не применимые. Три клубка – черная, белая и серая шерсть. Он ведет свой… – опрос? урок? диалог? – щелкает спицами, не глядя, коса растет, ползет у него из-под пальцев, а потом он ее либо распустит (бормоча с придыханием какие-то сумрачные шаманские проклятия-заклинания), либо торжественно пронесет через всю квартиру, как боевую хоругвь, и повесит в чулан, где таких уже десятки…
СЮЖЕТ 12/2
Дочитав распечатку до этого места, он, не глядя, откладывает ее в сторону – поверх накопившегося за месяц на журнальном столике слоя книг, рукописей, газет, мятых писем, коробочек из-под снотворного и таких же распечаток на дорогой голубоватой бумаге, поднимается и садится, спустив босые ноги на пол.
Необходимо сходить. В квартире стоит привычная глухая тишина, но через несколько секунд он слышит сухое тоненькое потрескивание, издаваемое торшерной лампочкой, готовящейся перегореть. Потом на фоне тишины и этого потрескивания появляется некий новый звук – он не сразу догадывается, что это в ванной плохо закручен кран и течет вода в рукомойник. А потом снаружи проезжает грузовик, ухает железом по колдобинам, и тишина исчезает, словно бы оскорбленная, раздасадованно прячется в коридоре, в глубине дома, в чулане. Он суёт ноги в шлепанцы и прошаркивает по коридору в туалет.
Потом он заходит в ванную и долго там мылит руки, разглядывая свое лицо в зеркале над рукомойником. Что-то с этим лицом не в порядке, что-то было в нем не так, как всегда, и тут он вдруг обнаружил, что бровей у него совсем не осталось. Он поспешно сдвигает очки на нос: бровей почти нет. То есть они и раньше у него были, прямо скажем, не как у Брежнева и даже не как у Никсона, но теперь вместо правой торчат три одинокие дикорастущие волосины, а от левой остался вообще только какой-то жалкий серый пушок.
– Да, – говорит он громко и откашливается, – Не как у Никсона.
Ритм ему нравится, и, вытирая руки полотенцем, он поёт на мотив кукарачи:
«Не как у Ник-сона, не как у Ник-сона…»
Полотенце несвежее. Под шлепанцем крякает и хрустит вылетевшая из своего гнезда кафельная плитка. Он наклоняется вставить ее на место и видит в углу под батареей Старуху. Черепаха мирно дрыхнет, подобрав лапы и толстый свой короткий черный хвост. Тут же валяются и ее какашки, похожие на вывалившиеся из какого-то текста крупные запятые.
– Черт знает в каком состоянии дом! – говорит он громко. Тишина вдруг перестаёт нравиться ему. Ночная ватная тишина. Ватная, но зато – приватная. Личная. Персональная… Бесплотные сумерки звуков. Тени звуков. Призраки… Это одиночество – вот что это такое. Он чувствует озноб и торопливо натягивает старый вязаный халат, запахивает полы, туго перепоясывается шелковым шнуром. Халат попахивает…
Халат попахивает. Полотенца – несвежие. Кафель везде повываливался. Ванна рыжая, унитаз -серый. Не как у Ник-сона… Он возвращается в спальню, садится на постель и, не ложась, берёт в руки распечатку. Там остаётся не прочитано еще страниц десять, он проглядывает две последние.
СЮЖЕТ 12/3
…Рукопись его: мельчайшие буквы-бисеринки, ровная, как по линеечке, скрупулезная вязь, арабески – вовсе это даже не похоже на текст, кажется, и в голову никому не могло бы прийти читать такое. Рассматривать да: в лупу, задерживая дыхание, как рассматривают древний орнамент, как филателист изучает любимую марку. Но уж никак не читать.
Однажды я осмеливаюсь спросить его:
«Что Вы пишете, Сэнсей? Мемуары?».
И происходит странный разговор, точнее – монолог. Сначала он несколько раз повторяет:
«Мемуары… Хм, мемуары… Мемуары?» – он словно дегустирует это слово. А потом произносит со странным и неожиданным пренебрежением:
«Но, ведь, мемуары – это же… Вы же понимаете, Роберт: это – нечто прошлое. Это, уже состоявшееся. Я же Вам не историк какой-нибудь. Какое мне дело до прошлого. Я пишу будущее…»
Он так и сказал: «пишу будущее». Просто. Простенько. Со всею откровенностью. И ничуть не красуясь.
Как художник сказал бы: «Я пишу пруд».
Как бухгалтер сказал бы: «Я пишу квартальный отчет».
Не знаю, что он имеет в виду. Рукописи его я, разумеется, не читал. Только однажды, случайно, через плечо его, увидел две строчки на новой странице:
«Если ты хочешь, чтобы через сто лет что-то в этом мире изменилось, начинай прямо сейчас. Божьи мельницы мелют медленно».
Тридцать часов я потратил и тридцать страниц настучал (на клавиатуре, разумеется; я имею в виду «настучал на клавиатуре компьютера»), чтобы только лишь повторить то, что уже тридцать раз разные люди говорили вам раньше.
СЮЖЕТ 12/4
Я ничего не знаю о нем. Никто и ничего не знает о нем. У него словно нет прошлого. Он ниоткуда. И он – никто. Восторженный циник Тенгиз считает его последним чародеем на нашей земле, и вот этот последний из чародеев возомнил себя способным вернуть племя исчезнувших волшебников – людей, знающих свой главный талант, а потому бескомплексных, спокойных, уверенных, самодостаточных, добрых. Он плодит их десятками ежегодно и никак не поймет (или не хочет поверить?), что жизнь идет следом, как свинья за худым возом, и подбирает, перемалывает их всех своими погаными челюстями: дробит, мельчит, ломает, корежит, покупает, убивает…
СЮЖЕТ 12/5
Вадим, разумеется, мнит его «делателем будущего». Для него он – Мойра мужеска пола. У древних:
Клото – прядет нить судьбы;
Лахесис – проводит человека через превратности;
Атропос – перерезает нить.
Так вот Сэнсей един в трех лицах. Он не знает будущего, он его делает. Щелкает серебряными спицами, вяжет черно-белые шарфы судьбы… Не помню точно, кто, кажется, Мариша красиво говорила о горьком аггеле – исполнителе воли Бога на Земле. О раздавателе наказующих ударов и ласковых наград. Но мерзостей в мире много, а доброты – так мало. И вот все молнии давно уже растрачены, а наград – полный шкаф: раздавать их некому и не за что… Не раздавать ли теперь их всем подряд – ведь каждый грешник есть и праведник тоже?
Нет ведь во всей Вселенной никого, кроме мечущегося, замученного, страдающего и побеждающего человека… А вот Матвей, этот певец рациональных фантасмагорий, считает его пришельцем, прогрессором сверхцивилизации. Получается довольно стройно. Они тщатся хоть что-то изменить в ходе нашей истории. Уже давно всем известно, что изменить ничего нельзя, однако отдельные безумцы все еще пытаются, не жалея ни себя, ни других. И Татьяна Олеговна, жена его, – оттуда же, из них же. Когда заболела, отказалась вернуться, шел 1991 год, не до того было, вот и сожрала ее болезнь, а потом сошла сума – забыла, где находится, говорит на своем языке, перестала узнавать мужа…
СЮЖЕТ 12/6
9 декабря
Вообще эти прогрессоры здорово поработали в XIX веке: энергичная попытка решительно двинуть вперед технологию, смягчая технический прогресс мощным развитием гуманитарии (Пушкин, Достоевский, Толстой, Диккенс, Дарвин, Фрейд и пр.). Но все равно ничего не вышло – победила животная инерция толпы.
Изменить ход истории нельзя. Можно только попытаться изменить Человека. Но как? Что в нем поменять и на что? Сделать всех добрыми? Но доброта ведь делает пассивным. Сделать умными? Но это возможно не с каждым, как не каждого получится натренировать бегуном-разрядником. Сделать терпимыми? Так нет же ясной грани между терпимостью и равнодушием – терпимость на практике есть равнодушие в девяти случаях из десяти… Не знаю. Греческие боги частенько вмешивались в ЛИЧНУЮ жизнь смертных, но никогда даже не пытались повлиять на ход человеческой истории, на прогресс.
А теперь вот и людей стало слишком много – боги не успевают уследить за всеми и за каждым. Я вообще не верю в Бога и в богов. Я не верю, что существует разумная сила, способная влиять по своему усмотрению на мою жизнь. Но я верю, что бывают на свете очень странные люди. Я просто знаю это.
СЮЖЕТ 12/7
Дочитав, он складывает распечатку поаккуратнее, поднимается и проходит в кабинет. Включает люстру. Включает настольную лампу. Кладёт распечатку на стол, но сам не садиться – проходит к окну и некоторое время смотрит на заснеженную улицу и черный дом напротив.
«А на дворе белым-бело – это снегу намело… А за окном черным-черно – это ночь глядит в окно…»
Возвращается к столу, опускается на полужесткое сиденье резного стула с прямой высокой спинкой, берёт шариковую ручку и сразу же начинает писать выводить, чертить, разрисовывать свои арабески – тут же, пониже даты, благо свободного места хватает.
СЮЖЕТ 12/8
Теперь становится значительно лучше. Но надо постараться, чтобы получился совсем гнусный, вонючий старикашка.
1. Иногда его схватывает позыв на низ (это называется императивным позывом), он все бросает и мчится в сортир.
2. Когда питается – весь подбородок замаслен.
3. Халат никогда у него не стирается, попахивает козлом.
4. Еще что-нибудь. Подумайте. Не забывайте, что Ваше умение «помнить все без исключения» должно быть им хорошо известно. Поэтому обратите внимание на Ваши неудачные выражения типа «если не ошибаюсь», «не помню точно, кто», которые в свете названного факта выглядят для внимательного читателя странновато и малоестественно…
Он пишет еще с абзаца: «Не надо так много об обстоятельствах личной жизни. Это бесполезно…» Но, тут же перечеркивает эти слова крест-накрест и приписывает:
«А впрочем, пишите, как хотите».
Сидит, вертя ручку в пальцах, и вдруг тихонько запевает, отбивая ритм ребром ладони:
– Несите меня бережно, несите меня бережно, ведь я защитник родной страны. Благодарите! Благодарите! Благодарите!..
– Где храбрец? – кричит он, прерывая ритм и тут же снова подхватывая его:
– Его несут к печи, его несут к печи…
– Где трус? Бежит доносить, бежит доносить, бежит доносить!
Он обрывает себя и быстро приписывает в самом низу:
«Не надо имен. Я никакой знаток чекизма-кагэбизма, но я понимаю одно: они о нас знают ровно столько, сколько мы сами говорим о себе и пишем. А значит, чем меньше мы говорим и пишем, тем меньше они о нас знают»
Потом он перечитывает все только что написанное и кладёт ручку.
– Я не трус, – произносит он убежденно, – Я просто предусмотрителен. А точнее, стараюсь быть таковым. Так что – «несите меня бережно!»
Сцена 13. Роберт Валентинович Пачулин

СЮЖЕТ 13/1
Четверг
Я – Роберт Валентинович Пачулин, по прозвищу «Винчестер», секретарь Сэнсея.
Сегодня мы выходим на работу особенно не в духе. Даже не побрились, что служит у нас признаком самого категорического неприятия реальной действительности. Сопим с раздражением. Массируем свое красно-коричневое пятно на затылке – видимо, ко всему вдобавок, и затылок еще ломит вследствие атмосферных перепадов и нехватки кислорода в городе и области. На своего верного и единственного секретаря-референта мы смотрим мельком, неприязненно поджав губы, киваем ему как бы в рассеянности и сразу же лезем в архив. При этом мы изволим напевать на мотив кукарачи какую-то ритмическую белиберду:
«Ни-ка-ку-ник са-на, ни-ка-ку-ник са-на…"»
Девять часов две минуты. Не дождавшись от начальства доброго слова, я снова сажусь за свой стол и на всякий случай вывожу на принтер расписание сегодняшнего утра. Сеанс назначен на десять и пароль – «Аятолла».
Детали не сообщаются, однако, стоит пометка: «С отцом и с сопровождающим». Понимай, как захочется. Я понимаю так, что кроме папани (а не мамани, – и это уже само по себе явление скорее редкое), мальчишку будет сопровождать еще некто – например, казначей с чемоданом зеленых. Что было бы весьма и весьма своевременно. У нас в казне осталось денег на один месяц (при наших-то потребностях), а в списке предстоящих пациентов числятся всего двое, причем одна из них – девочка, дохлый номер.
СЮЖЕТ 13/2
В девять тридцать ровно звонят в дверь, я поглядываю на Сэнсея и, поскольку ни указаний, ни даже намека на указания не следует, иду открывать. Недоумевая. Впрочем, тут же выясняется, что это не пациент пришел раньше назначенного времени, а какие-то двое мальчишек, шмыгая соплями, просят клей «Момент» – шина у них спустила, велосипедная. Я без всякой жалости посылаю их этажом выше (или ниже, по их собственному выбору) и возвращаюсь на рабочее место, где в ответ на вопрошающий взгляд докладываю обстановку.
Мы усмехаемся. Это особенно ненавидимая мною усмешка. Усмешка Подавляющего Превосходства. За такой усмешечкой обычно следует краткая, но исчерпывающая лекция на тему: поразительно, как нынешняя молодежь плохо разбирается… Поразительно, как мало разбирается нынешняя молодежь, да и молодежь вообще, в окружающей ее реальности (произнесено в манере зануды-Хирона, поучающего малолетку-Геракла). Эта ваша велосипедная история – замечательно характерная реплика дремучих представлений начала века. Даже ему (Хирону) известно, что нынешние сопляки используют клей «Момент» исключительно для того, чтобы его нюхать. Они его нюхают, паршивцы (сказано было мне). Ловят кайф. Что еще за велосипеды, сами подумайте, в разгар декабря?.. Какое сегодня число, кстати?
Я (с каменным, надеюсь, лицом) сообщаю ему, какое сегодня число, а заодно – день недели и московское время, после чего разговор наш естественным образом прекращается и каждый занимается своим делом. Он листает древние вырезки из газеты «За рубежом», а я думаю о двух мальчишках, которые (синие от холода и сопливые, отравленные и жаждущие новой отравы) обходят сейчас квартиру за квартирой и выпрашивают «Момент», чтобы потом в подвале каком-нибудь, провонявшем кошками и бомжами, словить свой дешевый кайф – сладостный и тошнотворный, как сама наша вонючая жизнь, в скобках – житуха.
СЮЖЕТ 13/3
В десять ноль четыре раздаётся звонок, и Сэнсей ворчит:
«Еще бы минута, и я бы приказал гнать его в три шеи. Вовремя прийти не способны, новороссы…»
Я отправляюсь открывать. В дверной глазок наблюдаю по ту сторону решетки три фигуры: одна очень большая, черная, вторая значительно поменьше – элегантно-серая, а третья совсем маленькая, черненькая с беленьким. Я открываю дверь и выхожу к решетке.
Главный у них, конечно, человек в сером костюме, дьявольски элегантный, с матово-бледным (как у графа Монте-Кристо) застывшим «фарфоровым» лицом и совершенно змеиной улыбкой на блестящих (словно бы намакияженных) устах. Когда он говорит, его губы слегка двигаются, открывая безупречно-белые зубы, но выражение лица, при этом, остаётся без изменения, подчёркнуто доброжелательным. Так, разговаривают театральные куклы и люди, перенесшие несколько тяжёлых пластических операций. В правой руке у него, при этом, обнаруживается какая-то длинная черная остроконечная палочка, наподобие школьной указки. Но, не указка, разумеется. Странная, такая, палочка – слишком уж остроконечная, на мой взгляд… Однако, человек опирается на неё при ходьбе, он заметно хромает на правую ногу.
Который в черной обтягивающей коже, – огромный качок, рыжий, лысый, конопатый и круглоголовый, – тот, несомненно, у них «сопровождающий». На шее у него… «Странгуляционная борозда?» – проносится в голове.
А собственно пациент, разумеется, пацаненок: мальчик лет семи, а может быть, и десяти (я не специалист) – в строгом черном костюме, белая сорочка с галстучком, блестящие лакированные туфельки, держится за папанину ручку и выглядит противоестественно и даже, на мой взгляд, неприятно, как и всякий ребенок, одетый нарочито по-взрослому.
Без сомнения, это были «они», но я как человек педантичный и склонный все формализировать, решетку им не открываю, а только здороваюсь со всей доступной мне вежливостью:
– Добрый день. Чем могу служить?
– Здравствуйте, – отчетливо говорит пацан-джентльмен, а человек с застывшим лицом и змеиной улыбкой щеголяет безукоризненными искусственными зубами и, не теряя зря времени, произносит пароль:
– Аятолла приветствует Вас, милостивый государь мой! – и добавляет, уже от себя, как бесплатный довесок к паролю, – Мир дому сему и всем его добрым обитателям!
Я отпираю им калитку в решетке, после чего рыже-конопатый брахицефал немедленно удаляется – не произнеся ни единого слова, погружает себя в кабину лифта и так грохает, мудила, дверцей, что весь дом дрожит. На его шее виден неаккуратный келоидный красно-багровый послеоперационный рубец.Круговой.
– О, Боже! – говорю я не удержавшись, а серый элегантный папаня только руки разводит, всем видом своим изображая полнейшее сочувствие пополам с искреннейшим раскаянием.
– Автокатастрофа! С того света вытащили, – извиняющимся тоном произносит он, – Три месяца в гипсе, без движения…
Я препровождаю их в прихожую, где они не раздеваются, поскольку снимать им с себя нечего (естественно – прямиком сюда из лимузина, где всегда тепло, сухо и пахнет кедром). Здесь я их оставляю перед большим нашим зеркалом, огромным и мрачным, как дверь в чужое пространство, а сам заглядываю в кабинет и киваю Сэнсею – в том смысле, что все о’кей.
Сэнсей кивает в ответ, и я их ввожу – пацан впереди, папаня следом, а Сэнсей уже дожидается, возвышаясь над своими компьютерами, кварцевыми полусферами и горами папок, на фоне распахнутых дверец грандиозного архивного шкафа, тысячи папок подслеповато глядят оттуда плоскими рыжими, синими, белыми и красными обложками своими, и запутанные щупальца тесемок шевелятся, потревоженные сквознячком, и каждому сразу ясно становится, что и речи быть не может найти в этом хранилище прошлого хоть что-нибудь полезное простому обитателю настоящего.
СЮЖЕТ 13/4
Надо признаться, в таком вот ракурсе и с таким видом (возвышаясь, утопая костяшками пальцев в ворохах газетных вырезок, в багровом своем свитере, обширном и одновременно обтягивающем, с немигающим взором из-под нависающего безбрового лба) Сэнсей не может не производить известного впечатления, и он его, да, производит. На всех. Даже на меня. К этому зрелищу невозможно привыкнуть, как никогда я не привыкну к трагическому пожару заката или, скажем, к страшному свечению Млечного Пути в черную зимнюю ночь.
– Здравствуйте! – ясным голоском (как учили) провозглашает малоразмерный джентльмен, а родитель его издал что-то вроде «рад видеть…», но тут же прерывается свирепо-величественным жестом, как бы выметающим его из поля зрения, а я уже тут как тут – подхватываю под элегантный локоток, нежно, но с твердостью направляю в кресло, усаживаю, делаю глазами «тихо! помалкивайте, please!» и бесшумно проскальзываю на свое место, так, что джентльменистый малец остаётся посреди кабинета один.
Ему сразу же делается страшно и неудобно, даже вихор на темечке встопорщивается, он заводит за спину крепко сжатые кулачки и совсем не по-джентльменски почесывает их один о другой. Сэнсей осторожно садится и делает ладони домиком, как дяденька на плакате «Наш дом – Россия». Вдохновение приближается. Глаза у Сэнсея делаются ореховыми, а голос низким – теплым и мягким, словно драгоценный мех.
– Как Вас зовут, молодой человек?
– Алик.
– Оч-хор, Алик. Замечательно. Подходите, садитесь. Кресло мягкое, удобное… Вот так, превосходно, устраивайтесь, как Вам удобнее. Меня зовут Стэн Аркадьевич. Можно по-американски – просто Стэн. Сейчас мы будем с Вами играть в одну полезную игру. Я буду задавать вопросы, а Вы будете на них отвечать. Понятно?
– А зачем?
– Алик, вопросы задаю только я. А Вы только отвечаете. Отвечаете все, что Вам захочется, но – обязательно. Договорились?
– А если непонятно?
– Алик, вопросы задаю только я. Больше никто. Отвечать можно все, что захочется – понятно вам или непонятно, это совершенно несущественно. Главное, чтобы на каждый мой вопрос получился бы Ваш ответ. Начнем?
– Да.
СЮЖЕТ 13/5
Сеанс начинается. Сэнсей откидывается на спинку кресла и спрашивает (небрежно, без всякого нажима):
– Где храбрец?
– Его будут в печку сажать, – немедленно откликается Алик и радостно улыбается, ужасно довольный, что у него так быстро и ловко получается. Я давно уже привык к странным вопросам. И к странным ответам я привык тоже, но это, видимо, случай, неожиданный даже для Сэнсея. Он молчит, разглядывая радостного Алика со странным выражением: то ли ему сделалось вдруг интересно, то ли он вообще ошеломлен.








