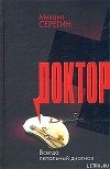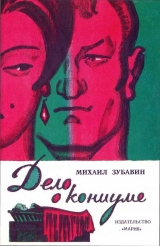
Текст книги "Дело о кониуме"
Автор книги: Михаил Зубавин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
– Ну как? – поинтересовался Ершов.
– Всю ночь не спал. Топят с Аратюновым друг друга. У этого тот за рулем сидел, у того – этот.
– А здесь что? – указал рукой вниз Ершов.
– Пока ноль, хотя копаются уже с полчаса. – Переднее шмыгнул носом и достал сигарету. – Эй! – крикнул он вниз. – Выводи Френкеля, сейчас второго прикатят.
Вскоре прибыла еще одна машина, на которой привезли горбоносого кудрявого брюнета Аратюнова.
– Показывай, – приказал Переднее, и конвоируемый Аратюнов начал спускаться в овраг.
Когда они остановились, Переднев присвистнул.
– Вот черт, к тому же месту вышли, а там ничего. – Подумав, он гаркнул в овраг: – Выводи! Ну что, майор, можешь этих забирать, а я еще поищу.
Подследственных увезли, а милиционеры стали копать снег в овраге, тыкать в него прутьями. Тело не находилось, Ершов с Быченко залезли в «Запорожец» и молча в нем сидели. Быченко просто не хотел смотреть на мертвеца, а Ершову стало страшно. Умом он давно знал, что Муханов убит, но пока трупа нет, всегда можно надеяться на «вдруг»… Сам же Сергей может потому-то и вляпывался в подобные дела, что слишком священно относился к дарованному человеку чуду – к жизни.
Через час доставили собаку, но та лишь покрутилась по оврагу, села и, виновато глядя на проводника, заскулила.
Переднев постучал в стекло, Ершов открыл дверь.
– Что думаете, орлы?
– Гммм… – промычал Иерихон.
– А они точно сюда его привезли? – задумчиво произнес Ершов.
– Мы их по отдельности допрашивали* и оба одинаково показали место.
– А давайте спустимся вниз, – предложил Сергей.
Легко выдергивая ноги из мокрого липкого снега, Ершов с Передневым сбежали на дно. Иерихон, проваливаясь по колено, медленно спускался следом. Овраг у шоссе прерывался, а в противоположную сторону, слабо повиливая и погружаясь в недра, тянулся сколько хватало глаз. Переднее закурил, а Ершов начал рассуждать вслух:
– Для чего кому-то из них сюда возвращаться и труп перепрятывать? Нереально, глупо. Психически ненормально. Волки, медведи тело съели? Да их перебили почти всех, рядом шоссе, да и кости где? Собаки? Тоже кости останутся, да и не будут они есть человека, я так думаю. А вдруг он все же жив и сам ушел? Это глупость, но… Но даже о вероятности такой мысли никто не должен знать.
– Почему?
– А зачем его добивали? Случайно именно вчера бандиты к его тетке врывались? Вылезаем наверх – вы уезжайте, а я останусь один и найду его… Мертвого или живого.
– Как? – изумились и Переднее, и Быченко.
– А меня ведь тоже один раз цепью и дубинкой били, и если он остался жив, я просто почувствую, куда он мог пойти, я возьму его след.
– А я? – изумился Иерихон.
– Да вы с вашими полутара центнерами веса по колено проваливаетесь.
– Пускай бредет один, – усмехнулся Переднее. – Он возьмет след Муханова, а мы его след, вернемся вдвоем через часок, другой, но с лыжами.
– «Запорожец» только в стороне поставьте, чтобы не совсем рядом с оврагом.
Оставшись один, Ершов снова спустился вниз, закрыл глаза и погрузился в воспоминания. Несколько минут он стоял не шевелясь, а потом встрепенулся и решительно зашагал вниз по оврагу. В дальнейшем, во всех тех случаях, когда на возможном пути возникала развилка, Ершов проделывал подобное. Примерно через час он вышел к ручью и двинулся вдоль него. Снег стал мягче, глубже, сырее, ноги намокли до колена, но Ершов шел и шел по замысловатому серпантину заросшего мелким кустарником берега. Он уже не замечал времени, когда ложбина, по которой он пробивался, внезапно оборвалась и нависла над длинной низиной, тянущейся вдоль незамерзшей извилистой речушки. Ручей стремительно понесся вниз, а следом за ним под гору заскользил Ершов, узревший слева за рекой две жидкие струйки дыма.
Домиков стояло десятка три, но жизнь теплилась лишь в двух – окна остальных были заколочены, а сами они и окружающие их дворы завалены снегом. Лишь у первого жидкого дома Ершов вступил, наконец, на расчищенную дорожку. Из-за плетня выскочил пес, зло залаял. Ершов остановился. Дверь хаты открылась, на крыльцо вышла бабка в валенках, в синем ватном пальто.
– Здравствуйте, – раскланялся Ершов.
– Здравствуй.
– Где я?
– Деревня Петровка была.
– А погреться бы?
– К соседке зайди, – сказала старуха и пронзительно заорала: – Дарья!
С соседнего двора ответил женский голос:
– Чего орешь, как оглашенная? Вижу. Эй, ты, заходи, я кобеля держу.
За забором ожидала кряжистая простоволосая женщина в коротком ватнике:
– Чего мнешься, беги быстрее, а то не удержу.
Скосив глаза на оскалившуюся, рычащую мохнатую широкомордую собаку, достигающую своей хозяйке до пояса, Ершов проскользнул в дом.
То, что увидел здесь Сергей, поразило его: он был типичным жителем города, и если и выезжал куда-либо, то лишь на дачи таких же, как и он, горожан. Наличие совсем незнакомого уклада жизни у таких же как он русских людей, говорящих на том же языке, живущих в то же время и так близко, просто под носом, удивило его.
В доме не было ни газа, ни водопровода, ни электричества, зато было удивительно чисто. Высились горочки подушек, на спинке кровати висела кружевная занавеска, светился огонек у иконки, а рядом висели фотографии, фотографии, фотографии…
Ершов подошел к теплой печке, и его неожиданно пробрала дрожь, на улице ее не было, а тут она вдруг объявилась.
– Ты портки-то мокрые свои сними, – велела хозяйка. – Да не бойся, не съем я тебя. На шерсть, завернись.
И кинула Ершову то, что ныне мы называем пледом.
Сергей стянул прилипающие к ногам брюки.
– А ты что, сироткой рос? – спросила Дарья.
– Почему?
– Как же родители-то не научили исподнее зимой носить?
Ершов лишь хмыкнул. Еще одна волна дрожи пробила его, а затем он ощутил, как медленно начало входить в онемевшие ступни тепло.
– Самогонки, странник, хочешь?
– Давай.
Дарья вышла во вторую комнату, вернулась со стаканом и луковицей:
– Ну?
Сергей с недоверием посмотрел на жидкость, брезгливо поднес ее ко рту и, неожиданно для самого себя, махнул залпом. Прокашлявшись, он ощутил, как в животе вспыхнул костерок, стал расти, а вскоре запылала и вся кожа. Расслабившись, Ершов начал осматриваться.
– Глядишь, как живем? – спросила Дарья. – Смотри, смотри. А разве так раньше жили? И свет был, и магазин, и фельдшер, народ был, жизнь была. А теперь только зельем этим трактористов иногда подманиваем, тут верстах в трех у совхоза цех, так заезжают порой сюда, того, сего привезут. А летом ничего, бывшие наши собираются, из-за реки дачники за молоком, за ягодой к нам ходят… Летом хорошо.
– А вот сейчас, недавно, неделю назад, сверху к вам никто не приходил?
– Оттуда, где ты прошел?
– Да.
– Что ты? Там же лишь овраги, кусты, болота, там черт ногу сломит. Ты сам-то как пробрался, не понимаю. Сюда ходят снизу, от совхоза.
Неожиданно хозяйка насторожилась:
– Накаркал! Слышишь, как кобель зарычал? Чужие. Я выйду, а ты в окно смотри, у меня не пес, а зверь.
Но хозяйка еще не успела выйти, как через оконце Ершов углядел лоснящуюся розовую физиономию Бычен-ко, возвышающуюся над неприлично цветастой курточкой, и бледного, потного Переднева в серой форменной шинели.
– Дарья, – усмехнулся Ершов. – Эти комцки – люди хорошие, я их знаю, за мной ехали.
– Дружки твои? – настороженно спросила хозяйка. – Ну, позову.
Быченко и Переднее ввалились «шумною толпою».
– Это не офицер, это инвалид, – балагурил Быченко.
– Вы на своих пластиковых лыжах да под горочку – толкнетесь раз и катите, а я на своих дровах сто метров проползу, они облипнут все, и стою, как на якоре, – оправдывался Переднев.
Дарья молча оглядывала незваных гостей.
– А у тебя что? – спросил Иерихон Ершова.
– Нуль, как говаривает знаменитый инспектор угро капитан Переднев.
Стукнуло. Потянуло ветерком. Из сеней послышался женский голос:
– Дарья, толстого позови.
Снова стукнуло. Хозяйка провела глазами по гостям, остановилась на Иерихоне:
– Пойдем, бабка зовет.
Быченко и Дарья вышли на улицу, через минуту женщина вернулась.
– Сейчас и ваш друг будет. – Улыбаясь, она подошла к Ершову и шепнула: – А если служивому поднести, не донесет?
– Нет, – засмеялся Ершов и сам обратился к Константину: – Жандарм, водочки не хочешь?
– Да я от твоего перегара пьян, а ведь назад еще возвращаться. Выпью – не дойду.
– А вы не лезьте вверх, вы вдоль реки вниз идите, потом увидите трубу, держите на нее и версты через четыре окажетесь на совхозной дороге, а там на первом грузовике до шоссе подвезут.
– До бетонки?
– Тоже хватил, бетонка в другой стороне. Близок локоток, да не укусишь.
– А у нас машина на бетонке. Ладно, мать. А вот ты, Серега, скажи, где теперь Муханова-то искать.
– Видно, не дошел он. В снегу.
– Да, – вздохнул Переднее.
Дарья достала лампу, зажигая фитиль, покачала головой:
– Колька-тракторист давно не заезжал, керосина всего ничего.
– Россия в двадцать первом веке, – констатировал Ершов.
– Да был здесь ток, ничего, – словно оправдывалась Дарья. – Это потом срезали, когда мы вдвоем остались.
Гавкнула собака, проблеяла коза. Скрипнув дверью, в дом вошла старуха:
– Дарья, зверя подержи, а вы, ребята, собирайтесь, толстый зовет.
Переднее и Ерш переглянулись, но ничего не спросили, лишь Переднее, накидывая шинель, незаметно расстегнул кобуру, а Ершов, влезая в теплые влажные брюки, в голове восстанавливал расположение дворовых построек.
До соседнего дома добрались без приключений. Вошли, от порыва ветра дверь за спиной захлопнулась. Беспросветный мрак окружил героев. Переднее положил пальцы на рукоять пистолета и замер. Ершов на цыпочках, затаив дыхание, шагнул в сторону. Тишина. Мрак. Но вдруг раздался голос Иерихона:
– Притопали, сыщички, золотая рота.
Вспыхнула спичка, загорелся фитилек керосиновой лампы, выделяя сумрачный, желтоватый жидкий свет.
– А вот и покойничек. – Иерихой выкатил глаза, открыл рот и указал перстом.
На кровати лежал человек, лоб которого был обмотан полотенцем, щеки и подбородок покрыты щетиной, кожа вокруг глаз имела непередаваемый желто-сине-буро-зеле-ный цвет, а на носу и ушах серела.
– Он жив? – в один голос спросили детективы.
Губы человека медленно зашевелились:
– Пока жив.
– Но его надо в больницу! – ахнул Переднее.
Павел открыл глаза:
– Я уже сажусь, Иерихона Антоновича через окно узнал. Оживу сам, а там, там опять достанут.
Ершов подошел к постели:
– Так объясните ж, в чем дело? За что вас так?
Павел говорил, словно выдавливал из себя слова:
– Догадался, видно, я правильно, а? Судя по сырью, лаборатория, где Аратюнов, наркотики делает.
– Что?! – почти крикнул Переднее. – Что?!
– Наркотики, и, простите, я устал.
Муханов закрыл глаза, а капитан заходил по комнате.
– Наркотики? Наркотики. Но мы же в институте искали?
– Что? – хмыкнул Ершов.
– Труп. Конечно, его труп. – Переднее задумался и вдруг засуетился. – Так, надо срочно в город, срочно надо.
– А тебя самого там не грохнут?
– Не первый год замужем.
Иерихон сел на стул и начал развязывать шнурок на ботинке.
– Пистолет, – тихо сказал он.
– Что пистолет?
– Наденешь мои ботинки, лыжи, ключ от машины возьмешь, а пистолет дашь мне.
– Вы с ума сошли?
– Пистолет дашь, – хмуро повторил Иерихон. – Если все же тебя пришьют и пошлют кого сюда? – сняв ботинок, он кинул его Передневу и повторил: – Пистолет.
– Черт! – Переднее замешкался. – Пропадешь с вами ни за грош! Утюгом отобьетесь. А завтра-послезавтра вернусь…
– Иди, с Богом, иди.
Когда Муханов очнулся в очередной раз, Ершов с Иерихоном уже тяпнули по стакану самогона, наелись картошки с салом и перешли с хозяйками на «ты». Заметив, что Павел открыл глаза, мужчины передвинулись к его постели, а женщины незаметно удалились.
– Удивительно, – сказал Ершов. – Я столько всего слышал о вас, но так до сих пор не пойму, кто вы?
– Слишком мягкий человек.
– Все ваши родственницы так по-разному о вас отзывались.
– Конечно. – Муханов попытался улыбнуться, но тут же от боли зажмурил глаза. – Они у меня все очень славные, но всем так трудно живется, и все из-за нас.
– Нас?
– Из-за нас, мужиков. Видите, куда летит страна? Страна, в которой их и нашим детям жить. О той же наркоте я давно предполагал, но… Я, все мы, мы, вроде, все правильно, сами по себе, делали, но существовали, нежили, плыли спокойно по воде, как чурочки, как дерьмо, а надо было застревать, топорщиться, ощетиниваться, ну, как…
– Как ерш, – засмеялся Ершов.
– Мы еще дадим всем такого дрозда, – прорычал вдруг, стукнув кулаком в ладонь, профессор Быченко Иерихон Антонович и заругался заливисто, грязно, весело, как ругался последний раз полвека назад, когда, весь залитый студеными октябрьскими волнами, вгонял с палубы тонущего катера снаряд за снарядом в немецкую батарею, прячущуюся в скалах ныне чужой страны Украины.
Татьяна Алексеевна

Примерно четверть века назад, в день ее десятилетия, когда все желали здоровья, красоты, счастья, ее дядька, хитро подмигнув, спросил:
– А ты, Тань, как счастье понимаешь?
– Чтобы рано не просыпаться, – под общий хохот ответила она.
Наверно именно поэтому теперь Татьяна Алексеевна Никитова, стройная, подтянутая, не рожавшая женщина, поднималась в половине шестого. Теоретически можно еще полчаса поспать, но чтобы придти на работу в форме, она должна сделать зарядку, помыться под прохладным душем, выпить кофе, покурить, медленно прогуливаясь, брести до вокзала… Однако если в электричке ей удавалось сесть, ни кофе, ни душ не помогали, и до самой Москвы она спала.
Когда Никитова поступила в ординатуру, она верила, что едет учиться, это она-то, всю свою трудовую жизнь проработавшая в больнице, собиралась чему-то учиться у ассистентов, которые и больных-то видели всего два года в жизни, когда сами учились в ординатуре. Нет, они работали, проводили научные исследования, писали статьи, преподавали, руководили клинической работой, но не они стояли первыми у постели больного. Ну что ж, диплом тоже очень важен, а еще в институте была огромная библиотека, случались неплохие лекции, и первое время она особенно не скучала.
В метро Татьяна Алексеевна встретила Светлану Диктату ровну Тетерину, молодую, холеную, только что закончившую институт и уже целый год замужнюю женщину. Светка, выйдя из семьи глубоко и богато интеллигентной, чувствовала себя не только неотразимой для мужчин, но и вообще существом высшей категории и посему обладающим правом на все.
Заметив Татьяну Алексеевну, она посреди вагона громко и радостно выругалась матом и во весь голос запричитала:
– Как мне все надоело, эти больные, истории болезней, обходы, как я себя проклинаю, что поступила в медицинский, но кончу эти чертовы курсы и уйду в какую-нибудь лавочку, главное, чтоб там служило много мужчин и давали отгулы.
– Иди, Светка, иди, – согласилась Никитова.
– А еще я, Тань, развожусь и завожу любовника.
– Правильно, Светка.
– Дерьмо сейчас мужики, а ты сегодня не с Сергеем дежуришь?
– С ним. Оставайся, а заодно поможешь.
– Двое мужчин и я – это я, но мужчина напополам – я нет, – заржала Светка.
Звонок из приемной извещал о поступлении нового пациента, но еще не успевали принять его, а уже надо было мчаться в первую терапию предотвращать кому, хирурги требовали консультации, и снова на пандус влетала машина «скорой помощц», но в одиннадцать – все, больница вдруг затихала.
Никитова еще раз объехала все этажи и поднялась в дежурную ординаторскую. Единственный ординатор мужчина, Светкин сверстник, остроносый блондин Сергей, развалясь в кресле и куря, разговаривал по телефону. При появлении Татьяны, он выпрямился, стал скуп на слова и вскоре повесил трубку. Татьяна Алексеевна тоже закурила, примостившись на краешек сейфа с наркотиками. Чем-то этот парень нравился ей, а чем – кто его знает.
– Серега, Серега, кончишь ординатуру, не иди в стационар, а то станешь ломовой лошадью.
– А вы сами куда собираетесь?
– В том-то и беда, как затянет тебя врачевание, и пропало, лучше не начинать. А меня даже в содержантки никто не берет. Седею, нос картошкой, морщины…
– Неправда, я бы лично взял.
Она расхохоталась.
– Какая же неправда, сейчас мужики такие, что их самих содержать надо.
– А почему, Татьяна Алексеевна, вы не родите ребенка? – неожиданно спросил Сергей.
Она усмехнулась:
– Боюсь, я уже старая, родится не дай Бог больной, да и наверно я уже не могу.
– Какая же старая, еще как можете.
– Морально не могу, старая.
Конечно же она лукавила, она ощущала себя очень молодой, но даже самой себе не хотела в этом признаться. Однажды, еще в самом начале обучения, Сергей пытался поухаживать за ней, началось все тогда с того, что она, Сергей и Светка спрятались курить в комнату санитарок. Там стояло лишь два стула, на одном примостилась Татьяна, на другой сел Сергей, а Светка забралась к нему на колени. Поглаживая ее бедра, Сергей важно рассуждал:
– Какое у тебя подходящее имя. Сначала что-то светлое, ясное, чистое – Светлана, затем грозное, громовое, строгое – Диктату ровна, при этом не страшное, а даже чуть-чуть лупоглазое – Тетерина. В твоем имени вся ты, тонкая талия на длинных ножках, громкий крик и, видимо не мне судить, нежные телячьи ласки.

Никитова фыркнула, а Светка подпрыгнула и плюхнулась задом как раз на то место, где ноги Сергея врезались в край деревянного сиденья стула.
– Больно? Еще не так будет! Ты моего дедушку не трогай, а то совсем слезу. Он долго думал, как назвать папу: то ли пролетарской диктатурой – Продиктом, то ли диктатурой пролетариата – Дикпродом, и выбрал невинное мужское имя Диктатур, а ты, сволочь, издеваешься.
Никитова снова фыркнула. В тот день она и Сергей совращали Светку пойти на лекцию, а добродетельная Светлана Диктатуровна категорически отказывалась, так как у нее планировался урок йоги. Так они ее и не уговорили.
Стояло бабье лето, последние теплые дни, и почему-то на лекцию они пошли пешком, почему-то на нее опоздали и побрели дальше вдоль реки. В конце концов они попали в парк, у какого-то пьяницы купили огромного копченого леща. Сидя на камнях, ели его и долго говорили, ощущая взаимную душевную симпатию. А потом он решил провожать ее, и ей тоже не хотелось расставаться, но она подумала, какая она старая, и не пустила его.
А дежурство продолжалось, и с двенадцати до трех Татьяна Алексеевна провела в непрестанной беготне по консультациям, казалось, что больные в хирургию, урологию, гинекологию поступают лишь за тем, чтобы там у них заболело сердце, и срочно надо было исключать, либо подтверждать инфаркт.
В три все опять успокоилось. К удивлению Татьяны Алексеевны Сергей зачем-то ждал ее.
– Лексеевна, будем чай пить?
– Не буди ты во мне, старой бабе, зверя, уходи, а то при тебе лягу и засну, представляешь, что Светка скажет о мужике, при котором бабы засыпают.
– Да просто.
– Иди, пожалуйста.
«Он неплохой парень, – подумала она. – Дай Светка шумная, но своя девка, но какое мне до них дело?»
Засыпая, она думала о том, что надо побольше дежурить, вот так выматываться. Она относилась к той породе женщин, которые родились для любви, а на жалкие мотыльковые связи, растительную возню, а тем паче на рассудительное сожительство она не способна. Быстрее бы ординатура кончалась, чтобы дежурства не два раза в месяц, а два в неделю, чтоб вести не троих, а тридцать больных и чтоб не заставлять себя не думать, не прикидываться старой, а просто не иметь времени и сил вспоминать о том, что она обыкновенная женщина, рожденная для большой любви.

СЧАСТЬЕ

Ефим Ростиславович женился поздно, ему исполнилось сорок пять лет, когда родилась дочь Оля, и впервые в жизни он почувствовал себя полностью счастливым. Его жена, старший научный сотрудник, не имела времени, да и просто не умела обращаться с детьми, и он стал для Оли не только отцом, но и матерью. Он научился стирать пеленки, варить каши, он кормил Олю из соски, с ложки, с ним она сделала первый шаг, сказала первое слово, а уложив ее спать, он зажигал на письменном столе лампу и до двух, трех сидел за документами. Какая в сущности зарплата у старшего научного, а он на своем хлопотном и требующем постоянной бумажной работы месте заместителя генерального директора все же менее пяти тысяч не получал.
Беда пришла неожиданно – отмечали Ольгино трехлетие. Казалось, все прекрасно, пришли гости, сидели за столом, смеялись, и вдруг сослуживица жены, отвратительная старая дева, выпятив отвислые лошадиные губы, слащавым голосом проверещала:
– Детка, а кого ты больше любишь – маму или папу?
– Папу.
– А маму?
– Папу, папу, – весело защебетала Оля и, подбежав к Ефиму Ростиславовичу, стала карабкаться к нему на колени.
Тогда он не придал значения этому происшествию, но вспомнил потом, как стиснула губы жена, как многозначительно переглядывались ее родственницы, что-то шипели друг другу на ухо, а он балагурил, смеялся, но когда ушли последние гости, впервые узнал, что такое настоящий супружеский скандал.
Через неделю после этого к ним на постоянное жительство перебралась теща. Раньше, по причине слабости, в какой-либо помощи она им отказывала, но здоровье ее, по всей видимости, окрепло, и она приехала растить и воспитывать Ольгу. На следующий же вечер, когда Ефим Ростиславович по традиции собирался читать девочке книжку, его жена, минуту назад казавшаяся спокойной, неожиданно подскочила к нему, вырвала томик из рук и, брезгливо сморщившись, отбросила его, словно в руки ей случайно попал гад. Книга, развернув крылья обложки, пролетела комнату и юркнула под диван, как птица в гнездо.
– Ты что думаешь, растить ребенка – играть с ним? – трясясь и захлебываясь словами, кричала жена. – Хочешь чтеньицем отделаться. Не выйдет. Бабушка почитает, а ты ей белье лишний раз постирай, убери квартиру, посмотри что в маминой комнате творится, и при том, что она спасает нас! Вон! Вон из детской!
Оля заплакала. Бабушка, сидя около девочки, гладила ее по голове:
– Не плачь, папа сейчас кончит обижать маму, скажи папе, что он плохой, чтобы он не обижал маму, мама хорошая.
Жена и теща Ефима Ростиславовича очень четко делили мир на своих и чужих. Дома чужим оказался он.
Но ведь если быть абсолютно честным, надо признаться, что и он не испытывал к жене какого-то особого любовного чувства. Ну так ведь пятый десяток – возраст отнюдь не предполагающий африканские страсти. До войны он считал себя очень молодым, потом война, но и еще десять лет промчались в суете сует, пока он не осознал как хочет семьи, ребенка.
Ах, Оля, а еще говорят, что детская душа неподкупна! Не понадобилось и двух месяцев, чтобы ты узнала, что папу не надо ни любить, ни жалеть, ни слушать. Сколько незаслуженной боли причинила ты.
Ефим Ростиславович не просто любил Ольгу, нет, она была смыслом его жизни. Он мог брюзжать про себя, мог расстраиваться, но только не обижаться. «И потом, – думал он, – она еще ребенок, не ведает, что творит, а добро, которое я ей делаю, она оценит, чуть-чуть подрастет и оценит». Она подрастала, потом взрослела, потом умнела, а он все ждал.
Лишь когда Ольга вышла замуж, в семейном устройстве мира он стал своим. Через год у Ольги родился сын Витька, а еще через год она развелась, и сначала это испугало Ефима Ростиславовича, хотя все и успокаивали его тем, что еще «этот подонок» сам на коленях приползет. Но, прожив месяц самостоятельно, Ольга отвезла Витьку к деду, и в шестьдесят шесть лет Ефим Ростиславович вновь стал счастлив, теперь у него был внук, полностью его внук.
Началась новая жизнь: отвлекала работа, болела жена, Ольга то выходила замуж, то разводилась – все это было, но не главным, а вот Витьке надо было научиться говорить, познать мир, привыкнуть к детскому саду, пойти учиться.
Так пролетело семь лет. И вот субботним утром, отправив Витьку в школу и накормив уже два года не встающую жену, семидесятидвухлетний, но еще внешне крепкий Ефим Ростиславович одевает костюм, долго перед зеркалом повязывает галстук, рассматривая не столько узел, сколько свою полную статную фигуру, крупные черты лица. Протерев лысины платком, он берет огромный портфель и отправляется на рынок. Сегодня приедет Ольга, она навещает их раз в две недели, и надо накрыть праздничный стол, хотя последнее время Ефима Ростиславовича и утомляют Ольгины визиты. Но когда ее нет, ему хочется видеть ее.
Он конечно знает, чем все кончится. Она до истерики растормошит Витьку, так что ночью того будут мучать кошмары, и он придет к Ефиму Ростиславовичу:
– Дед, дай я с тобой полежу.
Битый час она будет рассказывать об обновках подруг, потом, ругаясь и требуя, чтоб се не подслушивали, с кем-то долго станет шептаться по телефону и, взяв денег, уедет.
– Но ведь со временем она станет мудрее, а пока…
У автобусной остановки Ефим Ростиславович останавливается, но поразмышляв (прошлый раз на толкучке у него заболело сердце), решает идти пешком:
– Пока надо еще прожить как минимум десять лет, надо вырастить Витьку, ведь если умру раньше…
Но на этом мысль Ефима Ростиславовича замерзает, даже представить такое ему страшно.

Скан: Посейдон-М
Обработка: Prizrachyy_Putnik