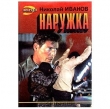Текст книги "И ад следовал за ним: Выстрел"
Автор книги: Михаил Любимов
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава пятая, в которой рифмы, как кильки в банке, громоздятся друг на друга
Я не твой, снеговая уродина…
Владимир Маяковский
Постепенно я стал привыкать к образу Поэта, который, как Франсуа Вийон, слагает свои мысли перед повешеньем, причем не жалует ни власть имущих, ни бесштанных.
Одна поэтическая строчка вмещает больше жизни, чем самый объемный роман.
И не имеет никакого значения, о чем эти строки – о цветке или о мотыльке, о небе или о преисподней – они идут из твоей души, несут с собой ее кусочки и долетают до неба.
Бессмысленно писать прозу.
ГОЙЯ
Мне скучно, бес…
Александр Пушкин
Повесть о художнике Гойе, его великой серии «Капричос» о ведьмах и ослах, о Его Величестве короле Фердинанде, об испанских грандах и немного о беспечных рыцарях, больше о жизни, и меньше о смерти.
ОПУС ПЕРВЫЙ
О ТОМ, КАК ПОЛЕЗНО ЛЮБИТЬ МАХ И ВИНО И НЕ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
Нетленность дружбы. Тленность мах.
Вина кастильского бочонки.
Здоровый сон. И сам монарх
С утра позирует, галчонок.
О сам монарх! Не стыдно мне,
Что краски лгут, и сердце плачет.
Зато на толстом кошельке
Неоспоримый знак удачи.
Зато так сладко ощутим
Земли набухшей дух весенний,
Крутая музыка поленьев
И чесноком пропахший дым.
Гори дотла, пока гульба
Не обернется волчьим адом.
Спеши, еще не знает Альба,
Что ты давно сошел с ума.
И тех, что были всех нежней,
В горбатых ведьм, оглохший мистик,
Ты обратишь всесильной кистью,
Уже чужой руке твоей.
То будет позже. А пока
Костра прерывистое тленье.
Вкусны бараньи потроха.
И наплевать на все века —
По полкам все расставит время.
ОПУС ВТОРОЙ
О ТОМ, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В БЕССМЕРТИИ, ЕСЛИ ВЫПАДАЮТ ЗУБЫ, ПРИЛИПАЮТ БОЛЯЧКИ И ВЕЧНО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
Я думаю, зачем пишу, зачем
Вливаю блажь в поблёклые страницы?
Я перешел какие-то границы
В самом себе. Утеряна мишень.
Я сам себе, наверно, буду сниться.
Как беспощаден этот календарь!
Он мне сулит уход от наслаждений
Туда, где тошен умудренный гений
Комфорта, пышных фраз, где, как и встарь
Инфанты, двор, беззубый государь…
И я шагаю по краю доски
В мир ненавистный и такой любимый,
Разодранный, как падаль, на куски,
Замученный мурой и жирным дымом.
Все лживо, и поэтому так зримо!
Когда-нибудь зловещий хоровод
Вечнозеленых абсолютных истин
Меня в такое пугало зачислит,
Что буду я вопить: «Я не такой!
Я безыскусный!» Близится покой…
Как много нас прошло чрез этот плен
Полотен, болей, радостей подложных!
Ну что, художник, где же твой треножник?
Стоишь один, как будто новый день
В который раз впервые открываешь.
Ты знаешь то, что ничего не знаешь.
ОПУС ТРЕТИЙ
О ТОМ, КАК ТРУДНО ПИСАТЬ ПОРТРЕТЫ КОРОЛЯ ФЕРДИНАНДА, КОГДА ДРОЖИТ РУКА, И ВСЕ ЗАВИДУЮТ, И ИСХОДЯТ ЗЛОСТЬЮ
За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании – король,
И ничего ты не изменишь.
Пиши и красок не жалей.
Прикажет – розовой пастелью,
Прикажет грязью – не робей!
За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании – король
С такою крупною мошною,
Что грех не покривить душою
И написать (опять на грех)
Его портрет, нет, не портрет,
А плод фантазии натужной:
Нос удлинить, лоб удлинить,
Взгляд омертвелый и недужный
Веселой искрой оживить.
За что казнишь, мой критик злой?
Да, не таков у нас король.
Он безобразен, он бесчестен,
И низок лоб, и кнопкой нос.
Но посмотри на этот холст.
На блеск ботфорт, на отблеск перстней,
На голубые кружева,
На лик, раздумьем обогретый.
Что нам дурная голова
В сравненье со смятеньем цвета!
Что мне король?! Пора весны
Давно прошла. Настала осень.
Давай-ка, бросим на столы
Огнем подернутые кости.
Осла на трон! И в рот – дерьмо,
Пускай жует его как сено.
И ведьма пусть зальет вино
В глухую жопу суверена!
За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании – король.
И жизнь пролетела зря.
Я жалок. Я казню себя.
ОПУС ЧЕТВЕРТЫЙ.
ПЕСНЯ ВЕСЕЛЫХ ИДАЛЬГО, ИМ ПЛЕВАТЬ НА ИСКУССТВО, НО СЛАВА И КРАСОТКИ НЕ ПОМЕШАЮТ…
Франциско – белая ворона —
Придурком несусветным был.
Писал картины для пижонов,
От них мы все зеваем сонно,
К тому ж он ром дешевый пил…
Да разве в этом счастье, братья?
И что картин дурных салон?
Превыше пушки дипломатий,
Опушки солнечных погон,
Зазывный хохот нежных жен,
Души томленье, треск распятий,
И что, друзья, дешевый ром?!
Писать картины стыдно, братья,
Услышав горн и шпаги звон.
ОПУС ПЯТЫЙ.
РЕПЛИКА АНГЕЛОВ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПРАВЫ, ХОТЯ ЧАСТО ОШИБАЮТСЯ
Веселитесь, рыцари,
Наслаждайтесь, рыцари!
Вам еще припомнится
В лапках инквизиции.
Ох уж как припомнится,
Ох уж как запомнится!
Солнышко закатится,
Помертвеет солнышко…
Запоете, храбрые идальго,
Чужим незнакомым голосом
На чужие и совсем незнакомые вам слова.
И поплывете по морю Лжи к берегу Предательства
В бухту Подлости,
Через Большого Убийства туманные острова.
ОПУС ШЕСТОЙ.
ИСПОВЕДЬ ИНКВИЗИТОРА, ЧЬЕ СЕРДЦЕ БОЛИТ, КОГДА ОН РУБИТ ГОЛОВЫ
Мученики догмата,
Страждущий народ,
По веленью Божьему
Просветлеет лоб.
Шелестящей глыбой
Прошуршат слова.
И замрет на дыбе
Мыслей кутерьма.
Ряс жестока сбруя,
Тягостен клобук.
Ох, как аллилуйями
Поражен мой слух!
Мученики догмата,
Хмурый карнавал,
Зазывает холодом,
Стонами подвал.
Там зовут, в наручниках
Свившись тяжело,
Руки всех замученных
Именем Его.
Где же твоя истина?
Пустыри и страх.
Вера твоя вышняя?
Стершийся пятак.
Молишь – не домолишься,
Лишь бросает в дрожь
На кинжале кровушка,
На молитве ложь.
На кинжале кровушка,
На молитве ложь.
Значит, так положено
Сочетаньем звезд…
Как хорек затравленный,
На Христа взгляну,
Ворогам задавленным
Руку протяну.
Руку предававшую другу протяну.
Славно я монашество,
Сладко предаю.
ОПУС СЕДЬМОЙ
О ПОЛЬЗЕ ГОРОСКОПОВ, О ЖАРЕНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МЯСЕ И О БЛАГОУХАНИИ РОЗ
Какой сегодня странный гороскоп:
Луна чудна́. Лукавы гиацинты.
И дьявол в образе козла
Мораль читает о принципах,
Трясет разбойничьим копытом
И тычет прямо в небеса.
Ну что тебе твоя судьба?
Бессмертия не завоюешь.
Пускай ты дни и ночи воешь —
Тебе одна лишь жизнь дана.
Ее прожить – как спичку сжечь,
Как в спячке все проспать, что есть.
И что есть то, что в спячке есть?
Как будто мы не можем снова
Все перечесть и пережечь,
Как будто мы не можем снова…
Сегодня странная луна,
Но гороскоп внушает радость:
Идут прекрасно все дела,
Гораздо лучше, чем вчера.
Подрежьте волосы, не надо
Растить и холить их всерьез.
К врачу идите. Кариес
Зуб источил. Займитесь садом,
Но не срезайте нынче роз.
Контрактов больше заключите.
Детей сегодня не кормите
Своею грудью. Рок зловещ.
Диетою пренебрегите.
Пишите письма. И простите
Своих друзей. Купите вещь
Недорогую на дорогу.
Не сейте просо и овес.
И ради Бога, ради Бога
Не подрезайте нынче роз!
Хотя известно: тот высок,
Кто подрезаем ежедневно,
И нужно стричь и удобрять.
Но не сегодня! Гороскоп
И наши звезды нынче скверны.
Сегодня Каина печать
На наших судьбах.
Рвите груши.
Тампоны заложите в уши…
Нет, гороскоп сегодня хуже,
Чем был вчера.
Тревожно мне.
Треножник пуст, в окне картина:
Сжигают ведьму дикари,
Кретины в масках, арлекины!
Не дашь девчонке двадцати,
И хороша! Темно от звона,
О, замолчите, звонари,
Мне из-за вас не слышно стона,
Не видно огненных волос…
А запах жареного тела
Так удивительно похож
На дух баранины. И даже
Напоминает запах роз…
О, святотатец! Торквемада
Дитя в сравнении с тобой!
Мы все мучители душой
Без исключенья. Торквемада
Хоть честен в помыслах своих,
Не лицемерит, не бубнит,
Что нынче роз срезать не надо,
Что надо сеять, надо печь,
А розы подрезать не надо,
И лучше девушек не жечь.
Пожалуй, точка.
Рассчитываю на продвинутый интеллект современников, которые в умопомрачительных блэкаутах и тонких, как пальчики Суламифь, намеках легко опознают Самого-Самого в испанском короле и прочую клыкастую свиту.
Ныне История забыта.
Но рано или поздно справедливость будет восстановлена.
Уже тикают другие часы, меняются конфигурации и федерации.
Нет ничего старого под солнцем.
Впрочем, нет и нового.
Что прискорбно, однако.

Глава шестая, зануднейшая: дама выбирает колготки, а рыцарь размышляет о гульфике
Дай мне руку, иначе я упаду
Так скользко на этом льду…
Георгий Иванов
Она понятливо улыбнулась и наклонила свою блондинистую головку (внутри меня уже клокотал вулкан – только бы не расплескать, донести, как тарелку горячих щей, полученную у ротного повара!).
Я остановил кэб, галантно отворил дверцу и попросил доставить нас до моей гостиницы, там находился недурственный бар, – зачем ума искать и ездить так далёко? По дороге я узнал, что девицу зовут Розмари, работает она моделью в ночном клубе (понятное дело), а живет около Стратфорда-на-Эйвоне. В баре мы заказали по бокалу божоле (тут мой Везувий грозил уже засыпать лавой всю Помпею), и, одним глотком испив чашу, я предложил продолжить пир в моем номере с богатым мини-баром.
Девица взглянула не меня вопросительно, видимо, рассчитывая, что я тут же обговорю цену.
– Вы останетесь довольны! – сказал я уверенно, как продавец в магазине pret-a-porter (сам для себя твердо решил, что не подниму планку выше ста пятидесяти фунтов), и мы быстренько взгромоздились ко мне на второй этаж.
Тем, кто саркастически кривит рот, я посоветовал бы сначала отсидеть годик в одиночестве хотя бы на даче у приятеля, черпая радости лишь в «Камасутре» с изгалявшимися в невероятных позах индусами и индусками!
В номере я неожиданно почувствовал стыдливость, словно впервые в жизни попал в женскую баню, потом меня охватил трепет портного, снимающего мерку с Марии-Антуанетты, неожиданно прошиб пот, и нос захлебнулся в разнообразных и порою неоднозначных запахах.
Вперед, вперед, нас честь зовет туда, где к славе путь прямой. Одежды рухнули, и моя Даная сверкнула спиной и дала старт лошадкам. [12]12
Явись же в наготе моим очам:Как душам – бремя тел, так и теламНеобходимо сбросить груз одежды,Дабы вкусить блаженство. Лишь невеждыКлюют на шелк, на брошь, на бахрому—Язычники по духу своему! Джон Донн
[Закрыть]
Однако бега задерживались, ибо со мной творилось что-то неладное: пот лился ручьями, вулкан то полыхал, то трагически затухал, почему-то стали леденеть уши и на ногах словно повисли вериги. Пришлось опустошить малую бутылку «Джонни Уокера» с черной наклейкой, принять душ и закурить сигару, дабы обрести хотя бы некоторое спокойствие.
Самое главное, что меня совершенно не волновали тайные силы, установившие за мной наружку и наверняка обставившие номер аудиовизуальной техникой. Пусть моя леди являлась хоть начальником мировой контрразведки, от этого ни ее чуть подзагоревшая нагота (грудь с выдающимися сосками могла, если бы уместилась, влезть в книгу Гиннесса), ни полные губы жрицы любви отнюдь не теряли своей порочной притягательности.
Наконец я обрел второе дыхание, гора Везувий приняла свой образцово-показательный вид, и высохший и обтянутый мускулами Алекс (так казалось) ринулся на штурм бастиона, который совершенно неожиданно превратился в Змея Горыныча, выпустившего свои скользкие щупальца (если я не путаю его с двумя змеями, пожиравшими детей Лаокоона – вот он, избыток эрудиции!).
Оглушительно гремели пушки, разбивались о башни глыбы из катапульты, гигантские лестницы царапали крепостные стены и по ним карабкались вооруженные до зубов воины, в общем, «звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала», а дальше я забыл, если и знал. Горыныч, однако, и не думал сдаваться, выкрикивая ожесточенные «нет! нет!», «только через мой труп!», «никогда!», «nevermore» (на манер растрепанного Ворона из Эдгара По), это «nevermore» взрывалось, как набат, призывавший городской люд на ратушную площадь. [13]13
Это напоминало забулдыжный, ха-ха, романс:
«Тобой овладел я на старой скамьеВ тени петербургского сада.И ты мне шептала в любовном огне:„Не надо, не надо, не надо!“»
[Закрыть]
– В чем дело? – прошептал я, исходя ненавистью, перемешанной с вожделением (коктейль горчицы с сахаром).
– У меня аллергия! – выдохнула она, и я отскочил от нее, словно ошпаренный кипятком.
Стыдно признаться, но до сих пор многие слова остаются для меня загадкой, и названная болезнь ассоциировалась с великим Эдгаром, пораженным триппером и виски на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка. Только позднее я узнал, что эта болезнь не страшнее диспепсии или амнезии, видно, моя дама сразу узрела во мне беспросветного оленя, которому можно заговаривать рога. При этом сжала бедра так, словно перевыполняла план в кузнечном цеху, в глазах у меня помутилось, и я даже взвился вверх на пути к небесам. Внезапно осенило: а вдруг это трюк для выбивания баксов? Только этого еще не хватало, или эта шлюха принимала меня за полного олуха? Может, она домогается от меня непомерно высокой цены?
Вся эта гнусная сцена живо напомнила мне годы монастырской юности, когда полоумная девка из деревушки рядом со школой ассов проморила меня целую ночь, подставляя под воспаленный предмет то оловянную кружку с квасом, то взбитое тесто в миске, то приблудного котенка, при этом гнусно похохатывала и щипала меня за мошонку.
Тем не менее временное отступление не означало капитуляции, наглое заявление только удесятерило мои силы, бронепоезд прорвал оборону белогвардейцев и врезался прямо в будку станционного смотрителя.
Трудно описать мои сладкие восторги (они были бы совсем крем-брюле, если бы я просидел в одиночке лет пятьдесят): мы превратились в одно воющее мокрое чудовище, и этому не помешало даже внезапно рухнувшее ложе. От грохота содрогнулись стены всего мира, трещины поехали по викторианским домам напротив, и мне показалось, что нас затопит Ниагара (жалкая, подозрительно желтая капля, удесятеренная взбудораженным воображением).
Мы оба в изнеможении вытянулись на оскверненном паласе – две ракеты, взлетевшие к звездам.
Разговаривать не хотелось.
Розмари выпрыгнула в ванную, а я вылил в себя бутылку кока-колы, вслушиваясь в бешеные, всклокоченные ритмы пульса. Ею же спрыснул бедра, радуясь счастливому финалу.
Вскоре мадам благополучно вернулась, водрузив на своем аллергическом заду махровое полотенце, а я медленным шагом утомленного кенгуру прошествовал в то же заведение. С печалью созерцал я себя в зеркале: знаменитый пробор превратился в веник, запущенный нерадивой уборщицей, раскрасневшаяся физиономия, исцарапанная то ли пуговками наволочки, то ли пучком волос, росших из бородавки партнерши у носа, опухла от страданий. Изысканные морщины на лбу превратились в старческие борозды, о, это был не герой Алекс, а измочаленный ишак, на котором долгие годы таскали воду из арыка. Тут я внезапно обратил внимание на коричневое пятно у самого виска – такие появляются у древних геронтов, доживающих последние годы в качалке под присмотром стервозной супруги, трясущейся по поводу наследства. Приняв душ и спрыснувшись «Плохими мальчиками» (теми самыми, которыми поливали юношей древние пидоры-греки), я возвратился к своей даме, попыхивающей сигаретой.
Предвкушая еще один рискованный рейд на территорию завода, я расположился на постели рядом с Розмари (долго вспоминал ее имя, – склероз, папаша, склероз!) и поцеловал в ухо (этот ритуал обычно приводил в трепет любую даму и включал зажигание в моем лимузине). Однако народ безмолвствовал, пламя из искры не возгорелось, увядшие помидоры не потянулись к солнцу, и французской революции не свершилось.
Я почувствовал себя неудобно, словно заказал бутылку «Мумм» в шикарнейшем «Крийоне», но не обнаружил в карманах ни одного су, и лакей в белых перчатках тяжело дышал и кусал побелевшие от гнева губы.
В голову пришло самое глупое: отделаться с ходу. Порывшись в портмоне, я достал две купюры по пятьдесят фунтов и небрежно бросил на столик (еще пятьдесят оставил на возможный торг).
– Что это? – весьма надменно спросила дама. – Стоимость гондона?
Резануло, как бритвой по сердцу (точнее, шарахнуло бревном по голове).
Позднее я узнал, что существует более интеллигентное слово «кондом», но отзвуки дворового детства не давали вписаться в более интеллигентный вокабуляр.
Должен признаться, что мой опыт взаимодействия с вольными актрисами был достаточно ограничен, к тому же за долгие годы тюрьмы тарифы и прейскуранты наверняка изменились, хотя я прекрасно помнил, что в мои времена средней руки шлюха стоила пару туфель.
А может, я выгляжу жлобом?
Сколько же может стоить уличная баба?
Конечно, я ни на секунду не забывал о том, что дважды засек ее на моем маршруте, это могла быть и случайность, если бы не замена синего шарфа на красный. Но игру следовало вести по обозначенным правилам, и я растянул губы в улыбку:
– Добавить еще пятьдесят?
– Мне не нужны деньги! – ответствовала она голосом оскорбленной Девы Марии.
Шоковые повороты всегда взрывали трясину моего покоя, но на этот раз хвост старого кобеля даже не вздрогнул.
– Честно говоря, мне не хочется тебя отпускать… – сказал я, делая хорошую мину при плохой игре.
– Давай поедем ко мне в деревню! – вдруг предложила она.
От одного слова «деревня» меня бросало в дрожь, и я думал, как были правы классики, когда писали об «идиотизме деревенской жизни». Однако дамочку следовало оперативно раскручивать, не допрашивать же ее грубо по поводу номера моего авто, загоняя под ногти иголки, предоставленные гостиницей для кройки и шитья в свободное от бара время?
Месяц в деревне, деревенский хор у Яра…
– В твое имение? – спросил я с нескрываемой иронией: вдруг она повезет в фамильный замок герцогов Мальборо в Бленхейме?
– У меня небольшой домик в Муррее, это рядом со Стратфордом-на-Эйвоне, поездка займет чуть больше двух часов.
– А как там старик Вилли, жив еще? – звучало, как знакомое «функционируют ли Черноморские бани?», но искренне: ведь к Шакеспеаре я был привязан еще по своей австралийской легенде, да и всегда тянулся к его заковыристым идиомам и жевал ароматный навоз глоссариев.
Тем не менее предложение явилось тактичным выходом из дранга нах остен, и я быстро согласился. Пришлось приодеться в твид и фланель, галстук прочь, знаковые берлингтонские носки, «Черчиз» на толстой подошве, длинный трость-зонт на случай грозы (или метели), этакий потертый индюк, собравшийся поохотиться на лисиц в Шотландии (а заодно и окунуться в знаменитое озеро с чудовищем).
В лобби отеля жужжали осы-посетители, перекатывались чемоданы и спортивные сумки, кто-то испускал пары за компьютером, свора доходяг мучила автомат с водой, призванный заменить закрытый бар. Темнокожая дама за стойкой регистратуры бросила на нас беглый, равнодушный взгляд, как на пролетевших мошек, швейцар с преувеличенной помпой распахнул дверь.
Вот ты и нырнул в неизвестность, Алекс Уилки, или как тебя там, нырнул в миазмы улиц вместе с добропорядочной клиенткой диспепсических лечебниц. Моросил мелкий дождик (занудно, как у Диккенса), мы быстро прошли к подземному гаражу рядом с Рассел-сквер и заняли места в моем «рено». Во время перехода я ощущал некий интуитивный дискомфорт, словно вились вокруг меня то ли вороны, то ли змеи, то ли мириады невидимых частиц из оперы Вагнера. Так бывает, когда вроде бы нет места для беспокойства, но коже больно, нервы напряжены и по голове лупит дирижерской палочкой сбрендивший чертик. То ли это была интуиция, то ли шизофрения, то ли последствие резких и бесполезных подъемов из болота воздержания на Эйфелеву башню семяизвержения, оставалось только догадываться, но пришлось подчиниться року событий и вывести кабриолет на орбиту.
Муррей на карте генеральной кружком отмечен не всегда, зато место рождения Шекспира обозначено на всех поворотах, причем указатели по законам общества потребления направлены в самые разные стороны. (О, славный Мекленбург, где даже одинокая стрелка всегда считалась раритетом, установленным после того, как правительственный членовоз вместо Ильи Муромца въехал в баню к Добрыне Никитичу.)
Но изобилие так же вредно, как и дефицит, я плевался, не зная куда повернуть, и в результате решил подчиниться прямой. Естественно, на пути я сделал обычный финт: съехал с автострады на узкую колею, ведущую к бензозаправке, – рассчитано на фраера, который тупо потянется вслед. Но фокус не удался, несмотря на трезвость факира, за мной никто не дунул или дунул настолько виртуозно, что замутил зеркальце заднего вида.
Машин масса и впереди, и сзади, и параллельно, все летели в целебные окрестные места, и не случайно: северо-запад, несмотря на бурную индустриальную историю страны (включая отсечение головы невинному Карлу I), ухитрился сохранить нетронутость природы и пряный запах древности. Озерца и речки с форелью и лососем, ухоженные леса, набитые самодовольными фазанами, гордые овцы и свиньи, шествующие по пригожим полянам, неожиданно возникающие коттеджи, переложенные балками из черного дуба.
В Мекленбурге такое надругательство над честной жизнью трудолюбивого пахаря давно бы подвигло бы население на красного петуха. И пахарь сделал бы это с чистым сердцем, предварительно полив мочой резное крыльцо и набив мешки умерщвленными павлинами, и был бы абсолютно прав в свете мекленбургского социального равенства, давно вошедшего в кровь и плоть нации.
А в новых, счастливо буржуазных и неукротимо свободных временах пахарь, скорее всего, ухватил бы берданку и пришил бы владельца коттеджа прямой наводкой, попутно засадив под сердце финский нож его прекрасной половине и детушкам. Но, судя по газетам, на родине пахари не торопились, с удовольствием нанимались в охрану и дули дешевую водку, отдаваясь грезам.
Перед Стратфордом мы выехали на колею местного значения, мое волнение в связи с окружавшими машину следящими призраками несколько улеглось, впрочем, на черта им было переть бампер в бампер, если моя наперсница разврата наверняка могла подать сигнал. Вела она себя расслабленно, очевидно, предвкушая утехи в искомой деревушке, выстанывала из себя невнятную попсу и смолила «Мальборо», вперив очи в буколические пейзажи.
Я не стремился ее разочаровывать, и временами игриво поглаживал ее по коленке, напоминавшую высохшую лапу сдохшего крокодила.
Вот и Муррей, воистину гордость английского крестьянства (впрочем, там жили – не тужили всевозможные жулики-банкиры и прочие кровососы). Привлекательная церквушка XII века с обветшавшей крышей, заросшая камышом речка с тропой для толстопузого туриста, два живописных паба рядом (представляю, как аборигены переходили из одного заведения в другое, накачиваясь пивом, а потом брели под пуховое одеяло, задыхаясь от затхлой любви их благонамеренных супружниц).
Тут мы немного покрутили по гравиевой дорожке и подъехали к одноэтажному домику, напоминавшему благоустроенный сарай.
Я выскочил первым и галантно раскрыл дверцу кареты, изо всех сил корча из себя благовоспитанного джентльмена, – играть до конца, играть и бдеть, не забывая ни на секунду о потенциальной угрозе.
Если бы знать, от кого именно.
Играть на лезвии ножа, дрожа от сладости пореза, – и я проследовал в караван-сарай, изучая спину, с которой, возможно, спрыгивали разношерстные невидимые блошки – носители аллергии.
Чуть смягченный дезодорантами запах кошачьей мочи ворвался мне в ноздри, и я сразу вспомнил свою мекленбургскую даму, ненавидевшую меньших братьев этого рода. Боже, сколько на этой почве случалось жутких скандалов, с какой ненавистью вышвыривала она котов, которых я обожал затаскивать в квартиру, подобрав в подъезде или рядом с помойкой!
Где вы теперь, кто вам целует пальцы?
Живешь ли ты с Сережей, или он уже вышел в люди и вылетел из гнезда? Эта мысль так часто посещала меня, что превратилась в тупую боль, которую я чувствовал, даже не включив мотор воспоминаний, она стала моей частью, словно второе сердце. [14]14
Лез в голову стишок из старика Бена Джонсона:
«Прощай, сынок! Немилосердный РокМне будто руку правую отсек.Тебя мне Бог лишь на семь лет ссудил;Я должен был платить – и заплатил!»
[Закрыть]
Приют моей крошки являл собой банальность средней руки: рецепция с торшерами, диванами, баром и камином, спальня с огромным ложем (словно для Людовика с двумя Мариями-Антуанеттами) и зеркальным шкафом. Кухня, сплошь уставленная и увешанная тарелками и фигурками из фарфора и фаянса, – истинно английский кич, с веками превратившийся в так называемый деревенский стиль.
Как я и ожидал, к нам под ноги выскочило целое стадо хвостатых созданий, остальные мерцали зелеными глазами из всех углов комнат. Я успел заметить, что плошки, расставленные по апартаментам, заботливо наполнены едой, что означало участие в хозяйстве моей субретки и других лиц. При виде королевского ложа во мне вновь проснулись дурные инстинкты, казалось, что с Розмари мы прожили, если можно выразиться не скабрезно, душа в душу многие годы, комната осветилась любовным сиянием, и я подполз к траншее.
Один из котов, словно издеваясь, вцепился тигром в большой палец моей ноги и, урча, стал его облизывать, издавая сексуальное урчание.
Этого еще не хватало! Но как его оторвать? Как вообще вырваться из этой тоски? Открыть Монтеня скуки ради? Выпить бутылку «гленморанджи»? Нарубить дров, разжечь камин, завалиться в кресло, укрыв колени шотландским пледом?
Наконец проклятый кот прекратил свое мерзкое действо и отпустил мою несчастную плоть. Стало еще тоскливее, и я уже жутко жалел, что согласился на поездку с Розмари.
– А не рвануть ли нам в град великого из великих? – предложил я. – Давненько я не бродил по его затертым тротуарам!
«Давненько» означало зарю моей благотворительной деятельности, когда я осваивал свою легенду-биографию с австралийским папой – шекспироведом, понятно, что неделю я проболтался в Стратфорде, дабы мои познания Шекспира не выглядели плодами программы мекленбургского техникума.
Контрагент не возражал, и через двадцать минут мы уже парковались у неказистого вокзальчика Стратфорда.
Городишко выродился в образцово-показательный туристский центр: все вычищено, все покрашено, все рассчитано на кретина. Именно он поверит, что так все и выглядело при Елизавете, якобы почившей девственницей (это возбуждало правителей мира, и они без устали к ней подкатывались).
Надратый Вилли (он и умер от пьянки по случаю своего дня рождения) под ручку с таким же пропойцей Крисом Марло переходили из кабака в кабак, фехтовали друг с другом на улицах и засыпали в навозной куче рядом с домом мамаши гения Мэри Арден.
Ноги вынесли нас прямо к зданию Королевского шекспировского театра и вялотекущему Эйвону, в котором бултыхались гуси-утки-лебеди и множество других пернатых, запущенных сюда для услаждения взора сентиментальных идиотов.
Вот и сам Вилли, скромняга в окружении своих персонажей. Вот толстопузый весельчак Фальстаф, вот хрупкий, безвольный Гамлет, а вот и моя любимая леди Макбет – «леди долго руки мыла, леди долго руки терла, эта леди не забыла окровавленного горла…». Не хватало еще парня с ослепительно красным носом, который освещал лестницу в винный погреб.
Захотелось встать рядом, нацепить канотье, сделать ручкой и войти в историю. Увы и ах, это не прокатиться на «Симплоне» от Стамбула до Венеции и обратно, отражаясь в начищенных медных завитушках купе и запахах свежевыловленных омаров, исходящих от официантов во фраках. А как же идиллия старости: сборища пенсионеров-ветеранов Монастыря для обмена опытом (когда морочат голову собственными подвигами)? Или посиделки с внуками и правнуками на завалинке во дворце Бельведер?
…Покрутившись по улочкам, мы вышли к зданию в стиле модерн, где размещался центр по изучению и приобщению. Рядом стояло захудалое, но приведенное в порядок здание, где Вилли якобы издал свой первый победный клич, просунувшись из чрева матери (можно вообразить это величавое зрелище!).
Честно говоря, переть туда у меня не было никакого желания, но Розмари (казалось, что она никогда не посещала сей град, – обычная история с теми, кто живет рядом с Эйфелевой или Британским музеем) скорчила капризную физиономию, и мне пришлось поплыть в фарватере ее юбки.
Предварительно я двинулся в общественный клозет во дворике, рядом стоял унылый бюст индийского поэта Рабиндраната Тагора (так же уместно, как монумент 26 Бакинских комиссаров), там я немного убавил своей вселенской тоски и вышел на простор. Тут ко мне и прицепился высокий субъект в черной, широкополой шляпе, очень напоминавший популярного актера, не вылезавшего из мекленбургского эфира.
– Сэр, не нужен ли вам квалифицированный гид, знающий Шекспира как свои пять пальцев?
– Сколько это будет стоить? – практично спросил я, опасаясь потери своих миллиардов.
– Ни пенса. Я студент, и таким образом мы проходим практику.
Я с любопытством осмотрел мятую куртку, скрывавшую пузырек живота, потертые ливайсы в отрепьях и замызганные ботинки со стоптанными каблуками. Студенту уже давно перевалило за тридцать, на морде цвели следы системного пьянства, и он совсем не походил на юношу с взором горящим.
– Где же вы учитесь и что изучаете? – полюбопытствовал я.
– Крайстчерч, Оксфорд. К сожалению, факультативно (прохиндей понимал, что с такой мордой трудно сойти за студента), люблю быть вольной птахой. А изучаю я философию…
– Похвально. Что-то меня не тянет на поход по музеям. Разве можно восстановить прошлое спустя пять веков, если даже вчерашний день каждому видится по-своему?
– Напрасно вы так думаете. А ведь на вас лежит знак Шекспира… редко, кому так везет… – шелестел он.
Я оглянулся в поисках Розмари, рассчитывая, что с ее помощью отделаюсь от нахала, однако моя королева отвалила, видимо, углубившись в другие катакомбы.
– Что значит «знак Шекспира»?
– Чувствуется, что вы не изучали пифагорейскую доктрину метопсихоза. Она воспринималась, как переселение души в последующие тела. Сам Пифагор был сначала Эталидесом, сыном Меркурия; затем Эвфорбу-сом, сыном Панфоя, павшим от руки Менелая в Троянской войне; далее Гермотимеем, пророком в Клазо-менах, городе в Ионии; затем смиренным рыбаком и, наконец, философом с Самоса. (Одно это перечисление давило, как стопа слона на задыхавшегося муравья.)
Эге, подумал я, угораздило же меня столкнуться не просто с прохиндеем, но и с болтуном! Сейчас затуманит, обволочет бредятиной, а в результате утянет из кармана кошелек.
– И все же насчет знака… – перебил я его.
– Дело в том, что вы удивительно похожи на Френсиса Бэкона. А портрет лорда Бэкона в издании 1640 года «О достоинстве и приумножении наук» при наложении его на портрет Шекспира из первых четырех фолио шекспировских пьес без всяких сомнений устанавливает идентичность этих двух лиц. Впоследствии на свете появилось много выдающихся деятелей, ликом своим практически не отличающихся от великого Вильяма…
Только этого мне не хватало, подумал я, подцепил-таки родственничка… впрочем, а почему бы и нет? Шакеспеаре тоже временами шпионил, да и кто не занимался этим благородным делом в свихнувшейся на шпионаже доброй старой Англии? Один Дефо, бывало, составлял расстрельные списки диссидентов и передавал их грозному шефу Уолсингему.
– Что ж, уважаемый студент (тут я иронически поднял бровь, казалось, что она (бровь) шелестит над виском, словно продолжение чуба запорожца), давайте пройдем в покои, послушаем ваш просвещенный рассказ. Как, кстати, вас зовут?
– Артур.
– Уж не переселилась в вас душа короля Артура? – плоско съязвил я, кстати, за дурацкие шутки в свое время в школе меня прозвали «мудаком».
– Возможно, – ответил он на полном серьезе. – Но напрямую я веду отсчет от сэра Артура Конан Дойла.
Бомж (а кем еще он был?) неожиданно снял необъятную шляпу и низко поклонился на придворный манер, шаркнув истоптанным башмаком. Я проследовал за авантюристом в дом гения из гениев. Не могу сказать, что я засыпал от его рассказов, но никогда в жизни не встречал я такого огромного количества помоев, вылитых на моего любимца. И в школе не учился (в Стратфорде ее попросту не было), и родители выделялись своей вопиющей неграмотностью, и шесть образцов его сохранившихся рукописей (три из них – завещание) выдают человека, не владеющего пером, и никто не видел рукописного текста его пьес или сонетов. Жуткий скряга, завещавший жене только кровать, а нищим – пять фунтов. В судебном порядке изъял у одного задолжавшего земляка два шиллинга и в разгар своей литературной деятельности больше всего был занят скупкой солода для пивоварения.