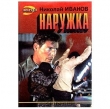Текст книги "И ад следовал за ним: Выстрел"
Автор книги: Михаил Любимов
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Михаил Петрович Любимов
И ад следовал за ним: Выстрел
Из гласных, идущих горлом,
Выбери «Ы», придуманное монголом,
Сделай его существительным, сделай его глаголом,
Наречьем и междометием. «Ы» – общий вдох и выдох!
«Ы» мы хрипим, блюя от потерь и выгод,
либо кидаясь к двери с табличкой «выход».
Но там стоишь ты, с дрыном, глаза навыкат.
Иосиф Бродский
Выстрел

Вместо предисловия
Профессору Генри Льюису
7 Стэнхоуп-террас, Лондон, W2, Великобритания
Уважаемый сэр!
Много воды утекло под мостами с момента наших достаточно близких контактов, мир изменился на глазах и продолжает меняться, несмотря на наши недоуменные физиономии, которые то же время скручивает весьма беспощадно и порою самым недостойным образом.
Как мы оба радовались, когда грянула так называемая перестройка! Казалось, что произошла мировая революция (конечно, не в стиле громовержца Льва Троцкого!), всеобщее замирение охватило народы, и символ этого – грозная Берлинская стена – превратился в груду мусора, размалеванную бродячими художниками на радость всех свободных людей планеты.
Помнится, мы даже смели мечтать, что благоденствие опустится даже на самых непримиримых врагов – на разведывательные службы, и руки противников сомкнутся в дружеских рукопожатиях. М-да, тайные агенты оказались не менее способными, чем их хозяева, они даже превзошли любвеобильных президентов и плачущих от умиления премьер-министров: послышались призывы к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, обмену информацией об иных угрозах, ставших привычными для нашей повседневности.
Чувствую, что непокорное перо несет меня в длинное путешествие, и потому возвращаюсь к исходной причине моего письма: Алексу Уилки. Он, к счастью, жив, более того, продолжает радовать нас своими новыми шедеврами, которые, на мой нелитературный взгляд, дают все больше пищи для психиатров. Признаюсь, что я не имел чести с ним встречаться, да и желания такового не имею. Однако Уилки просит помочь с изданием его книги, в частности, оживить ее приличным предисловием. И тут, конечно, моя первая мысль обращена к вам: кто еще может лучше украсить труд бедного шпиона?
Однако я расписался, видимо, склероз влияет и на чувство меры.
Искренне Ваш
Михаил Любимов
Михаилу Любимову
Тверской бульвар, 23, Москва, Россия
Уважаемый сэр!
Я думал, что только англичане столь предупредительны и щепетильны в своих просьбах, но оказывается, и русские вполне с нами соревнуются и даже превосходят. Ну конечно, я не откажу ни Вам, ни милому моему сердцу Алексу Уилки!
Превратности перестройки поначалу огорчили меня, но потом эйфорию сменил философский подход: а что, собственно, изменилось? Нам лишь казалось, что конец коммунизма приведет к единению и ликвидации границ. Ан нет! Геополитика никуда не исчезла, и даже в объятиях Франции Германия никогда не забудет о позоре и Версальского мира, и Нюрнбергского процесса.
Так что успокоимся и будем пить свой чай, тем паче, что, по слухам, в России сейчас популярен наш великолепный Earl Grey, ради которого, ей-богу, стоило разрушать железный занавес.
Должен признаться, что Лондон становится все противнее: он катастрофически почернел и пожелтел, лучшими ресторанами вроде «Ритц» или «Брауне» (что на Albemarle) управляют итальянцы, склонные заменить недожаренный стейк макаронами, и даже мой любимый открытый театр в Холланд-парке функционирует нерегулярно. Но что делать? Видимо, это закон жизни, вызывающий наше с Вами возмущение, но отнюдь не препятствующий нашим потомкам творить, совокупляться, пить пиво и ездить на скачки в Аскот.
Счастлив получить от Вас весточку.
Искренне Ваш Генри Льюис
Профессор Генри Льюис
7Стэнхоуп-террас, Лондон, W2, Великобритания
Дорогой профессор!
Совершенно неожиданно Ваше письмо взбудоражило меня до крайности: вспомнил я то время, когда обращали на себя внимание лишь темнокожие ямайцы, весь центр Лондона кишел серыми котелками, а порой и цилиндрами. В знаменитом «Симпсоне» полагалось дать шиллинг (тогда еще существовали бобы, а 20 бобов составляли одну гинею) за разделку ростбифа (воплощение Орфея, мастер с золингеновским ножом, священнодействовал над мясом), в Сити еще не было Барбикона, а одна мысль о жутковатом чертовом колесе неподалеку от Вестминстерского дворца повергнула бы слабонервных в обморок.
И я подумал: что нам все эти споры о важности или бесполезности шпионажа, если существуют зеленые поляны, прелестные леди и красное вино, пахнущее бордосской, самой реликтовой лозой?
На наш век хватит разведки, хотя в век телевизора, радио, факса, Интернета, нанотехнологий и пр. и пр. этот род человеческой деятельности больше удовлетворяет тщеславие (и карман) чиновников, а не служит интересам общества. Как смешны беготня по крышам с пистолетом в руке, возня с тайником в подъезде (уж простите, но родимые подъезды насквозь пропахли куревом и мочой, будучи постоянным прибежищем бомжей). Как нелепа встреча с тайным агентом в полночь в Булонском лесу или в турецкой бане рядом со Святой Софией. Как прекрасно сидеть у телевизора, смотреть шпионскую белиберду, дымить привычным «Орликом» и запивать аромат табачной смеси «Английская кожа» не менее изысканным «Эрл Греем», дарованным нам перестройкой…
Вы, конечно, понимаете, что я пытаюсь легко пародировать собственную позицию. На самом деле, настроение у меня отнюдь не столь благодушное, даже мрачное. Под фанфары перестройки не только произошло разрушение Советского Союза, что привело к обострению конфликтов, но и тихое продвижение НАТО на Восток, чего никто не ожидал во времена воссоединения Германии. Поглаживая Горбачева и Ельцина по либеральной шерстке, Запад медленно и искусно внедрился в сферы влияния Советского Союза и ловко там обосновался. Ваши правители, Генри, усиленно настраивают Украину и Грузию (на примете у них и другие бывшие соцреспублики) на конфронтацию с Россией. Ну а в сфере разведки царит полный бардак. На поверхности все тихо, или звенят заверения о мире и сотрудничестве (так бывало и во время «холодной войны»), в то же время на Западе постоянно публикуют секретные архивы, иногда их привозят совершенно спокойно русские экс-разведчики, получая за это солидный куш. Пенсионеры ЦРУ и СИС считают своим долгом копаться в московских архивах и открывать новые тайны. Уже выросла целая западная литература, построенная на советских секретах, Запад между тем и не собирается приоткрывать секреты даже пятидесятилетней давности…
Так что перестройка, как оказалось, затронула лишь нашу страну. Впрочем, иногда случаются кризисы, в которых тонем мы вместе и вместе спасаемся (или так только кажется?), и это обнадеживает и толкает нас на новые подвиги и глупости. Впрочем, ничто не может повлиять на нашу дружбу. Искренне Ваш
Михаил Любимов

Глава первая, очень малоподвижная, ибо все увязло в гиннессах и молтах, а человеку грустно, и не хочется вылезать из бочки
То я смиренно не подъемлю глаз,
То вместе с бесами пускаюсь в пляс.
Григор Нарекаци
Пинта «Гиннесса», помноженная на ностальгию и промозглость поздней осени, неизбежно ведет к незаметному сдвигу крыши.
Именно эта фигня и начинала накатываться на меня в знаменитом пабе «Шерлок Холмс», что почти рядом с Трафальгарской площадью.
Устроившись на втором этаже, я рассеянно обозревал кабинет старого знакомца Холмса в вольтеровском кресле, с прямым «данхиллом» в лошадиной челюсти. Много лет назад, задолго до моего прямого попадания в лондонскую темницу, рядом с ним протирал штаны до тупости верный Уотсон (или Ватсон, как переводят толмачи, ненавидящие игривое округление губ и коитус языка с альвеолами). Ныне сей пафосный персонаж выпал из игры, видимо, после перехода ресторации в руки ветреных итальянцев, не шибко петривших в Конан Дойле и к тому же увязших в ремонте. На мое mot, не пришил ли Уотсона злобный профессор Мориарти, официант-макаронник лишь пожал плечами, вряд ли осознавая всю блестящую английскость этого персонажа. Весь ресторан был обклеен постерами и вырезками из газет на темы бравого Шерлока, фотографиями исполнителей в киношедеврах, цветами и прочей параферналией или, как говорят, тутти-фрутти.
Бросок в голубую мечту, смелая экстраполяция: бар им. тов. Алекса в Музее Монастырской Славы. Стены обклеены чемоданными бирками (как расцвечивают они элегантные samsonites!), авиа– и автобусными билетами до мест явок (включая необитаемые острова), снимками тайничков, обертками отельного мыла всех стран и народов (особенно хороши ароматные гондолки из венецианского отеля на Grand Canal, что недалеко от статуи кондотьера Коллеоне на коне с мощным задом). Заходит престарелый Маня и пускает запоздалую слезу (не повысил героя во время в должности, по этому поводу и вырос Мост Вздохов), молодые монахи делают стойку на бронзовый бюст Алекса и обещают делать с героя свои бесценные жизни…
Но полно, Фауст!
В глубине высился бар с царственным барменом, равнодушно взиравшим на люд, барахтающийся в пармезанах и соусе болонезе.
М-да, шумели войны, сотрясали мир землетрясения, бушевал СПИД, а паб стоял во всей своей распабной красе, правда, меню переполнили лазаньи-пейзане, каннеллони-каналетто и пиццы-уффици.
О, где вы, недожаренные мажоры с кровью в «Simpson», что на Strand?
Глобализация вместе с фастфудом, тотальной говорильней по мобильникам (самое страшное – отвлекающая болтовня в общественном сортире) и остальными аксессуарами прогресса изрядно подорвали Альбион. Исчезли былые фавориты – рестораны «Прюнье» на Сент-Джеймс и «Алекс де Франс» на Джермин-стрит, хорошо, что еще остались винная лавчонка «Berry Brothers & Rudd» и ресторан «Уилтоне», где можно по-человечески пожрать (когда-то блистала там дуврская соль, поджаренная в хлебной крошке). Да и «Ритц» еще не превратился в бордель в цветном Ноттинг Хилле, где гуталиновые ямайцы с блестящими жирными боками гоняют за виски пенсионеров – белых официантов (от этого бывшие колониальные полковники выглядят еще занюханнее). Броские бутики с серыми куртками, последние вместе с кроссовками и бейсболками стали доминантой в туалете народных масс, – а в прежние времена даже на проституточью улицу в оных не выходили.
На всех углах афро-азиатские физии жарили свои шиш и прочие кебабы, ухмылялись и мысленно клали большой кердык на аборигенов. Поджаренное сваливали в пластмассовые коробки, все разлеталось в момент, раздиралось, пожиралось, исторгалось…
Душа вызывала из прошлого хотя бы один мышиный котелок или благородный зонт с бамбуковой ручкой, но… вокруг куртки, сигаретная вонища, пивные бутылки, салфетки в кетчупе, рваные газеты… Потом жратву перемалывали в офисе, обставленном в стиле high-tech, под писк пейджеров, пение сигнализации авто за окном, всхлипы мобильников, в холодящем свете неоновых ламп. [1]1
Я не пою аллилуйю овсянке, хлебным сосискам, яичнице с беконом и прочим безднам английской кухни, но ведь англичане всегда умели поесть на французский или на тот же итальянский манер. Существовали неторопливость, привередливость (по несколько раз отсылали вино), joi de vivre, наконец!
[Закрыть]
Соседние три стола оккупировали волосатые итальяшки, их я возненавидел с тех пор, как почти рядом с римским собором Св. Петра (туда я шел на исповедь к одному из епископов) меня облепили вонючие детишки и сперли между делом кошелек. Напрасно я взывал к полиции и простым гражданам, последние проявляли живейшее любопытство, но никто не пошевелился, пся крев!
Ресторанные соседи громко галдели на своем тарабарском языке, хотя я бросал на них сдержанные, но испепеляющие взоры, призывавшие вести себя в рамках приличий. Но никто не обращал на это внимания, словно дело происходило во времена завоеваний Цезаря, когда местных жителей почитали за скотов.
С понятным намерением вымыть руки я ткнулся в туалет, но тот оказался наглухо закрытым. Пабликан, заметив мои робкие телодвижения (возможно, и бедрами), безмолвно протянул похожую на кочергу обувную ложку, к которой был привязан ключ. Ну и ну! С таким безобразием в свободной стране я до сих пор не сталкивался. Видимо, грозная масса туристов с раздутыми мочевыми пузырями вынудила начальство принять, как говорится, надлежащие меры. А ведь в былые времена тут бушевал либерализм, и хомо сапиенсы прямо бросались в сифилисный сортир, даже не подумав в оправдание заказать кружку пива.
Да и вообще не к лучшему изменился папаша Лондон. Модернистские уродства вроде стеклянных коробок, [2]2
И во всем виноват прощелыга Ле Корбюзье, который чуть не разрушил Кремль ради своих уродств, которые, увы, ныне охватили весь мир.
[Закрыть]«чертова колеса» для дураков, [3]3
«Дурак» по-турецки означает «стой», и это весьма важно для читателя, не знающего турецкого.
[Закрыть]обозревавших Лондон с птичьего полета (оно чем-то напоминало аналогичное сооружение в Парке культуры имени Буревестника), новые мосты, готовые вот-вот рухнуть в серые воды Темзы.
Все те же белесо-зеленые памятники великим, заслуженно обкаканные жирными голубями, которые по-прежнему бесчинствовали на Трафальгарской. С набережной просматривался тоскливый силуэт моста Тауэр (удивительно, что меня не посадили в тамошний каземат, где содержали любимого мною поэта, канцлера Уолтера Рэли, пока благополучно не отрубили ему голову). Ныне башня в Тауэре, где его морили, превратилась в музей, рядом бродили дохловатые вороны и декоративно-живописные бифитеры с алебардами.
Кто знает, вдруг наступят времена, когда и камера, где томился скромный Алекс Уилки, станет достопримечательностью, как стала ею вывезенная из Мекленбурга и установленная на Темзе в Гринвиче грозная подлодка, в которой устроили ресторацию. Последнее было особенно обидно, хотя я давно пережил развал Мекленбурга, содеянный секретутом обкома губернии, перелицованной после Великой Мекленбургской Бучи в оную памяти Яшки, точнее Янкеля Аптекмана, первого председателя ВЦИК (забавно, словно кто-то цыкнул или сикнул).
Вот уже три дня я, говоря жутко высокопарным языком, жадно вдыхал воздух свободы и совершенно забыл, что был схвачен полицией на яхте и осужден самым гуманным в мире судом за убийство некоего беспачпортного бродяги с выдающейся челюстью. Свою вину я признал, правда, отрицал знакомство с жертвой, залезшим на мою яхту.
Попытки обвинителя пришить мне шпионские дела потерпели сокрушительное фиаско: свидетели отсутствовали, сам я молчал, как задумчивая вобла, и только пожимал плечами и делал бровки домиком на манер профурсетки. Хотя мое австралийское происхождение вызывало сомнение, обвинение не смогло раскрутить истинную версию: британские спецслужбы, боясь вляпаться в новое дерьмо (много его было в героической биографии мистера Уилки, аж выше головы), благоразумно умыли руки. В Мекленбурге, к счастью, не нашлось отчаянно светлой головы, которая организовала бы по всему миру демонстрации в мою защиту типа «'свободу Анжеле Дэвис!», что, бесспорно, привело бы к пересмотру дела и припайке мне лишних годков.
С добровольным уходом в отставку бывшего секретута Яшкиной губернии вокруг моей темницы в графстве Чешир, – не помню, какой по счету, – начались некие тайные шелесты и шепоты.
Начальник тюрьмы однажды призвал меня в свой кабинет и, улыбаясь аки Чеширский Кот, стал ласково расспрашивать о жизни, о самочувствии, о планах на случай амнистии, о желании создать тюремные мемуары, о претензиях и пожеланиях. Намек английский я усек, хотя и бровью не повел, немного помычал и сказал, что соскучился по кенгуру, коалам и особенно по яйцам страусов эму, которые я привык есть всмятку по утрам. Отсюда понятное желание покинуть столицу гордого Альбиона (тут я сделал страдальческую гримасу, обозначившую всю горечь отношения к стране, бросившую несчастного австралийца в темницу). Сказал, что мечтаю поселиться в тихом городке на берегу океана, заняться рыбной ловлей и даже, возможно, открыть уютный кабачок, украсив его сетями и фотографиями моих любимых австралийских писателей Питера Малуфа и Анны Гиббс. Их я, естественно, не читал, но прекрасно помнил свою легенду-биографию, в ней присутствовали эти, возможно, одаренные авторы, если, конечно, мои кураторы не вытянули эти фамилии из состава игроков австралийской хоккейной сборной.
В один прекрасный день я снова предстал перед начальником тюрьмы, у которого в кабинете сидел еще один типчик. Хотя никто его не представлял, я нюхом почувствовал представителя спецслужб (каких неизвестно), от них одинаково пованивает загадочной многозначительностью, да и морды у всех напряженно невинны, не зря они трудятся в благотворительных фондах. На этот раз начальничек меня ни о чем не расспрашивал, любезно улыбаясь, протянул мой старый паспорт (в свое время Монастырь разработал процесс его получения столь филигранно, что формально, несмотря на полный провал моей легенды, к нему невозможно было подкопаться – ведь он был выдан на основе абсолютно легального свидетельства о рождении), пересчитал и вернул в свое время изъятые фунты, чеки, что умасливало сердце и порождало мысли о счастливом будущем.
– А как в отношении моего остального имущества? – нагло вопросил я, знавший английскую приверженность частной собственности – священной корове еще со времен Магны Карты. – Я хотел бы получить назад моего попугая! (Я где-то вычитал, что некоторые попугаи живут до ста лет.)
Оба прохиндея улыбнулись, а начальник заметил, что вся моя собственность будет мне возвращена законным путем по месту нового жительства. Он не шутил: ведь вернули же англичане беглому Киму Филби всю библиотеку и мебель, оплату доставки, правда, переложили на плечи самого великого шпиона. Интересно, жив ли мой какаду Чарли или подох в голодных муках после моего ареста? [4]4
Чудесный романс одного эмигранта:
«Мой попугай Флобер…Он все поет „люблю, люблю, люблю“И плачет по-французски».
[Закрыть]
Стараясь скрыть потрясение внезапным освобождением, я взял деньги и паспорт и уже на следующий день гужевался в отеле «Амбассадорс» недалеко от Юстон-роуд (там меня поразила хохлацкая обслуга, сбежавшая с родины на заработки).
Первым делом я отправился в любимый мужской магазин «Остин Рид», что на Риджент-стрит, и приобрел там пару твидовых пиджаков и фланелевых брюк, рубашек в модную клетку, разноцветных краватов, а заодно дюжину берлингтонских носков и туфли фирмы «Чер-чиз», украшение любого почтенного сквайра. В «Селфри-джиз» на Оксфорд-стрит я влез в парфюмерный отдел и впился носом в пробные флаконы с таким остервенением, что вызвал ажиотаж у продавщиц, по-видимому, заподозривших во мне уличного ворюгу.
О, как изменился мир! Мои излюбленные парфюмы уступили место «Уго Боссу», «Герлену» и «Жанфранко Ферре» (навернулись слезы при воспоминании об ушедшем в Лету «Шипре»). Голова уже помутилась от обилия запахов, и я остановился на туалетной воде «Плохие мальчики», скорее всего, утехе педерастов, теперь уже почти полностью легализованных в свободных и процветающих странах.
…За окном было сумрачно и сыро – причина английского сплина, которым легко заразиться и иностранцу.
Что случится с мастерской мира и ее гордым Лондоном, если обрушить на них снега? Карл Генрихович делал ставку на рабочий класс, который, обнищав и озверев, сбросит с трона монархов, разгонит парламент, порежет всех овец, создаст хаос и построит в нем рай. Карлуша дал маху (одно извинение: он родился в Трире и до конца дней сохранил нежную привязанность к вину, а оно, как известно, в отличие от «Гленливета», отяжеляет фантазию), пролетариат зажирел – тут бы и явиться на свет новому философу с новым откровением. А оно легко приходит на ум и не связано с пресловутой классовой борьбой. Обрушь, о небо, снежок на Лондон, закружи метель, поиграй буран, закрутите снега на Пикадилли и Риджент-стрит! И не надо мировой и иной революции, мгновенно остановятся автомобили и даблдеккеры, и замрет от перегрузки метро. Биржа тут же лопнет, цены на нефть сделают бензин недоступным, канализация прохудится, и улицы упьются желтыми экскрементами. [5]5
Не монолог ли это короля Лира, озверевшего от подлости своих дочерей?
[Закрыть]Снег, как мирное оружие революции, – вот великое изобретение гениального Алекса, муторно скучавшего в компании говорливых итальяшек, навинчивающих на вилки спагетти болонезе. [6]6
От этой пасты гордых болонцев тяжелеет живот и чудится нищета собственной старости. Как у Георгия Иванова:
Бредет старик на рыбный рынокКупить полфунта судака.Блестят мимозы от дождинок,Блестит зеркальная река.Никто его не пожалеет,И не за что его жалеть.Старик скрипучий околеет,Как всем придется околеть…
[Закрыть]
Грянул двадцать первый век – хорошо это или плохо?
Утекающие минуты не сулят ничего хорошего в связи с утеканием, если не считать того, что идиоты называют опытом – обветшалый рюкзак с несбывшимися надеждами, глупостями и подлостями.
Позади лондонская тюрьма, относительно комфортабельная по меркам мекленбургского уголовника, всего лишь в нескольких милях от уютной квартирки Алекса у Хемстед-хита и грандиозной усыпальницы на Хайгейт, где сам Генрихович и маленькие Генриховичи – его адепты – ведут свой подземный диспут по поводу неизбежно светлого будущего. Никогда я не работал над собой так усердно, как в тюрьме. По любым меркам получил сверхакадемическое образование, удивительно, что не призвали в Оксфорд для водружения шапочки и мантии. Даже ходил в созданный по просьбе тюремных меломанов кружок по изучению музыкальных творений Рихарда Вагнера.
Интенсивное самоусовершенствование на пути познания самого себя и всего вокруг, ночные бдения не над щелкоперами типа Тургенева или Фолкнера, а над исповедями святого Августина и над мекленбургскими религиозными философами, выметенными Учителем не только с Родины, но и из мозгов ее населения. Впрочем, углублению в колодцы собственной души весьма мешали внешние события. После потока смертей почтенных старцев на пирамиду власти взгромоздился только что выбранный, моложавый Самый-Самый, с кастрюлей недоваренных идей и невнятных реформ, и тут Отчизна начала выделывать такие сальто-мортале, от которых рябило в глазах.
Британское телевидение не скупилось на эфир для перестройки, и однажды я чуть не рухнул со стула, когда вдруг на экране появился душегуб из душегубов Бритая Голова, растянул рот в лучезарной улыбочке и долго вещал о правах человека, свободе и демократии. Потом на сцену вывалилось несколько настоятелей (как оказалось, тоже отцов свободы и душеспасителей), они смущались, мялись, перебирали копытцами, как выводок престарелых кабанов, и тоже долдонили, что Монастырь отныне друг народа, и они по этому случаю проводят день открытых дверей с показом заповедного кабинета почившего Самого, вершившего до этого судьбами Монастыря. Странно, что не притащили с собой образцово-показательные наручники, не натирающие кистей, набор витаминных ядов, излечивающих от завихрения мозгов, и заспиртованную голову какого-то диссидента с блаженной улыбкой на оледеневших устах. [7]7
Пресса захлебывалась и превозносила прелести царского строя, а я почему-то вспомнил фото заспиртованной головы убийцы генерала Лауница, выставленной для опознания в Санкт-Петербурге.
[Закрыть]Все аплодировали, а телеведущий раздал генералам значки, на которых в шутку было начертано «агент Монастыря». От всего этого безумия у меня глаза полезли на лоб, особенно поразил Бритая Голова, напоминавший не карлика-тирана, который когда-то буравил Алекса своими глазенками, а доброго патриота, всю жизнь пролежавшего на ДОТе и защищавшего родину еще от татаро-монголов. Вдруг мелькнул «бобрик» шефа Монастыря Мани (он тоже метеором пер на повышение), очень душевно поведавшего о доблестях службы, любимой всем народом. Маня предпочел акцентировать внимание на доблестях агентов тридцатых годов (их в свое время беспощадно расстреляли), и я напрягся: вдруг уста его, сложившись в приличествующий моменту бантик, родят имя героя ранее невидимого фронта, прозябавшего перед телеэкраном в фешенебельной тюрьме Уормуд-скраббс.
Но Маня обратился к молодежи, всегда из романтических порывов обожавшей секретные службы, и похвастался, что и в нынешние нелегкие времена она рвется в службу косяками и прыгает регулярно с парашютом. Одна мысль о кружении в коварных облаках с повисанием на ветвях дуба, естественно, зацепившись задницей за самую острую ветку, навевала на меня траурный марш – фюнебр Шопена вкупе с еще более замогильным адажио Томазо Альбинони (эрудиция, почерпнутая в тюремном кружке, не пролетела буренкам под хвост). Книги выписывал даже из Британского музея (Учитель позавидовал бы, ему-то приходилось туда добираться на автобусе, порою зайцем, что вызывало неудовольствие его мымры Надьки), мог бы замахнуться на библиотеку Конгресса, но наглость тоже ценность и ее следует экономить.
И тут новая сенсация: президент (толстая Ряха, взошедшая на партийных хлебах в городе Янкеля) помиловал всех заключенных в тюрьмах иностранных шпионов, и эти гады тут же выпорхнули на мекленбургские и международные телеэкраны. Они били себя в потасканные белые груди, разрывали бутафорские тельняшки, доказывая, что не вражеские шпионы, а честнейшие борцы за демократию, и посему должны быть причислены если не к лику святых, то к правозащитникам.
О tempore! О mores! Chert poberi, matj, tvoyu perematj!
Думал ли ты, Алекс, о таком?
Карамба, а вдруг и у твердокаменных англичан сожмется от жалости сердце, соберутся на Олд Бейли старички в белых париках до плеч и молвят: «Эй, Алекс Уилки! Ты свободен».
Своего рода благородный жест в ответ на деяние Ряхи.
Ха-ха! Не надейся и не жди.
Западный мир беспощаден и уверен в своей правоте, и если видит, что перед ним дурак, готовый на капитуляцию просто так, из-за своей глупости, то становится жестче и гнуснее. Впрочем, кто же выпустит убийцу, который и не пытался отрицать своей вины? Дурака ты свалял, Алекс Уилки, что не признался в принадлежности к Монастырю, сейчас бы шпионская статья пришлась бы ко двору. Может быть, потребовать пересмотра дела? Бодрись, ситуайен Алекс! Еще какие-нибудь двадцать лет, и в цветущем возрасте восьмидесяти пяти и более лет ты выпорхнешь, как орленок, из темницы сырой на волю. И пройдешь молодцеватой походкой по Пикадилли с литрягой «Гленливета» в руке и с задастой девицей, повисшей на мускулистом плече, не тронутом ревматизмом. О, сладость первого поцелуя! О, водопады виски и тарелка свежесваренного хаша, а еще лучше требухи! И что такое восемьдесят пять лет, если в этом цветущем возрасте предстал в Лондоне дернувший с родины монастырский архивариус, неудачник и дерьмо. Лет десять копировал в архивах документы, выносил их в носках (представляю эти мокрые, провонявшие от страха носки!), закапывал в землю на даче, обливаясь потом. Потом выехал туристом в Вильнюс, переправился в Лондон, облагодетельствовал англичан и состряпал с профессором Оксфорда книгу. Старую задницу подняли на щит, раскопали долгожителей-агентов, покуражились и быстро забыли.
Так думал я в тюрьме, но случилось чудо.
…Я еще раз попросил у пабмена ключ от сакрального места, привел себя в порядок и уставился в туалетное зеркало. М-да, только тщательно вычерченный пробор напоминал о прежнем Алексе (увы, его уже давно изъела моль, высветив изрядную плешь), из глаз не струился неизбывный огонь. Фигура постепенно принимала тошнотворные похоронные черты, ревматизм и геморрой перекосили расшатанный фиакр, истончились ноги и руки, мышцы превратились в селедочные молоки. В не слишком отдаленной перспективе в кадре маячила живописная рухлядь с палочкой в трясущейся руке, отвращавшая, словно «Черный Квадрат» Малевича в писсуаре. [8]8
В голове звучал стих Эдварда Лира на мотив детской песенки:
Так он умер, Дядя Арли,С голубым сачком из марли,Где обрыв над бездной крут;Там его и закопалиИ на камне написали,Что ему ботинки жали,А теперь уже не жмут.
[Закрыть]
Переулок, где затаился ветховатый «Шерлок Холмс», был неожиданно пустынен. Правда, около подъезда дома напротив дефилировала дамочка в куртке и синем шарфе, довольно смазливая шлюшка, рассчитывающая на клиентов в дневное время. Неужели девицы расширили диапазон своего сервиса, забросили Сохо и промышляли даже в респектабельных местах близ адмирала Нельсона? С гордостью я отметил, что, несмотря на или благодаря длительному воздержанию, в моей груди (назовем это так) шевельнулась заветная эмоция, [9]9
Это напоминало рекламу некоего сексуального препарата, увиденную потом на родине: радостный мудозвон с пучком соломы, застрявшей аж в заднице после утех на сеновале, шагает по улице, а на него тоскливо взирает крысоподобный импотент.
[Закрыть]что обнадеживало, и, выпрямив спину, я гусарским шагом вышел на Трафальгарскую площадь, развернулся и двинулся к любимой Пикадилли.
По Сент-Джеймс фланировали отнюдь не холеные джентльмены в котелках, а разгоряченные красные морды в куртках и старых пальтишках. Я остановился около винной лавки «Brothers Berry and Rudd», где в свое время покупал ящиками лучшее бордо, это подняло пласты воспоминаний, хлынувших в мозги, словно все выпитое за прошедшие годы.
Поворот на Пикадилли прямо к отелю «Ритц», вот-вот встречу принца Уэльского: «Добрый день, ваше высочество!» – «Рад видеть вас, сэр! Как сиделось?» – «Неплохо, благодарю, сэр. Вашими молитвами». В предбаннике отеля серо от однотонных одеяний, ни седых бакенбардов, склонившихся над рюмкой порта, ни кринолиновых дам, мурлыкавших в веджвудские чашки. Навстречу вылетела иссохшая (и пересохшая даже для Англии) метрдотель женского рода, запахло партконференцией в клубе имени Несостоявшегося Ксендза – великомученика, с которого Поэт-Самоубийца призывал юношей делать житьё.
Я панически развернулся, словно по ошибке попал в женскую уборную, перешел на другую сторону Пикадилли, двинулся мимо Берлингтонской Арки (мои берлингтонские носки запели «Боже, спаси королеву»), миновал бесцветного Эроса, углубился внутрь когда-то бардачного Сохо. Затем спустился к Стрэнду, вышел на Флит-стрит (оттуда уже слиняли все газеты, переселившись в когда-то трущобный, а теперь небоскребный Докленд), и, предвкушая вечер в хорошем кабаке с негритянским стриптизом, прошагал до собора святого Павла.
В соборе шла заунывная служба, я занял место на скамейке среди прихожан отнюдь не из желания приобщиться к англиканству, а лишь потому, что от хождений у меня разболелась нога (игры остеохондроза, ваше благородие). [10]10
Мысленно вспоминал бывшего настоятеля собора Джона Донна (не могу не сверкнуть эрудицией):
Чужбина тем, быть может, хороша,Что вчуже ты глядишь на мир растленный.Езжай. Куда? – Не все ль равно. ДушаПресытится любою переменой.
[Закрыть]После этого я заскочил в банк, открыл там счет, положив на него фунты, сохраненные пенитенциарным заведением, – не таскать же с собой деньги накануне гуляний в борделе!
Вывалившись из банка на улицу, я неожиданно узрел у витрины магазина напротив ту самую смазливую девицу, только в красном шарфе, а не в синем – вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Какое счастье, что мой профессиональный взгляд не утратил остроты, только идиот мог бы считать это совпадением. Явная наружка! Кому же понадобилось брать меня под колпак? Не скажу, что я шибко удивился, – с самого начала мое освобождение выглядело нереальным и загадочным, что ж, примем новые правила игры, сделаем вид, что ничего не приметили, распустим щеки, изображая благодушие, и продолжим наслаждаться свободой, пока не упекли в какие-нибудь другие хоромы.
Размышляя над новым поворотом событий, я заскочил в прославленный паб «Старый Чеширский сыр», предварительно потоптавшись в дворике дома, где жил и пьянствовал прощелыга и болтун Самуэль Джонсон (между прочим, гордость английской литературы). Дамочка за мной не последовала, правда, вокруг толпилась группа туристов, среди которых наверняка топтался какой-нибудь сыч из наружки. В пабе я выпил эль на втором этаже, просмотрел свежую «Таймс» и снова выполз на Стрэнд. Мой наметанный взгляд сразу обнаружил дамочку в красном шарфе, рассматривающую уцененные колготки, выставленные на улицу. Она перебирала их так живо, словно уже давно ходила босиком, дрожа от холода и сочувственных взглядов прохожих. (Сразу вспомнилась мекленбургская баба времен Усов в голубых фильдеперсовых трусах почти до колен и чулках с потрепанными подвязками, кстати, в этом была своя прелесть, и ночь в коммунальной комнатушке с пердящей старухой за ширмой дышала духами и туманами.)
Кто же меня пасет?
Недолго раздумывая (интуиция всегда была козырной картой Алекса, хотя порой действия рыцаря без должной медитации приводили к позорным фиаско), я перешел на другую сторону улицы и приблизился к магазину. Дамочка не удостоила меня взглядом (возможно, работало боковое зрение, развитое у самок), ее полные губки чуть приоткрылись от созерцания вакханалии колготок, она теребила их обеими руками, словно напрягшиеся фаллосы Приапов, и рассматривала фирменные наклейки, оттопырив задок, источавший флюиды любви.