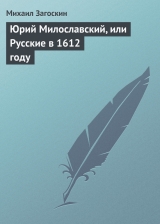
Текст книги "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году"
Автор книги: Михаил Загоскин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В 1584 году умер Иван IV Грозный, кончилось одно из самых ужасных, самых кровавых царствований в истории России. После его царствования страна оказалась разоренной экономически, неустойчивой политически, с армией, совершенно ослабленной казнями военачальников и поражениями в Ливонской войне. "Брошенные деревни, пустующие уезды, наполовину запустевшие города, нищета, голод..." – так описывается состояние тогдашней России в "Краткой истории СССР" (М., Наука, 1972). В писцовых книгах этих лет главным термином был "пустой двор". Поля не обрабатываются, заросли кустарником и лесом. Населения почти нет. Одни вымерли, другие бежали на юг, третьи – особенно женщины и дети – скитаются меж дворов и просят подаяния. Не хватает хлеба, скота; широкие слои населения, особенно крестьяне и холопы, голодают. "Одновременно идет закрепощение крестьян; и по прежним законам крестьяне обязаны были работать на помещиков, которым принадлежала земля, но осенью, после завершения сельскохозяйственных работ, в церковный праздник, посвященный святому Георгию, или, как его называли, Юрию, в Юрьев день крестьяне имели право в поисках лучших условий перейти от одного помещика к другому.
В 1581 году правительство отменило это право крестьян, сделав их крепостными помещиков. Тогда-то и родилась горько-ироническая пословица: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".
На русском престоле Ивана Грозного сменил его сын Федор – слабовольный, неспособный к правлению государством. Всю власть при нем забирает в свои руки брат его жены – Борис Годунов, хитрый царедворец, стремившийся сам занять царский престол.
У Ивана Грозного был еще один сын – девятилетний царевич Дмитрий, живший с матерью в Угличе. В 1591 году он погиб, как утверждает официальная версия правительства Бориса Годунова, наткнувшись на нож, которым играл. Тогда же распространился слух, что царевич был убит по приказу Годунова, расчищавшего себе путь к царскому престолу. Не отвергают этой версии и советские историки.
В 1598 году умер царь Федор, умер бездетным, с ним прекратилась царская династия Рюриковичей.
Борис Годунов путем хитрых интриг добился того, что Земский собор высшее правительственное учреждение – избрал его царем.
Но положение Бориса Годунова на царском престоле с самого начала оказалось довольно шатким– многие родовитые бояре считали, что имеют больше прав на престол, чем сн. Самым значительным противником Годунова стал князь Василий Шуйский – потомок Александра Невского.
В 1601 – 1603 годах Россию, особенно центральные губернии, постигло стихийное бедствие – неурожаи, среди голодающих крестьян началось брожение.
В то же время польский король Сигизмунд III и шведский король Карл IX строили планы завоевательной войны против России.
В 1601 году в Польше появился человек, выдававший себя за сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия, будто бы чудом спасшегося от подосланных Годуновым убийц. Правительство Бориса Годунова объявило, что за царевича Дмитрия выдает себя беглый монах одного московского монастыря Григорий Отрепьев. Однако действительное происхождение самозванца, получившего в русской истории имя Лжедмитрия I, до сих пор неясно. Самозванец обратился к польскому королю с просьбой помочь ему занять якобы принадлежавший ему по праву русский престол, король разрешил польским шляхтичам вступать в армию Лжедмитрия I. Осенью 1604 года Лжедмитрий I с отрядами поляков перешел границу России и двинулся к Москве. Крестьяне, надеясь, что "законный царь" Дмитрий облегчит их положение, присоединялись к нему.
В апреле 1605 года скоропостижно умер Борис Годунов, престол наследовал его сын – шестнадцатилетний Федор. Бояре – скрытые враги Бориса – перешли на сторону Лжедмитрия I. Федор Годунов и его мать были убиты, Лжедмитрий I вступил в Москву.
Но очень скоро и бояре и народ увидели, что их надежды на Лжедмитрия не оправдались: он должен был выполнять взятые на себя перед польским королем обязательства, поляки вели себя в Москве как в завоеванном городе грабили население, бесчинствовали.
17 мая 1606 года москвичи восстали, Лжедмитрий I был убит, польские войска вынуждены были уйти из Москвы.
Теперь занять русский престол удалось князю Василию Шуйскому. В благодарность за то, чго бояре-крепостники поддерживали его, Шуйский стал проводить политику еще большего закрепощения крестьян. Против правительства Шуйского поднялись крестьяне на Украине, во главе восстания стал холоп Иван Болотников, повстанцы подошли к Москве, и только тут правительственным войскам удалось разгромить их.
Однако польско-шведские интервенты не отказывались от своих намерений: в 1607 году в Польше объявился новый самозванец – Лжедмитрий II, он утверждал, что дважды спасся от убийц – и в Угличе, и в Москве. В июне 1608 года с отрядами поляков он подошел к Москве, но взять город не сумел и встал лагерем возле села Тушина, отчего получил прозвище "Тушинский вор".
В сентябре 1609 года войска короля Сигизмунда III, разочаровавшегося в возможностях Тушинского вора, начали открытую интервенцию и осадили Смоленск. Оборону города возглавил воевода Михаил Борисович Шеин. Два года город выдерживал осаду.
Лжедмитрий II, лишенный поддержки со стороны поляков, бежал из Тушинского лагеря и был убит своими же сторонниками.
Между тем большое польское войско под командованием гетмана Жолкевского подошло к Москве. Русская рать, выступившая против него, была разбита. Московские бояре, недовольные Шуйским, составили заговор, свергли его и, впустив войско Жолкевского в Москву, заключили с гетманом договор, по которому русский престол должен был занять сын Сигизмунда III – королевич Владислав, пока же, до прибытия в Москву Владислава, Россией стало править правительство из семи бояр-предателей.
Тогда как бояре заключали соглашение с интервентами, по всей России усиливалась борьба против иноземного нашествия: все еще героически оборонялся Смоленск, выдерживал осаду Троице-Сергиев монастырь под Москвой, в Рязани собиралось русское ополчение из дворян, казаков и крестьян, В марте 1611 года Первое народное ополчение подошло к Москве и начало военные действия против занимавших столицу поляков. Но в самом ополчении началась борьба между его дворянской частью и казацко-крестьянскими отрядами, ополчение распалось.
В мартовских боях на улицах Москвы участвовал воевода князь Дмитрий Пожарский, был тяжело ранен, его увезли в родовую вотчину в Суздаль. Летом 1611 года пал Смоленск, и главные силы Сигизмунда III теперь могли двигаться в глубь России. Тогда же шведские войска захватили Новгород.
Так развивались исторические события до того времени, с которого начинается повествование в романе Загоскина, до "начала апреля 1612 года". Как раз в эти дни Второе ополчение, которое с сентября 1611 года формировалось в Нижнем Новгороде под руководством земского старосты Кузьмы Минина и встретило самую широкую поддержку в народе, готовилось выступить в поход за освобождение Москвы.
Командовать Вторым ополчением пригласили героя мартовских боев в Москве князя Дмитрия Пожарского.
Весной 1612 года Второе ополчение выступило из Нижнего Новгорода и двинулось вверх по Волге к Ярославлю, по пути к нему присоединялись все новые и новые отряды.
Сигизмунд III, узнав об ополчении и предполагая, что гарнизон интервентов, находящийся в Москве, не сможет противостоять ему, послал к Москве свежее войско во главе с гетманом Хоткевичем.
Второе ополчение спешно выступило из Ярославля к Москве, чтобы опередить Хоткевича и не дать его войску соединиться с гарнизоном.
В августе 1612 года отряды Второго ополчения заняли подступы к Москве. Они пришли сюда прежде Хоткевича. Хоткевич попытался пробиться в город, но после двухдневного ожесточенного сражения его войско было разбито.
Отряды Второго ополчения и присоединившиеся к ним москвичи вели бои на улицах, продвигаясь к центру. Наконец, в руках поляков остался только Кремль. Их положение было безнадежно, и 27 октября 1612 года интервенты сложили оружие.
Москва была освобождена.
Хотя многие районы России, в том числе Смоленск и Новгород, пока еще находились в руках захватчиков, но освобождение Москвы, как это понимали русские люди и сами враги, стало залогом близкого и неминуемого изгнания интервентов с территории всей России. Второе общенародное ополчение представляло собой могучую военную и политическую силу. В феврале 1613 года в Москве собрался Земский собор для избрания главы государства – царя.
Такова канва событий того исторического фона, на котором развивается действие романа Загоскина "Юрий Милославский".
Исторический роман отражает в себе две эпохи, во-первых, ту, которая в нем описывается, и, во-вторых, ту, в которую он написан.
Не говоря уж о псевдоисторических романах, над которыми издевался Пушкин, даже настоящий исторический роман несет на себе черты времени своего создания. Они проявляются не в том, что действительные исторические события намеренно искажаются автором, а в том, на какие события и проблемы той более или менее отдаленной эпохи обращает внимание автор, какие герои вызывают его симпатию, какие ненависть.
В этом отношении "Юрий Милославский" не исключение.
В нем совершенно определенно проявляются идеалы пушкинского, декабристского времени. Написанный после разгрома декабристов, роман является свидетельством, что расправа самодержавия над декабристами не смогла истребить в обществе их идей.
В 1827 году, то есть за полтора-два года до издания "Юрия Милославского", П. А. Вяземский пустил в ход насмешливо-ироническое выражение "квасной патриотизм", которое быстро распространилось сначала по Москве (впервые оно было употреблено в статье, напечатанной в журнале "Московский телеграф"), затем стало всеобщим. Белинский ценил выразительность и емкость этого термина и назвал его "счастливым выражением". Говоря о благородном чувстве любви к отечеству, Белинский тем самым противопоставлял роман Загоскина "ура-патриотическим", казенным "квасным" сочинениям, и современный читатель это понимал.
Действительно, патриотизм Загоскина в "Юрии Милославском"
лишен шовинистического, "квасного" оттенка, более того – он последовательно, вызывающе отрицает его. Юрий Милославский – главный положительный герой, через высказывания которого автор проводит собственные взгляды, беззаветно, до самопожертвования любя отечество, отнюдь не считает, что все русское – хорошо, а что нерусское – то плохо, в нем отсутствует национальная ограниченность. "Я уважаю храбрых и благородных поляков", – говорит Юрий Милославский. И более того – в разгар войны он думает и говорит о мире и в сегодняшнем неприятеле отказывается видеть вечного врага. "Придет время, вспомнят и они, – говорит он о поляках, – что в их жилах течет кровь наших предков славян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев".
...Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся,
вспоминал Пушкин высказывания Адама Мицкевича. Мицкевич говорил это в 1829 году, в том же году, когда писался "Юрий Милославский".
И еще один отзыв современности прекрасно слышали первые читатели (не все, конечно, но довольно значительная их часть)
"Юрия Милославского". В романе Загоскина главный герой, присягнувший королевичу Владиславу, мучительно разрешает моральную проблему: может ли он изменить данной присяге, если присяга дана властителю, враждебному народу. Юрий Милославский в конце концов решает, что при таких условиях он не обязан сохранять верность присяге.
Такая же моральная проблема стояла перед декабристами, и так же она была ими разрешена.
Уже в 1829 году "Юрия Милославского" начали сопоставлять с популярными в то время историческими романами Вальтера Скотта, иногда его называли даже "подражателем" английского романиста. Но против этого утверждения горячо выступали Пушкин, Аксаков и Белинский. "К чему было проводить параллель между Вальтером Скоттом и г. Загоскиным?" – упрекает, например, Белинский Майкова, опубликовавшего общую рецензию на издание романов В. Скотта и Загоскина. Вопрос о сходстве и различии Вальтера Скотта и Загоскина сводится к сходству и различию одних и тех же тенденций, развивающихся при разных условиях. Правда, необходимо оговориться, что Загоскин имел возможность использовать художественный опыт английского романиста применительно к русским условиям.
Но наряду с достоинствами уже современная критика находила в "Юрии Милославском" и недостатки. Она отметила, что образ главного положительною героя романа Юрия Милославского получился бледным, его роль в сюжете романа чисто служебная. Пушкин в перечне удавшихся автору характеров не называет Юрия Милославского. Правда, он и не говорит о нем, как о неудаче, видимо, принимая во внимание, ч го именно этот персонаж соединяет собой разнородные эпизоды в единый роман.
Недостатки "Юрия Милославского", включая сюда и некоторые анахронизмы, языковые и стилистические ошибки, Пушкин называл "мелкими погрешностями". И действительно, они мелки по сравнению с принципиальными художественными открытиями Загоскина в жанре исторического романа, которые оказали решающее влияние на дальнейшее развитие этого жанра в русской литературе.
Использование законов жанра, впервые введенных в практику русской литературы Загоскиным, легко обнаруживается у его современников и в произведениях, написанных столетием позже. Но, чтобы представить степень заслуги Загоскина, можно ограничиться одним примером: художественная историческая проза Пушкина, и прежде всего "Капитанская дочка", является прямым освоением и развитием художественных принципов Загоскина, воплощенных им в "Юрии Милославском".
3
После "Юрия Милославского" Загоскин написал еще целый ряд исторических романов из различных эпох истории России. Но последующие романы оказались слабее первого. Их герои как бы варьировали типы "Юрия Милославского", повторялись сюжетные ходы, что позволило Белинскому сказать об очередном новом романе Загоскина, что он – "подражение г. Загоскина своему первому роману – "Юрию Милославскому". Из их числа выделяются два романа, которые можно поставить не ниже "Юрия Милославского": первый – "Рославлев, или Русские в 1812 году" – роман об Отечественной войне 1812 года, который собственно историческим можно назвать лишь условно, так как хотя он написан почти двадцать лет спустя после изображенных событий, но их непосредственным участником; второй роман – "Аскольдова могила" – из времен Киевской Руси, на его сюжет была написана А. Н. Верстовским опера. Роман "Аскольдова могила" Пушкин назвал "прекрасным".
Наряду с романами Загоскин писал повести, рассказы, вернувшись к драматургии, написал несколько комедий.
В 1842 – 1850 годах Загоскин издал четыре тома очерков "Москва и москвичи", в которых он описывал быт современной ему Москвы. "Читать их, писал об этих очерках Загоскина Белинский, – невыразимое наслаждение". В основном очерки посвящены изображению простонародной жизни, народных гуляний в Сокольниках, Марьиной роще, Нескучном саду и народных типов ремесленников, крестьян, слуг.
Загоскин представлял собой колоритную фигуру, его имя довольно часто встречается на страницах воспоминаний современников, он был знаком со многими людьми, в основном имевшими какоелибо отношение к литературе и театру. Мемуаристы единодушно отмечают замечательную доброжелательность Загоскина, веселость, острословие (Н. В. Гоголь записывал его меткие изречения), непосредственность, гостеприимство, доверчивость. Один из ближайших друзей Загоскина С. Т. Аксаков писал о нем: "Загоскин был самый добродушный, простодушный, неизменно веселый, до излишества откровенный и прямо честный человек. Узнать его было нетрудно: с первых слов он являлся весь, как на ладонке, с первого свидания в нем никто уже не сомневался и не ошибался. Соединяя с такими качествами крайнюю доверчивость, даже легковерие и убеждение, что все люди – прекрасные люди, он, можно сказать, приглашал всякого недоброго человека обмануть Загоскина, и, конечно, приглашение принималось часто охотно, и едва ли какойнибудь смертный бывал так надуваем во всю свою жизнь, как Загоскин. Он имел прямой, здравый русский ум и толк... но в светском обществе самые ограниченные светские люди считали Загоскина простяком; мошенники, вероятно, выражались о нем еще бесцеремоннее".
И. С. Тургенев, знавший Загоскина с детства (Загоскин был приятелем его отца), вспоминает его добродушие, простоту и пишет: "Нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях". Но Загоскин бывал непримирим, когда затрагивались его заветные симпатии и убеждения. "Ничем нельзя так раздразнить Загоскина, как унижением русского народа", – писал С. Т. Аксаков, рассказывая, как был возмущен Загоскин, когда один собеседник сказал, "что вся русская литература, в сравнении с английской, гроша не стоит и что такому отсталому народишку, как русский, надобно еще долго жить и много учиться, чтобы понимать и ценить Шекспира".
Умер М. Н. Загоскин в 1852 году.
За свою жизнь Загоскин стал свидетелем важнейших событий и глубоких перемен в истории России. Он родился в царствование Екатерины II – во время наивысшего могущества российского абсолютизма, умер в преддверии его краха, перед самой Крымской войной, его литературная деятельность начиналась, когда над умами властвовали сентиментализм Карамзина и романтизм Жуковского, расцвет творческих сил пришелся на пору Пушкина и декабристов, завершал свой писательский путь в царствование Николая I, заклейменного прозвищем Палкина, и в то время, когда "Герцен развернул революционнуюагитацию" (В. И. Ленин). Не удивительно, что в последние годы жизни Загоскин порой ощущал себя человеком, пережившим свою эпоху (блистательную эпоху Пушкина и декабристов) и оказавшимся во времени, где он уже никому не нужен.
Тургенев посетил Загоскина незадолго до его смерти. Он оставил описание этого своего посещения. "Я заговорил с ним об его литературной деятельности, – пишет Тургенев, – о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянул о значении "Юрия Милославского" как народной книги... Лицо Михаила Николаевича оживилось. "Ну, спасибо, спасибо, – сказал он мне, – а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла". (Со мной Михаил Николаевич не говорил по-французски, а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические.) "Спасибо", повторил он, не без волнения и с чувством пожав мне руку, точно я был причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькис мысли о гак называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внугрешю я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек? Но отчего же было ему не радоваться? Он услыхал от меня, что не совсем умер... а ведь горше смерти для человека пет ничего. Иная литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За периодом легкомысленных восхвалений последует период столь же мало осмысленной брани, а там – безмолвное забвение... Да и кто из нас имеет право не быть забытым – право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления? А все-таки я рад, что я, совершенно случайно, доставил доброму Михаилу Николаевичу, перед концом его жизни, хотя мгновенное удовольствие".
Эти воспоминания Тургенев написал в конце шестидесятых годов XIX века. На его памяти уже столько литературных знаменитостей, пережив краткую шумную славу, были преданы прочному забвению, что и мысли его "о так называемой литературной известности" окрашивались в мрачные тона, и вопрос, обращенный к будущему, звучал почти безнадежно: "Да и кто из нас имеет право не быть забытым?.."
Тургенев не мог знать ответа тех, к кому обращен вопрос, – ответа времени и потомков, ответа истории. А ведь только они решают, кто имеет право не быть забытым. Писатель, как человек, остается в пределах своей эпохи, но его творчество становится час тицей духовной культуры народа, общей культуры многих поколений. И если писатель в своих произведениях затронул глубинные, главные процессы поступательного исторического развития народа и формирования народного характера, а не ограничился изображением поверхностных, скоропреходящих, порожденных модой и тщеславием нужд и забот, то к таким произведениям благодарная память потомков обращается через годы, через столетия, находя в них отзвук собственным чувствам и размышлениям. Именно к такому роду литературных произведений принадлежит роман М. Н. Загоскина "Юрий Милославскпй, или Русские в 1612 году".
ВЛ. МУРАВЬЕВ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале семнадцатого столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие – все угрожало неизбежной погибелью земле русской. Верный сын отечества, боярин Михайло Борисович Шеин, несмотря на беспримерную свою неустрашимость, не мог спасти Смоленска. Этот, по тогдашнему времени, важный своими укреплениями город был уже во власти польского короля Сигизмунда, войска которого под командою гетмана Жолкевского, впущенные изменою в Москву, утесняли несчастных жителей сей древней столицы. Наглость, своевольство и жестокости этого буйного войска превосходили всякое описание [К словам, отмеченным арабскими цифрами, см. "Исторические замечания" автора]. Им не уступали в зверстве многолюдные толпы разбойников, известных под названием запорожских казаков, которые занимали, или, лучше сказать, опустошали, Чернигов, Брянск, Козельск, Вязьму, Дорогобуж и многие другие города. В недальнем расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, прозванного Тушинским вором; на севере шведский генерал Понтиус де ла Гарди свирепствовал в Новгороде и Пскове; одним словом, исключая некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти неприятелей, и одна Сергиевская лавра, осажденная войсками второго самозванца под начальством гетмана Сапеги и знаменитого налета [ Так назывались в то время партизаны. (Примеч. автора.)] пана Лисовского, упорно защищалась; малое число воинов, слуги монастырские и престарелые иноки отстояли святую обитель.
Этот спасительный пример и увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили, наконец, усыпленный дух народа русского; затлились в сердцах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были восстать на супостата, но священные слова:
"Умрем за веру православную и святую Русь!" – не раздавались еще на площадях городских; все сердца кипели мщением, но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан.
В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широкий охабень [Верхнее платье с длинными рукавами и капишоном. (Примеч.
автора.)], ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее; другой, в нагольном тулупе, сверх которого надет был нараспашку кафтан из толстого белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую лошадь, прислушиваясь со вниманием, но, не различая ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным беспокойством озирался на все стороны.
– Полегче, боярин, – сказал он, наконец, с некоторым нетерпением, твой конь шагист, а мой Серко чуть ноги волочит.
Передний всадник приостановил свою лошадь; а тот, который начал говорить, поравнявшись с ним, продолжал:
– Прогневали мы господа бога, Юрий Дмитрич!
Не дает нам весны. Да и в пору мы выехали! Я говорил тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст шестьдесят, так могли б сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем – бог весть!
– Не кручинься, Алексей, – отвечал другой путешественник, – завтра мы отдохнем вдоволь.
– Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя пан Гонсевский?
– Я думаю.
– Дай-то бог!.. Ну, ну, Серко, ступай!.. А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?
– Да, и очень скоро.
– Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли нам переждать, как там все угомонится? Теперь в Москве житье худое: поляки буянят, православные ропщут, того и гляди пойдет резня... Постой-ка, боярин, постой! Серко мой что-то храпит, да и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли?..
Оба путешественника остановились; Алексей спрыгнул с лошади, ступил несколько шагов вперед и вдруг остановился как вкопанный.
– Ну, что? – спросил другой путешественник.
– Ох, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг... Ах, батюшки-светы, какая круть! Как бог помиловал!
– Так мы заплутались?
– Вот то-то и беда! Ну, Юрий Дмитрич, что нам теперь делать?
– Искать дороги.
– Да как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель: свету божьего не видно!
В самом деле, вьюга усилилась до такой степени, что в двух шагах невозможно было различать предметов.
Снежная равнина, взрываемая порывистым ветром, походила на бурное море; холод ежеминутно увеличивался, а ветер превратился в совершенный вихрь. Целые облака пушистого снега крутились в воздухе и не только ослепляли путешественников, но даже мешали им дышать свободно. Ведя за собою лошадей, которые на каждом шагу оступались и вязнули в глубоких сугробах, они прошли версты две, не отыскав дороги.
– Я не могу идти далее, – сказал, наконец, тот из путешественников, который, по-видимому, был господином. Он бросил повода своей лошади и в совершенном изнеможении упал на землю.
– Уж не прозяб ли ты, боярин? – спросил другой испуганным голосом.
– Да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах.
Послушай... если я не смогу идти далее, то покинь меня здесь на волю божию и думай только о себе.
– Что ты, что ты, боярин! Бог с тобою!
– Да, мой добрый Алексей, если мне суждено умереть без исповеди, то да будет его святая воля! Ты устал менее моего и можешь спасти себя. Когда я совсем выбьюсь из сил, оставь меня одного, и если господь поможет тебе найти приют, то ступай завтра в отчину боярина Кручины-Шалонского, – она недалеко отсюда, – отдай ему...
– Как, Юрий Дмитрич! чтоб я, твой верный слуга, тебя покинул? Да на то ли я вскормлен отцом и матерью? Нет, родимый, если ты не можешь идти, так и я не тронусь с места!
– Алексей! ты должен исполнить последнюю мою волю.
– Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать, так умирать обоим. Но что это?.. Не послышалось ли мне?
Алексей снял шапку, наклонил голову и стал прислушиваться с большим вниманием.
– Хотя б на часок затих этот окаянный ветер! – вскричал он с нетерпением. – Мне показалось, что налево от нас... Чу, слышишь, Юрий Дмитрич?
– В самом деле, – сказал Юрий, приподнимаясь на ноги, – кажется, там лает собака...
– И мне тоже сдается. Дай-то господи! Завтра же отслужу молебен святому угоднику Алексею... поставлю фунтовую свечу... пойду пешком поклониться Печерским чудотворцам... Чу, опять! Слышишь?
– Точно, ты не ошибаешься.
– А где лает собака, там и жилье. Ободрись, боярин, господь не совсем нас покинул.
Кого среди ночного мрака заставала метель в открытом поле, кто испытал на самом себе весь ужас бурной зимней ночи, тот поймет восторг наших путешественников, когда они удостоверились, что точно слышат лай собаки. Надежда верного избавления оживила сердца их; забыв всю усталость, они пустились немедленно вперед.
С каждым шагом прибавлялась их надежда, лай становился час от часу внятнее, и хотя буря не уменьшалась, но они не боялись уже сбиться с своего пути.
– Кажется, недалеко отсюда, – сказал Юрий, – я слышу очень ясно...
– И я слышу, боярин, – отвечал Алексей, приостановясь на минуту, – да только этот лай мне вовсе не по сердцу.
– А что такое?
– Ничего, ничего; дай-то бог, чтоб было тут жилье!
Они прошли еще несколько шагов; вдруг черная большая собака с громким лаем бросилась навстречу к Алексею, начала к нему ласкаться, вертеть хвостом, визжать и потом с воем побежала назад. Алексей пошел за нею, но едва он ступил несколько шагов, как вдруг вскричал с ужасом:
– С нами крестная сила! Ну, так... сердце мое чуяло... посмотри-ка, боярин!
Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым кушаком, из-за которого виднелась рукоятка широкого турецкого кинжала, лежал на снегу; длинная винтовка в суконном чехле висела у него за спиною, ас правой стороны к поясу привязана была толстая казацкая плеть; татарская шапка, с густым околышем, лежала подле его головы. Собака остановилась подле него и, глядя пристально на наших путешественников, начала выть жалобным голосом.
– Ах, боже мой! – сказал Юрий, – несчастный, он замерз! – Забыв собственную опасность, Юрий наклонился заботливо над прохожим и старался привести его в чувство.
Этот плачевный вид, предвестник собственной их участи, усталость, а более всего обманутая надежда – все это вместе так сильно подействовало на бедного Алексея, что вся бодрость его исчезла. Предавшись совершенному отчаянию, он начал называть по именам всех родных и знакомых своих.
– Простите, добрые люди! – вопил он, – прости, моя Маринушка! Не в добрый час мы выехали из дому:
пропали наши головы!
– Полно реветь, Алексей, – сказал Юрий, – поди сюда... Этот бедняк еще жив, он спит, и если нам удастся разбудить его...
– Эх, родной! и мы скоро заснем, чтоб век не просыпаться.
– Не греши, Алексей, бог милостив! Посмотри хорошенько: разве ты не видишь, что здесь снег укатан и наши лошади не вязнут: ведь это дорога.
– Дорога? Постой, боярин... в самом деле... Слава богу! Ну, Юрий Дмитрич, сядем на коней, мешкать нечего.
– А этот бедный прохожий?
– Дай бог ему царство небесное! уж, видно, ему так на роду написано. Поедем, боярин.
– Нет, я попытаюсь спасти его, – сказал Юрий, стараясь привести в чувство полузамерзшего незнакомца.
Минуты две прошло в бесплодных стараниях; наконец, прохожий очнулся, приподнял голову и сказал несколько невнятных слов. Юрий, при помощи Алексея, поставил его на ноги, но он не мог на них держаться.
– Ну, видишь, Юрий Дмитрич, – сказал Алексей, – нам с ним делать нечего! поедем. Из первой деревни мы вышлем за ним сани.
– А пока мы доедем до жилья, он успеет совсем замерзнуть.
– Что ж делать, боярин: своя рубашка к телу ближе!
– Алексей, побойся бога! .Разве ты не крещеный?


![Книга Сочинения в 2 томах. Том 1. Историческая проза [Юрий Милославский • Рославлев • Кузьма Рощин] автора Михаил Загоскин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sochineniya-v-2-tomah.-tom-1.-istoricheskaya-proza-yuriy-miloslavskiy-roslavlev-kuzma-roschin-249998.jpg)





