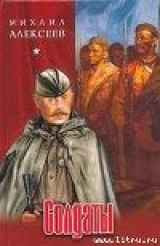
Текст книги "Пути-дороги"
Автор книги: Михаил Алексеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
1
Петр Тарасович Пинчук, Кузьмич и Лачуга, которые ведали хозяйством разведчиков, в дни марша редко видели их: те шли всегда далеко впереди дивизии. Иногда появлялся какой-нибудь раненый боец, отдыхал денек-другой и снова уходил к Забарову.
Однажды пришел с перевязанной головой самый молоденький разведчик. Его царапнула в горах снайперская пуля мадьярского гонведа. Разведчик подал старшине бумажку, на которой рукой комсорга Камушкина было написано:
"Товарищ старшина!
Убедительно прошу взять с собой этого хлопца. Он отличный разведчик. Вчера, недалеко от Мурешула, мы его приняли в комсомол, – Ванин и я дали ему рекомендации. Геройский подвиг совершил парень: захватил в плен немецкого полковника. В медсанбат он идти не хочет, боится – отправят в тыл. А парню, сами знаете, хочется встретить день победы тут, на фронте. Мне тоже жаль отпускать Голубкова. Комсомольцев у меня не очень много осталось. Так что пусть он лечится у вас. Медикаментами Наташа его снабдила. Вы только найдите ему местечко в Кузьмичовой повозке. Кузьмича я тоже об этом прошу.
Пожалуйста, товарищ старшина!
С приветом – ваш В. Камушкин".
Пинчук хотел было позвать ездового, но вспомнил, что Кузьмич отпросился у него сходить к начальнику политотдела, потому что у него, Кузьмича, "есть к товарищу полковнику большая просьба". Однако вскоре сибиряк возвратился, и старшина отдал ему соответствующее распоряжение.
"Тыловики" заботливо приняли молодого разведчика. Дальше он ехал в повозке Кузьмича, утоляя любопытство старика бесконечными рассказами о последних поисках в горах. Рассказывал о комсорге Камушкине, какой он смелый парень, о Ванине, от которого ему, молодому разведчику, порядком попадало и которого тем не менее парень уважал (Семен был земляком новенького разведчика и, очевидно, на этом основании считал себя вправе поучать хлопца, хотя тот находился в другом отделении). Только о себе ничего не поведал синеглазый и словоохотливый солдат.
В село, затерянное в Трансильвании, в котором им предстояло остановиться на ночевку, в пяти – семи километрах от Мурешула, они въезжали уже под вечер. Вместе с ними туда же втягивалось штабное хозяйство дивизии. Скрип колес, храп лошадей, крики повозочных, команды начальников отделений, надрывный стон вечно перегруженных машин – все сливалось в один неприятно резкий, но привычный уху фронтовика гам.
– Погоняй, погоняй живей!..
– Гляди, мост не выдержит!..
– Трофим, у тебя там что-нибудь осталось?.. Кишки к ребрам примерзли, честное благородное... Замерзаю! Дождь хлещет – спасу нет!..
– Кажись, кто-то выпил... Так и есть – фляга пуста... Кто же это?
Шум медленно плыл над селом, пугая жителей, притаившихся в нетерпеливом и робком ожидании.
Кузьмич свернул в узкий переулок и остановился у немудрящей хатенки, на стене которой чья-то заботливая рука написала условный знак, показывавший место расположения разведчиков. То, что хата стояла на отшибе, вполне удовлетворяло Кузьмича.
– Тут-то оно поспокойней: бомбить поменьше будут, язви их в корень! -рассудил он, подойдя к хижине и решительно барабаня крепким кулаком по ветхим воротам.
За время своего заграничного путешествия Пинчук и Кузьмич успели уразуметь некую премудрость из жизни хозяйственной братии.
– Знать свое место трэба, – часто говаривал Петр Тарасович сам себе. Это означало, что никогда ему, старшине, не следует совать свой нос в хорошую хату. Во-первых, потому, что хорошие хаты почти всегда находятся в центре села и, значит, их перво-наперво бомбят немецкие бомбардировщики; во-вторых, – и это, пожалуй, было самое важное, – в хороших хатах богатеи живут, народ несговорчивый насчет, скажем, фуража для лошадей и всего прочего. Пинчук и Кузьмич не хотели иметь с ними дело еще и по "классовым соображениям", как пояснял Петр Тарасович. С бедными же у них как-то всегда все получалось по-хорошему: они до сих пор не могли забыть своей большой дружбы с Александру Бокулеем из Гарманешти и старым солдатом – конюхом Ионом из боярской усадьбы Штенбергов.
– Як там твоя труба, Кузьмич, стоит чи ни? – частенько спрашивал ездового Пинчук.
– А что ей сделается? Уж коли я сложу, так не развалится, – не без хвастливости отвечал сибиряк. – Целую вечность будет стоять, язви ее!.. Все развалится в прах, а моя труба будет стоять. Вот проверь!
...На стук в ворота хозяин вышел не скоро. Он отворил их только тогда, когда к стуку Кузьмич присоединил свои крепко присоленные слова.
– Йо напот! Здравствуй, товарищ, – заулыбался старикашка – румынский мадьяр.
– Здравствуй, здравствуй! А что испугался-то, съем, что ли, тебя?
– Думал, румынские офицеры...
– Что, безобразничают?
Старик мадьяр горестно кивнул головой.
– Не будет этого вскорости. Еще друзьями-братьями станете, как, скажем, в нашей стране. Тыщи разных народностей живут вместе, и все товарищи друг дружке...
Кузьмич говорил с хозяином по-русски, не растрачивая попусту тот немногий запас венгерских слов, которые они на всякий случай успели разучить с Пинчуком по дороге: сибиряк знал, что почти все венгерские мужчины его лет и старше побывали в русском плену после первой мировой войны и вполне сносно изъясняются по-нашему.
– В России был? – спросил для верности Кузьмич старика, помогавшего ему распрягать лошадей.
– Был, – ответил тот. – Россия хороший...
– Хороший-хороший, а небось сына против русских воевать послал? -допытывался Кузьмич, довольный тем, что Пинчук, захватив с собой спирт и теплую одежду, выехал к разведчикам на Мурешул и ему, Кузьмичу, теперь никто не мешал беседовать с иностранцем.
– Сына... под Воронежем... убили... – признался мадьяр, и ездовой заметил, как его большие, земляного цвета руки знобко затряслись, худое лицо сморщилось, глаза стали мокрыми.
– Эх вы, вояки... – неопределенно пробурчал Кузьмич, отводя лошадей под навес. – А овсеца мерки две у тебя найдется? – крикнул он оттуда хозяину.
– Нет, товарищ. Я имел мало земли. Овес негде сеять. Много земли у графа Эстергази, у меня – мало...
Кузьмич посмотрел на старика и сразу подобрел.
– Как тебя зовут?
– Янош, – охотно ответил крестьянин и заулыбался.
– А меня Иваном величают. Иваном Кузьмичом. Янош и Иван – одно и то же. Тезки, стало быть, мы с тобой... а?
– Тетка, тетка, – весело залопотал венгр.
– Вот что, "тетка", овса-то все-таки надо достать, – уже серьезно заговорил Кузьмич. – Тылы наши с фуражом поотстали малость. Сам знаешь, горы. А лошадей кормить надо. Понял?
Хозяин на минуту задумался, потом, что-то сообразив, взял у Кузьмича мешок и вышел на улицу. Вернулся с овсом только ночью.
– Со склада графа Эстергази, – воровато и испуганно озираясь, словно за ним следил сам граф, проговорил он и печально добавил: – Узнает -убьет... Тут вот и листовки ночью с самолетов разбрасывали такие... Пишут в них: если будете, мол, помогать русской армии и грабить графские имения, всех перевешаем...
– Кто же разбрасывал эти поганые бумажки, язви его в душу? -возмутился Кузьмич.
– Написано с одной стороны по-румынски, а с другой – по-мадьярски. Немцы, наверное.
– Они, стало быть, – согласился Кузьмин и успокоил хозяина: – А ты, Иван, то бишь... Янош, того... не пугайся. Песенка графа спета.
Убрав коней, Кузьмич и хозяин вошли в дом. Молодой разведчик уже спал. Лачуга в другой комнате с помощью хозяйки что-то готовил для разведчиков. Пинчука все еще не было.
Венгр, принявший ездового за старшего, провел его в горницу, где Кузьмича ждала уже постель. Но спать сибиряку не хотелось, и они разговорились с хозяином, который к тому времени уже успокоился совершенно и так пообвыкся, что то и дело шлепал Кузьмича по плечу своей тяжелой ручищей.
– Видал я у тебя, Янош, под сараем соху. Клячонка небось еле тащит ее. А у нас трактор, – неожиданно похвастался сибиряк. – Выехал в поле с четырехлемешным – сердце поет, радуется, стало быть...
– Трактора и тут есть... У богатых.
– То я знаю, – солидно подтвердил Кузьмин. – Да вам-то от этого какая же польза?
– Никакой, – вздохнул крестьянин и неожиданно спросил: – А земли у тебя, Иван, много?
– Больше, пожалуй, будет, чем у вашего... этого, как его... -вспоминал Кузьмич, – ну, как его, черта... Газы, что ли?
– Эстергази, – подсказал хозяин.
– Ну да! Он. Так вот, побoлe, чем у него.
– Так ты тоже граф? – изумился старый мадьяр, подозрительно косясь на просмоленные шаровары ездового и на его заскорузлые руки.
Кузьмич рассмеялся.
– Граф! Нет, брат, нe граф, язви его, а подымай выше!
– Кто же?
Кузьмич помолчал. Потом сказал серьезно:
– А вот угадай!
– Нет, – Янош улыбнулся, – никакой ты не граф, ты наш... крестьянин. Но почему у тебя столько земли? Я слышал, что у вас так... но...
– А вот потому, садовая твоя голова, что живем да работаем мы сообща.
И Кузьмич, поощряемый нетерпеливым любопытством хозяина и еще более нетерпеливым желанием рассказать правду о своей стране, о людях ее, в сбивчивых, но все же ясных и простых выражениях поведал чужестранцу о своем житье-бытье. Мадьяр как завороженный слушал необыкновенную и волнующую повесть старого хлебороба о колхозах, где простой народ стал хозяином своей земли – ему принадлежат все богатства, где человек ценится по его труду...
– И это все правда, Иван? Мы слышали кое-что. Да ведь и другое говорят. – Руки крестьянина легли на острые плечи Кузьмича, как два тяжелых, необтесанных полена. – Правда, Кузьмытш?..
– Я уже очень стар, Янош, чтобы говорить неправду.
– А можем... мы у себя... сделать такое?
– Можете, Янош, ежели не будете бояться ваших... Стервогазей.
Беседа длилась долго и закончилась далеко за полночь.
В эту ночь Кузьмичу приснился удивительный сон.
...Сидит он в своей хате и читает за столом книгу. Его молодая жена Глаша прядет шерсть ему, Кузьмичу, на носки. Течет, течет из ее белых проворных рук черной струей нитка и накручивается на жужжащую вьюшку. Одной, быстрой и маленькой, ногой Глаша гоняет колесо прялки, другой – качает зыбку. Зыбка мерно, как волна, плавает из стороны в сторону под бревенчатым потолком, певуче поскрипывая на крючке, а Глаша поет:
Придет серенький волчок,
Схватит дочку за бочок...
Голос Глаши светлым и теплым ручьем льется в сердце Кузьмича, приятно бередит грудь. Кузьмич оставляет книгу, хочет подойти к жене, но вместо нее видит Яноша, который качает не зыбку, а рычаг кузнечного горна и просит Кузьмича: «Расскажи, Кузьмытш, как строили вы свою жизнь». Иван начинает рассказывать и...
Сонные видения обрываются. Ездового разбудил вернувшийся старшина и приказал быстро запрягать: предстояло перебраться в другой пункт.
Старый Янош стоял у своих ворот и на прощание махал вслед Кузьмичовой повозке своей шляпой.
– Ишь як подружились вы с ним за одну ночь, – заметил Петр Тарасович, устраиваясь на повозке Кузьмича рядом с молодым разведчиком. – А мне и не пришлось побалакать с хозяином, – добавил он с сожалением.
Идя по чужой земле, Пинчук пытливо наблюдал, что творится на ней, как живут тут люди, что было у них плохого и что – хорошего. Встречаясь с местными жителями, больше крестьянами, он подолгу с ними беседовал, при этом всегда испытывая непреодолимое желание научить их всех уму-разуму, наставить на путь истинный, подсказать правильную дорогу. Иногда он увлекался настолько, что Шахаеву приходилось останавливать не в меру расходившегося "голову колгоспу". Петр Тарасович, например, никак не мог согласиться и примириться с тем, что почти вся земля в Румынии засевается кукурузой, а не пшеницей или житом. Он, конечно, понимал, что для румынского крестьянина-единоличника посев пшеницы связан с большим риском. На подобный риск могут отважиться разве только помещики да кулаки. Случись засуха (а она частенько наведывается в эту бедную страну) – пшеница не уродится, и мужик останется с семьей без куска хлеба, ему никто не поможет. Кукуруза же давала урожай в любой год и гарантировала крестьянина по крайней мере от голодной смерти. Пинчук это знал, и все-таки его хозяйственная душа была возмущена таким обстоятельством.
– Колгосп вам надо организовывать! – решительно высказался он однажды еще в беседе с Александру Бокулеем. – Трэба вместе робыть, сообща. Берите всю землю в свои руки и организуйте колгосп. Тогда не будете бояться сеять пшеницу и жито!
Петр Тарасович заходил так далеко, что высказывал уже Бокулею свои соображения насчет того, с чего бы он, Пинчук, мог начать строительств артели в селе Гарманешти.
– Поначалу – кооперация, як полагается. А там – и колгосп.
Он даже раздобыл в политотделе дивизии брошюру "О кооперации" В. И. Ленина и с помощью Шахаева да Акима разъяснил содержание этого исторического документа румыну.
Александру Бокулей всегда слушал Пинчука с большим вниманием, однако из слов Тарасовича понимал далеко не все. Пинчук видел это и, чтобы успокоить себя, говорил свое обычное:
– Поймут колысь...
Кое-что нравилось Петру Тарасовичу в этой стране. Дороги, например, да виноградники. Ему казалось, что и в его колхозе можно заняться культивированием винограда. Мысль эта вскоре перешла в крепкое убеждение. Но Пинчук решил отложить это дело до своего возвращения.
"Нe смогут зараз", – подумал он про своих односельчан и шумно вздохнул.
...Кузьмич погонял лошадей, а сам тихо чему-то улыбался. Впрочем, хитро глянувший на него старшина знал чему. У Кузьмича – большая радость. Он вчера разговаривал с начальником политотдела, который пообещал сразу же после войны отпустить сибиряка домой вместе с парой его лошадей. Рассказывая по возвращении из политотдела о своей беседе с полковником, Кузьмич с удовольствием повторял каждое слово начподива.
– Так и сказал: га-ран-тирую! С конягами возвернешься – были бы, мол, живы. Вот, язви тя в корень, дела-то какие! Ну ж и доброй души человек, я тебе скажу. Век не забуду его.
Было хорошо наблюдать, как радуется этот пожилой человек, как молодеет у всех на глазах.
– У него румын тот сидел, как его... Мукершану, кажись, по фамилии-то. И то полковник принял меня. Вот какой он человек! – продолжал Кузьмич, которому, похоже, доставляло большое удовольствие вспоминать о своем разговоре с начальником политотдела.
– Таких, як наш полковник Демин, мабуть мало, – подтвердил Пинчук.
2...Всплеск воды возле парторга услышал плывший рядом с Шахаевым Никита Пилюгин.
– Что с вами, товарищ старший сержант? – испуганно крикнул он.
Шахаев хотел ответить, но не смог. В глазах парторга качалась зыбкая, красноватая муть. Он тонул. Сильная длинная рука Никиты обхватила его.
– Ложитесь ко мне на спину, товарищ старший сержант, – услышал Шахаев глухой, сдавленный волнением голос солдата и тотчас же почувствовал под собой длинное, упругое, все из тугого сплетения мускулов, тело. Никита плыл легко и быстро, будто на нем вовсе не было никакого груза.
Часто в горах, углубившись в неведомые ущелья, разведчики испытывали чувство оторванности от всего остального мира. Сейчас, ночью, в холодных волнах чужой реки это чувство было еще более острым. Оно усиливалось тем, что неизвестно было, как встретит их затаившийся противоположный берег, который был страшен в своем зловещем, коварном молчании.
– Аким, ты вроде очки потерял, – попытался пошутить Ванин. Но шутка не получилась. Сам мастер шутки понял это и больше уже не открывал рта вплоть до правого берега.
Дождь хлестал еще озлобленнее. Темнота сгустилась. Правее от разведчиков чуть виднелись фермы взорванного моста. Оттуда катился свирепый рев водяного потока, стиснутого массой исковерканного железа. Невольно хотелось взять еще левее, чтобы не оказаться случайно в зеве страшного чудища, которым рисовался теперь мост.
Наконец все с радостью ощутили под ногами скользкое дно реки. Правый берег бесшумно двигался навстречу разведчикам черным мохнатым зверем. Солдаты осторожно сближались с ним. В прибрежных кустах затаились, слушали. Шахаев усиленно растирал свои ноги и правую руку.
– Пошли, – приказал Забаров.
И ночь поглотила их...
Через два часа они вновь появились на этом месте. Передохнули и поплыли обратно. На этот раз благополучно достиг своего берега и Шахаев – Никита ни на метр не отставал от парторга, следя за ним.
На берегу разведчиков ожидали Наташа и Пинчук. Отойдя в безопасное место, забаровцы переоделись в теплое, привезенное старшиной обмундирование, выпили немного спирта, согрелись. Петр Тарасович уехал обратно, захватив с собой мокрую одежду солдат.
Уже рассветало. Шахаев вспомнил про стихи, найденные разведчиками еще накануне в кармане убитого немцами мадьярского солдата и переведенные на русский язык сестрой убитого – жительницей Трансильвании Илонкой Бела, учительницей по профессии:
Я твой и телом и душой,
Страна родная.
Кого любить, как не тебя!
Люблю тебя я.
Моя душа – высокий храм,
Но даже душу
Тебе, отчизна, я отдам
И храм разрушу.
Пусть из руин моей груди
Летит моленье:
"Дай, боже, родине моей
Благословенье!"
Иду к приверженцам твоим...
Там, за бокалом,
Мы молимся, чтоб вновь заря
Твоя сверкала.
Я пью вино. Горчит оно.
Но пью до дна я, -
Мои в нем слезы о тебе,
Страна родная!
Фашисты убили этого солдата за то, что он подговаривал своих товарищей перейти на сторону русских. Перед глазами Шахаева и сейчас стояло лицо мадьяра – продолговатое, с плотно закрытыми глазами, с легким шрамом на левой щеке. Должно быть, в нем билась та же горячая мысль, что и в большом сердце Шандора Петефи, кому принадлежали эти строки.
– Какая судьба! Ведь и тот погиб солдатом! – вспомнил Шахаев биографию великого венгерского поэта и с волнением спрятал стихи в свой карман.
Мысль эта немного согрела Шахаева. Несколько дней он чувствовал себя беспокойно, как бы обижался на самого себя. Случилось это после того, как он не смог вызвать на откровенность одного разведчика, совершившего грубый поступок – оскорбившего своего товарища.
"А ты считал себя неплохим воспитателем, – строго журил он себя в мыслях. – Врешь, брат, не умеешь..." – и он горько улыбнулся. В большой пилотке, прикрывшей его седую голову, парторг казался очень молодым. Лицо его было без единой морщинки.
– Вот ведь какая штука-то, Аким!
– А что? – не понял тот, но забеспокоился, – Случилось что-нибудь?
Шахаев объяснил.
Аким коротко улыбнулся:
– Слушай: талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другое. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери...
– Знаю, это же Герцена слова, – печально и просто сказал Шахаев, вновь удивив Акима. – Однако что же делать с бойцом? – добавил он, говоря о солдате, совершившем проступок.
На другой день, когда разведчики уже были в селе, Шахаев повторил свой вопрос:
– Что же делать?
– По-моему, ничего не надо делать.
– Как? – теперь не понял Шахаев.
– Очень просто. Вон полюбуйся, пожалуйста!
В глубине двора, куда указывал сейчас Аким, у водонапорной колонки умывался тот самый солдат, о котором шла речь. Наташа качала воду и что-то строго говорила ему. Солдат тихо, смущенно отвечал ей. До Шахаева и Акима долетали только обрывки его слов:
– Дурь напала... Стыдно... Все на меня. А парторгу да комсоргу не могу в глаза глядеть. Стыдно...
– То-то стыдно. Раньше-то куда глядел, что думал?
– Раньше... кто знал... Собрание, должно, комсомольское будет?.. Хотя бы не было...
– Обязательно будет. А ты как думал, товарищам твоим легко? – уже отчетливее слышался голос девушки.
– Удивительный человек... твоя Наташа! – сказал Шахаев, не заметив в волнении, как проговорил с акцентом, что с ним бывало очень редко. Потом, спохватившись, сконфузился, кровь ударила ему в лицо, благо на смуглых щеках это почти не было заметно.
Аким усмехнулся.
– Не только в ней дело. Все разведчики обрушились на парня, и это на него подействовало сильнее всего. Пожалуй, надо посоветовать Камушкину не проводить собрания, хватит с него и этого.
– Ты – умница, Аким,
Вскоре разговор их перешел в другую область. Мечтатель и романтик, Аким любил пофилософствовать. Часто втягивал в спор Шахаева. Сейчас разговор их начался с честности и правдивости человека, вернее с воспитания таких качеств в людях. Совершенно неожиданно для Шахаева Аким заявил:
– Иногда беседуешь с человеком и видишь, что он врет тебе без всякого стеснения, самым наглым образом, А ты сидишь и слушаешь, будто он правду рассказывает. Искренне будто веришь каждому его слову. Глядишь, устыдился, перестал врать...
– Чепуха! – не дождался Акимова вывода парторг. – Человек, увидевший вруна в своем собеседнике и не сказавший ему об этом прямо, а делающий вид, что верит его вранью, совершает такую же подлость, как и тот, кто говорит неправду. Жуткую глупость ты сморозил, Аким! Да ведь ты сам не придерживаешься выдуманного тобою вот только сейчас, так сказать, экспромтом, правила. За безобидное вранье Ванина и то ругаешь! Ну и нагородил!..
Аким нес явный и несусветный вздор, который было обидно слышать от такого умного парня.
– Учитель ты, Аким, а договорился до ерунды! – с прежней горячностью продолжал Шахаев. – Твоей методой знаешь кто пользуется?
– Кто? – спросил Аким.
– Геббельс. Он врет без устали. А немцы, разинув рты, верят ему. К счастью, не все, но верят. Согласно твоей философии – лучше было бы ее назвать филантропией, – Геббельс должен был уже давно устыдиться и перестать брехать. Но он не перестает. И не перестанет, конечно, до тех пор, пока ему не вырвут язык... Капиталисты и помещики веками обманывают народ, нагло врут ему. К сожалению, часть народа еще верит им, что только на руку эксплуататорам... Подумай, до чего ты договорился, Аким! А это, знаешь, идет все от твоего неправильного понимания гуманизма. По-твоему, все люди -братья. И Семен хорошо делал, что колотил тебя за это. Я заступился за тебя, а зря. Не следовало бы!..
Аким, не ожидавший такого оборота дела, молчал, тяжело дыша. Белые ресницы за стеклами очков обиженно мигали. Лицо было бледное.
– Вам легко быть таким жестоким со мной. А что, собственно, я сказал?.. Ну, не подумал как следует. Что ж из того?..
– Нет, Аким. Я был более жесток к тебе, когда не замечал твоих глупостей. Подумай об этом.
– Хорошо.
Аким пошел от парторга еще более сутулый и неуклюжий.
"Ничего, выдюжит", – подумал парторг, твердо решивший в самое ближайшее время провести партийное собрание с повесткой дня "О честности и правдивости советского воина". Мысль эта окончательно успокоила его. Он вошел в дом и подсел к Пинчуку, который за столиком читал очередное письмо-сводку, полученное от Юхима из родного села. Операция по форсированию Мурешула была почему-то временно отменена, и разведчики два дня отдыхали.








