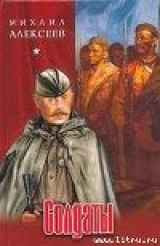
Текст книги "Пути-дороги"
Автор книги: Михаил Алексеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Лейтенант Штенберг принял командование ротой с большим удовлетворением. Адъютантство его не устраивало. Альберт помнил, что в его жилах течет немецкая кровь, и в связи с этим был твердо уверен, что ему не пристало быть на побегушках у румынского генерала.
До него временно командовал этой ротой младший лейтенант Лодяну, бывший рабочий с заводов Решицы, произведенный в офицеры в дни войны из нижних чинов.
Штенберг с трудом отыскал младшего лейтенанта. Лодяну находился в одной из только что вырытых траншей, окруженный уставшими, перепачканными глиной солдатами. Однако никто из них не унывал. Еще издали лейтенант Штенберг услышал звуки губных гармошек, дудок и скрипок – любимых инструментов румынских солдат.
– Забавляетесь, господа? А кто же за нас будет рыть траншеи? – на ходу бросил Штенберг, решивший с первой же минуты дать понять своим подчиненным, что он строгий командир.
– Солдаты утомлены и сейчас отдыхают, – спокойно ответил Лодяну. -Разве вы не видите, господин лейтенант? Почти месяц они день и ночь без отдыха роют траншеи.
Штенберг промолчал. К вечеру он приказал собрать всю роту. Новому командиру захотелось ободрить подчиненных, и, едва рота выстроилась в неглубокой балке, он начал:
– Солдаты! Корпусной генерал Рупеску просил передать, вам его благодарность. Вы отлично потрудились. Враг не пройдет через ваши позиции! Королевская гвардия покажет, что она умеет защищать свое отечество. Вы утомлены, знаю. Но ваши братья испытывают более тяжкие трудности. Там, на полях золотой Транснистрии и Молдавии, возвращенных нaшей родине ценой крови лучших ее сынов, румынским солдатам очень тяжело сдерживать красные полчища. Вы не испытываете тех лишений, какие испытывают они. Вы сыты, обуты, одеты. Мама Елена, по приказу которой сформирован наш корпус, заботится о вас. Не так ли, братцы?
Лейтенанту было приятно сознавать, что две сотни людей, втиснутых в рыжие мундиры, не спускавших сейчас с него глаз, – его подчиненные, что он, Штенберг, – их командир, начальник, властелин, первый судья и защитник.
– Не так ли, братцы? – повторил он, сияя от внутреннего ликования, причиной которого были и вот это ощущение власти над людьми, которых он скоро поведет в бой, и сознание того, что он, Альберт, стал хозяином огромных богатств, и воспоминание о последней встрече с красавицей Василикой, поверившей, кажется, в гибель своего возлюбленного, и надежда на то, что, наверное, удастся пристроить ее где-нибудь при штабе.
В эти минуты Штенберг как-то совершенно забыл о вчерашних неприятностях и о том, что идет война, что она очень близка, что скоро, совсем скоро он может лицом к лицу встретиться с теми, о которых он много говорил, но имел самое смутное представление, что вот эти позиции, окрашенные сейчас низкими лучами медленно опускавшегося за далекие горы солнца, нужно будет защищать всерьез и, может быть, сложить на них свою голову.
Ни о чем этом не думал сейчас румянощекий офицерик, меньше всего расположенный к неприятным мыслям. Бой для него был пока что понятием довольно абстрактным. И он думал о нем с беззаботностью юноши, для которого все нипочем. Поэтому вначале он даже не понял значения слов, грубо брошенных одним из его солдат:
– Двадцать пять лей в сутки – не слишком много, господин лейтенант. Мама Елена должна бы знать...
– Капрал Луберешти, я советовал бы вам помолчать, – испуганно проговорил Лодяну, пытаясь остановить солдата.
– Что, что вы сказали, капрал? – вдруг встрепенулся Штенберг. -Продолжайте!
– Я сказал, господин лейтенант, что двадцать пять лей – не слишком много. Вы – наш ротный. Отец солдат. И должны знать, как мы живем. Из этих двадцати пяти лей половина разворовывается начальством. Вон наш старшина уже пятую посылку домой отправляет! – Капрал, очевидно, решил идти напропалую и поэтому смотрел на офицера с отчаянным вызовом; вот с таким же вызовом глядел он в глаза полицейских во время забастовок на заводах Решицы. Лодяну хорошо помнит этого горячего, несколько необузданного электромонтера.
– А солдат получает, – продолжал капрал, – два раза в день постный суп, в котором плавает несколько бобов или кусочков сухого картофеля. Мы едим мамалыгу и хлеб, который на восемьдесят процентов выпекается тоже из кукурузы.
– Луберешти!
– Не мешайте ему, Лодяну. Пусть говорит. Продолжайте, капрал.
Лицо Штенберга потемнело. Он как бы только теперь понял, что все это значит для него, принявшего командованиее ротой. Сейчас Штенберг больше смотрел на Лодяну, чем на капрала. Выражение лица боярина говорило: "Вот до чего довели вы роту! Я могу немедленно сообщить об этом в прокуратуру, и вас обоих расстреляют. Но я не сделаю этого, потому что я добрый, хотя и недостаточно решительный, и вы должны это ценить во мне и, оценив, полюбить меня".
Лодяну понял это. Но он понял также и то, что все, чего не сделал командир роты, сделают взводные офицеры, уже не раз обвинявшие Лодяну в панибратстве с солдатами, и вновь обратился к своему земляку:
– Капрал Луберешти, вы с ума сошли!
Однако остановить солдата было уже невозможно.
– Пшеница идет для немецкой армии! – почти кричал он, зачем-то перекидывая винтовку с одного плеча на другое. – Немецкий солдат получает четыреста лей в день, а офицер – две тысячи. Немцы сидят в наших дотах, а нас вышвырнули в чистое поле, под русские снаряды и пули!
– Молчать!
Штенберг вздрогнул от оглушительного голоса. Рядом с ним, перед строем роты, стоял генерал Рупеску.
– Кто командовал этим сбродом? – грозно спросил он, показывая на замерший вдруг строй. – Вы?
– Так точно, ваше превосходительство! Честь имею представиться: бывший командир роты младший лейтенант Лодяну!
– Вы... вы – дерьмо, а не командир! – И с этими словами генерал несколько раз ударил по щеке Лодяну своей тяжелой пухлой ладонью. Он замахнулся было еще раз, но, обожженный взглядом наказываемого, опустил руку. – Судить! Обоих!
И вечером капрал Луберешти был осужден трибуналом.
Ночью его расстреляли перед строем роты.
Лодяну разжаловали в рядовые.
Случай этот, пожалуй, больше всего встревожил полковника Раковичану.
"Русские еще черт знает где, а тут творится такое, – невесело размышлял он, выкуривая одну папиросу за другой. – Впрочем, подобные маленькие неприятности в армии были и раньше. Они неизбежны". Раковичану постепенно стал успокаиваться и успокоился было уж совсем, когда в комнату почти вбежал генерал Рупеску.
– Случилось то, чего мы больше всего боялись, полковник. Русские вышли на Прут!
– Что?! – Раковичапу мгновенно соскочил с дивана, на котором собирался вздремнуть. – Что вы говорите? Не может быть! Это чудовищно! Когда они... когда они успели?
Он метнулся к окну, как бы надеясь увидеть за ним то, что могло бы опровергнуть эту страшную весть. Но за окном ничего не было видно. Горячий лоб полковника ощутил легкое вздрагивание стeкла от резких толчков, вызванных далекими разрывами тяжелых снарядов и бомб. Где-то, должно быть в деревне, жутко выла собака.
ГЛАВА ВТОРАЯ1
Под темневшими яблонями и вишнями в предутренних сумерках плыл сдерживаемый говорок, вспыхивали и тут же гасли красные точки папиросок. Храпели запряженные Кузьмичовы кобылы. Мишкин битюг бил копытом и шумно, тяжко дышал. В минуту особенной тишины слышно было, как лопались почки яблоневых и вишневых веток. В прохладном воздухе веяло их горьковато-кислым, едва уловимым запахом. На земле, под прошлогодней листвой, возились мыши, бегая по своим тайным тропам. Где-то в старом дупле пискнула пичуга. По всему саду мерцали драгоценными камнями холодные точки – это покрылись капельками росы только что пробившиеся из-под земли бледно-зеленые ростки молодых трав. Маскхалаты солдат тоже были покрыты росой, но не блестели в темноте, влажные и тяжелые.
– Что за страна такая Румыния? – мечтательно гудел Сенькин голос.
– Ось зараз побачим,– отвечал ему басок Пинчука, .– А если не переправимся? Может, еще куда пошлют нашу Непромокаемо-Непросыхаемую?
– Не может того быть.
– Вот и я так думаю...
– Ладно вам. Утро вечера мудренее.
– Такая поговорка, Вася, к разведчикам не подходит. У нас все -наоборот.
– В чужедальнюю сторонку, стало быть...– раздумчиво проронил до сих пор молчавший Кузьмич и глубоко вздохнул: – Бывал я в семнадцатом в здешних-то местах. Измаил, Галац... Опять же Аккерман... и... эти еще... обожди... Туртукай... Рымник... Во-во! Знакомые мне края. Тут нас германец газами потчевал...
– Уж не служил ли ты при Суворове, Кузьмич? – серьезно осведомился Сенька.
– При Суворове не служил, а по eго путям хаживал! – так же серьезно и не без гордости ответил сибиряк.
– Далече ушагаешь ты, Кузьмич, от своей Сибири. Сам Ермак Тимофеевич в такую даль не уходил. Женим мы тебя на какой-нибудь румынке да и оставим тут. Будешь мамалыгу есть...
– Не балабонь ты, Семен! Що к человеку прицепився? О дeле лучше бы сказав! – шумнул на Ванина Пинчук, которому в такие ответственные минуты Сенькина болтовня казалась совсем неуместной, хотя, как известно, в другие времена и в иных обстоятельствах балагурство Ванина ему доставляло немалое удовольствие. А сейчас он нахмурил брови, добавил глухо: – Може, кто из нас и по другой причине назад не вернется...
– Значит, боишься, Петр Тарасович?
– Не в том суть. Умирать на чужой стороне кому ж охота!..
– А мы и нe думаем умирать. Умирать будут фашисты. А мы жить будем, да еще и другим людям жизнь принесем,– откликнулся Камушкин.
– Правильные речи любо послушать! Ты, Вася, сам придумал такие разумные слова или тебе их подсказал кто? – полюбопытствовал Ванин, поворачивая свою круглую вихрастую голову в сторону Камушкина, почему-то в четвертый раз перематывавшего одну и ту же портянку.
Потом опять стало тихо. Каждый понимал, что говорил не то, что думал, сердца тревожились другим – более значительным. Нелегко расстаться с родимой сторонкой! Надолго ли? И что сбудется с каждым?..
Беспокойнее затрещали цигарки. Гасли и снова разгорались красные точки.
– Хоть бы вздремнуть!
– Пробовал, не получается.
– Да-а-а... дела...
– Дела как сажа бела. Что вздыхаешь-то?
– Ничего. Так...
– То-то же, так...
На минуту смолкли и опять:
– Пора б выступать, а лейтенанта с Шалаевым все нет.
– Придут скоро. Они зря не загуляются.
Спать никому не хотелось. Только одну Наташу почему-то сильно клонило ко сну. Зябко поеживаясь, она прилегла на повозке Кузьмича и мужественно боролась. с навязчивой дремотой. Кузьмич укрыл девушку своей шинелью. Сжавшись в комочек, она согрелась. Зато дремота теперь одолевала сильнее. Черные длинные ресницы eе часто смыкались. Разбуженная говором ребят, она испуганно приподнималась на руках, трясла головой, а потом опять куталась в шинель.
– Да спи ты, дочка,– несколько раз говорил ей Кузьмич, видя, как она мучится.– Небось разбудим, не оставим...
– Дядя Ваня, а где... Аким?
– В батальон связи пошeл. Рацию свою починить. Вернется скоро.
Вышли к реке только утром. Против румынского города Стсфанешти понтонеры уже навели мост, по которому двигались войска. Дождавшись своей очереди, переправились и разведчики. До города было не меньше километра, хотя с левого берега казалось, что он стоял у самой реки. Вокруг раскинулась ровная, ужe покрытая нежным зеленым ковром долина. На ней устроилось несколько зенитных батарей, охранявших переправу. Орудия, задрав кверху жерла, стояли безмолвные и ничем не замаскированные. Солдаты-зенитчики, закончив до рассвета земляные работы, теперь кучками, по-цыгански, сидели на разостланных плащ-палатках и с превеликим аппетитом ели вареные яйца -пасхальный подарок гостеприимных молдаванок. Всюду вокруг белела яичная скорлупа.
Разведчики немного отошли от реки и сразу, точно по команде, движимые единым и еще никогда не испытанным чувством, оглянулись назад. Теперь их глаза были такие же светлые и влажные, как вчера у Бокулея, когда он подошел к родной румынской земле. Вася Камушкин, таясь от товарищей и особенно от Ванина, незаметно провел рукой по карману. Ощутив под ладонью вишневую ветку, которую захватил с собой еще вчера, на русской земле, он успокоился, украдкой глянул на Сеньку. Но комсорг зря таился. Ванин видел, как он сломал эту ветку, и только из несвойственной ему деликатности ничего не сказал тогда. И вообще Сенька эти дни был предупредителен с товарищами и удивительно вежлив, что вовсе не вязалось с его озорным нравом. Сейчас он вместе с остальными глядел на левый берег реки. Та сторона была залита солнечным светом. Часть этого света выплеснулась и на румынский берег, и освещенная полоса все более расширялась, догоняя солдат. Не одни разведчики смотрели сейчас на покидаемую родную землю, смотрели на нее все гвардейцы. Маленький Громовой, бывший пехотинец, а теперь командир орудия из батареи Гунько, забравшись на снарядные ящики в кузове грузовика, снял шапку и размахивал ею в воздухе. Щеки солдата пылали. Русые волосы растрепал ветер. Они то и дело закрывали ему глаза. Громовой отбрасывал их рукой назад. Сам Гунько не вытерпел, вылез из кабины и, стоя на подножке, глядел на восток, на песчаные курганы по левому берегу, на приветливо белевшие и бесконечно родные домики пограничников. Смуглое лицо офицера было задумчиво-строгим. Увидев разведчиков, он помахал им рукой, крикнул:
– Уходим, значит, ребята!..
– Уходим, товарищ старший лейтенант! – за всех ответил Шахаев.
– Ну, счастливого пути!
– И вам тоже!
Аким посмотрел на Наташу.
– Что с тобой? Ты что это вздумала? Вот дуреха!..– испугался он.
Наташа плакала. Она ничего не ответила ему. Только быстро смахнула рукой капельки со щеки, виновато-счастливая, посмотрела на него.
Наглядевшись вволю на землю за рекой, солдаты зашагали к городу. К тому времени с ними поравнялась голова колонны стрелкового полка, в котором служил их бывший командир. Марченко скакал на буланом жеребце. Он не подъехал к разведчикам, хотя и видел их. Лишь остановил долгий вопрошающий взгляд на Наташе, потом злобно пришпорил коня и галопом помчался вперед, обгоняя колонну.
Ванин был немного огорчен. Разведчик привык все время идти впереди, а на этот раз их обогнали и первыми форсировали Прут другие. Однако Семен успокаивал себя тем, что может без всяких помех – в бою не до этого -осмотреть и оценить по-настоящему все, что увидит в этот день в незнакомой стране. Ордена и медали его сияли, надраенные накануне особенно старательно. Ванин шел выпятив грудь; вид у него был петушиный, задиристый, вся его складная фигура выражала сознание собственного достоинства и силы. Он поминутно оглядывал себя, смахивая с гимнастерки и шаровар малейшие соринки. Заметив, что хлястик на Кузьмичовой шинели, как всегда, висит на одной пуговице, заставил старика спрятать шинель в повозке, под солому.
– Позоришь ты нас, Кузьмич!
– Ты что, стало быть, на парад собрался? – проворчал кровно обиженный ездовой.– По своей земле сам, бывало, хаживал без ремня, грудь нараспашку, а тут ишь – вырядился!..
– "Вырядился",– передразнил Ванин, почуяв в словах Кузьмина какую-то обидную для себя правду.– Нe в том дело, Кузьмич. Ведь мы с тобой сейчас вроде дипломатов. А дипломату ходить с оторванным хлястиком не положено. Старый человек, а не понимаешь такой важной сути...
К радости Сеньки, его неожиданно поддержал Шахаев:
– Правильно, Ванин.
Кузьмич, однако, не сдавался:
– А откуда нам взять красивый-то внешний вид? Мы сотни верст вон по какой грязюке прошли. А кое-где и на животах пришлось ползти...
– Но ведь Сенька-то и другие разведчики сумела привести себя в порядок.
Кузьмич замолчал.
Ближе к городу все чаще стали попадаться местные жители. Мужчины и ребятишки были в высоких остроконечных шапках и в узких, плотно обтягивавших тонкие ноги, самотканых белых штанах. Штаны эти не понравились всем, особенно же Пинчуку, не любившему ничего тесного.
– Обычай у них такой, фасон,– сказал новенький разведчик Никита Пилюгин.
– Какой там фасон! Бедность заставляет такие брюки носить. Я колысь тоже такие таскал, потому как других не было,– высказался Петр Тарасович и, утвердившись в своей мысли, добавил: – Посмотри, яки мослы из-под штанов выпирают! Жалко глядеть...
Пинчук осматривал все вокруг жадно и придирчиво. Ему не терпелось поговорить с встречными румынами. Он пробовал это делать, но неизменно получал в ответ одно и то же:
– Ну штиу русеште[6].
Петр Тарасович понимал значение этих слов, но только ими да еще двумя-тремя фразами и ограничивались его познания румынского языка. Он пожалел, что рядом с ним нет Бокулея: вот с его помощью можно было бы поговорить с местным населением и выяснить, что к чему. Пинчук всматривался в колонну, не видать ли где капитана Гурова с Бокулеем.
По обеим сторонам дороги навстречу колонне шли румынские женщины-крестьянки в широких, сборчатых юбках. Многие несли на головах большие плетеные корзины с семенной картошкой. Корзины эти ловко держались на их макушках, вызывая искреннее удивление у советских солдат.
У крайних домов разведчикам встретилась вышедшая из церкви процессия. Впереди шагал поп и пел. Пела и толпа, следовавшая за попом. Солдаты свернули влево, уступая дорогу. Ванин внимательно и удивленно глядел на процессию. Чем-то непонятным повеяло от нее на советского солдата, и Сенька особенно остро почувствовал, что он находится на чужой земле и что его окружает сейчас совершенно иной, словно вернувшийся из далекого прошлого мир. Растерянно мигая светлыми ресницами, разведчик с недоумением слушал грустное пение.
Город был пустынен. Изредка промелькнут две-три человеческие фигуры и скроются за высокими воротами. На маленькой замусоренной городской площади красовался балаган. Возле него никого не было. Только тощая пестрая собака обнюхивала что-то.
Колонна миновала город, прошла еще километра два и вступила в большое румынское село. Жители села вели себя сперва сдержанно. На улице появлялись лишь ребятишки. Они смотрели своими большими черными глазами на советских солдат молча, настороженно, с неудержимым любопытством, но боялись. Солдатам было от этого неловко, и они все время пытались расположить детей к себе.
– Иди, иди же сюда! Ты, грязноносый! Брось мамалыгу-то, иди, я тебе чего дам! – манил Ванин к себе чумазого мальчонку, зажавшего в смуглом кулаке кусок остывшей мамалыги. Малец не решился подойти сам, но и нe убежал, когда Сeнька приблизился к нему. Разведчик поднял eго на руки и понес.– Что ж ты дрожишь так?.. Я не трону тебя... Понимаешь?..
– Ну штиу...– мальчишка трепетал в руках у разведчика, как пойманный зверек.
– Ничего. Поймут скоро и не будут говорить "нушти", – задумчиво сказал Шахаев, глядя на худого ребенка.
– На вот, поешь,– поощрял Ванин, всовывая в руку мальчика ломоть хлеба и неведомо где добытую им плитку шоколада.– А мамалыгу брось. Скучная это еда...
Видя вокруг добрые, сочувственные лица, хлопец взял хлеб и шоколад. Сенька опустил его на землю, и он с пронзительно счастливым визгом помчался назад, где, сбившись в плотную кучку, ждали его приятели, такие же грязные оборвыши.
– Бедный народ румыны,– выдохнул Пинчук.
– Что-то и зла на них нет,– вдруг признался Сeнька.– Вот воюют против нас, а зла нет...
Он посмотрел на товарищей, не осуждают ли они его слова. Понял, что нет, не осуждают.
Взрослое население появлялось на улице редко, так что солдатам не удавалось поговорить с румынами. Солдаты осматривали издали дома, постройки, делали критические замечания и заключения. Петр Тарасович успел приметить, что у большинства домов над крышами не видно труб, которые по обыкновению маячат над хатами. Это обстоятельство неожиданно вызвало горячий спор.
Молодой разведчик Никита Пилюгин, еще дома от своего отца наслушавшийся о загранице невесть каких чудес, склонен был утверждать, что трубы эти румынским крестьянам вовсе не нужны.
– Это почему же? – спросил Сенька, сердито глянув на Никиту.
– А зачем они им, трубы эти? У румын, должно, во дворе отдельные кухни стоят. Там они пекут и варят...
– А твоя дурная голова варит що чи ни? – полюбопытствовал Пинчук.-Зимой що ж они, в холодной хате живут?.. Не знаешь, так помалкивай,-наставительно закончил Петр Тарасович.
– Надо выяснить, почему труб нету. Интересно же! – сказал Сенька. Он хоть в душе и соглашался со словами Пинчука, но со своими выводами не спешил. Старый разведчик, Семен любил оперировать фактами. С разрешения Забарова он пробежал по нескольким дворам и нигде кухонь не обнаружил. Вернувшись, коротко объявил Никите:
– У тебя в голове, Пилюгин, максимум пять извилин. Это я тебе точно говорю. Нe обижайся!
Шахаев шагал впереди, рядом с Забаровым, прислушиваясь к солдатскому спору. Он еще не совсем оправился после тяжелого ранения, быстро уставал. Но на неоднократные просьбы Пинчука и Забарова сесть в бричку отвечал решительным отказом. Ему не хотелось выдавать свою слабость. Теперь же, прислушиваясь к разговору бойцов, он будто и вовсе не чувствовал усталости. Али Каримов, с его вечно удивленными карими глазами, засыпал парторга вопросами, и Шахаеву нравилось отвечать на них.
– А какой теперь тут будет власть? – спросил Али.– Советский или еще какой?
– Народ сам решит, Каримыч,– ответил Шахаев.– А чтобы он правильно решил, мы с вами должны вести себя тут хорошо. От нас много зависит, Каримыч. Понял?
– Понял...– не совсем уверенно сказал Каримов. Шахаев продолжал:
– Ведь им о нас столько страстей-мордастей наговорили!.. И вот пусть теперь убедятся сами, что все это – неправда.
За селом разведчики увидели цыганский табор. Цыгане вели себя совершенно по-иному. До этих вольных степных людей, очевидно, не доходила антисоветская пропаганда, и они не боялись русских солдат. Черная рать голых цыганят и полуголых цыганок ринулась на колонну. Слово "дай", произносимое на десятке наречий, сливалось в один оглушающий, гортанный гул. Когда разведчики прошли вперед, цыгане начали осаждать следующую колонну. Должно быть, они уже успели убедиться в добросердечии русских бойцов.
– Вот это да! – пробормотал Сенька, вытирая потный лоб. Ему, лихому вояке, было стыдно за минутную робость, которую он испытал при виде устремившейся на них шумной толпы.– Их бы только в психическую атаку посылать...
Впереди и по бокам виднелись холмы, покрытые лесами, фруктовыми садами и виноградниками.
– Земля богатая тут. А люди живут бедно,– обращаясь к Акиму, снова промолвил Пинчук, жадно глядя на окружавшую его местность.
– Откуда же быть им богатыми,– тихо проговорил Аким.– Ты только послушай, Тарасыч, сколько видела и пережила эта маленькая несчастная страна!
Ванин, услышав эти Акимовы слона, приблизился и молча пошел рядом с Пинчуком и Ерофеенко: Сенька уже привык к тому, что его дружок Аким всегда расскажет что-нибудь новое, для него, Ванина, неизвестное. Сейчас из слов Ерофеенко Семен впервые узнал о печальной истории земли, по которой двигались советские войска.
Во времена Римской империи Румыния служила мостом для движения римских легионов на северо-восток, в Скифию. В эпоху великого переселения народов через нее проходили с востока на запад гунны, авары, хозары, печенеги, венгры, турки, татары. Начиная со средних вeков Румыния служила руслом встречного потока экспансии европейцев к Черному морю и на Ближний Восток.
– А русские тут тоже были? – не вытерпел Ванин.
– Были, Семен, и не раз,– тихо и задумчиво ответил Аким.– Мы еще как-нибудь поговорим об этом. Ты, Тарасыч, любишь историю? – спросил он Пинчука.
– А як же, Аким,– Петр Тарасович тяжело вздохнул.– Мало учился я, вот беда...
Вышли в степь. Поле, по которому двигались колонны советских войск, было изрезано на мелкие лоскутки, клинья, полоски, перекрещено вдоль и поперек бесчисленными межами. Межи эти были чуть поуже самих полосок, и это особенно возмущало хозяйственную душу Пинчука. Наморщив лоб, он мысленно напряженно вычислял, сколько же теряется пахотной земли с каждого гектара из-за этих проклятых меж. Вышло – много. Петр Тарасович негодовал:
– Безобразие! Хиба ж так можно!.. А сорняков на этих межах сколько! Ой, лыхо ж! – тяжко, с болью вздохнул он, будто осматривал на своем колхозном поле клочок земли, по недосмотру халатного бригадира плохо вспаханный.– Хиба ж так можно жить? – раздумчиво повторил он и потеребил бурые отвислые усищи.– Сколько хлеба зря пропадает!
На одной полоске он заметил пахаря. Приказал Кузьмичу придержать лошадей. Ездовой остановил кобылиц, привязал их возле часовенки, стоявшей на перекрестке, и вслед за Пинчуком, спотыкаясь о муравейники и кротовьи кучи, пошел к румыну. Худая белая кляча тащила за собой деревянную соху. И лошадь и пахарь делали невероятные усилия. Пинчуку сразу же вспомнились картинка из старого букваря и стихотворение под ней, начинающееся словами: "Ну, тащися, Сивка".
Петр Тарасович и Кузьмич приблизились к крестьянину. Тот выпустил из рук соху, глянул слезящимися, разъедаемыми потом глазами на русских солдат, снял шапку и чинно поклонился.
– Буна зиуа[7].
– Доброго здоровьичка! – ответствовал Пинчук, поняв, что крестьянин приветствует их.
Румын мелко дрожал. Не от страха, а от напряжения и от великой усталости. Он не боялся солдат; хлебороб быстро узнал в них хлеборобов.
– Ковыряешь? – спросил его Пинчук.
– Ну штиу.
– Опять "нушти"! Понимать надо! А то все – "нушти" да "нушти". Бросил бы ты эту гадость! – Петр Тарасович потрогал рукой деревяшку. Высветленные ладонями хозяина ручки сохи были горячие и бугроватые, словно и на них набиты мозоли.– Ну, ладно, мабуть, поймать колысь...
– Поймут,– подал свой голос Кузьмич, который давно ждал случая высказать свое мнение.
Пинчук и ездовой вернулись к разведчикам, сделавшим небольшой привал. Недалеко от дороги, окруженная со всех сторон каштанами, тополями и черешней, белым пауком прицепилась к земле боярская усадьба.
– Вот у того нет, должно быть, этих разнесчастных клиньев,– сказал Шахаев Забарову, думая про помещика.
Шахаев поднялся, немного отошел в сторону, чтобы лучше наблюдать за бойцами, за выражением их лиц, отгадывать мысли.
"А ты что задумался, командир?"
Шахаев взглянул на Забарова и невольно улыбнулся. Спокойный, сосредоточенно-уравновешенный ум Федора и его физическое могущество всегда будили в сердце Шахаева добрые мысли, наполняли грудь безотчетной радостью.
На этот раз лицо Забарова было строже обычного. Странная дума беспокоила этого сильного и сурового человека. Вот осталась позади, там, за рекой, огромная земля, навеки ими освобожденная. Остались на этой земле миллионы в общем добрых и честных людей, и это очень хорошо. А вдруг сбежал из-под их охраны, перекрасился и живет на той святой, окропленной кровью бойцов земле и рыжебородый кулак, которого они недавно встретили? Может же такое случиться! Живет... И вот это очень плохо. Разве для него сложили свои головы Вакуленко, Уваров, Мальцев?.. Бывает же в жизни так: заведется в какой-нибудь большой и хорошей семье один вредный человек и портит всем кровь. Его все-таки терпят в доме, хотя и не знают точно, кeм он доводится этой семье. Потом, когда уж станет невмоготу, выбросят к чертовой бабушке того вредного человека и сразу почувствуют облегчение.
Нет, он, Забаров, сделал непростительную ошибку, не рассчитавшись окончательно с кулаком. Вдруг ему удалось выкрутиться? Смеется небось над ними, рыжий дьявол. Чего доброго, прикинется советским, да еще завхозом его поставят: они ведь такие – умеют перекрашиваться... Будет жить и ждать... следующей войны.
– Дай-ка, Шахаев, закурить...
– Вы что, товарищ лейтенант? – удивился парторг, услышав дрожь в голосе Федора.
– Ничего...– Забаров не мог завернуть папироску.– Чертовщина какая-то в голову лезет. – И он неожиданно рассказал о своих странных мыслях.
Когда он кончил говорить, Шахаев спросил улыбаясь:
– И все?
– Ну да... А чего ты смеешься?
– Так просто...
Привал кончился. Колонна двинулась дальше. Шли степью. За дальними холмами грохотали редкие орудийные выстрелы. На горизонте, далеко-далеко, вспухали черные шапки от разрывов бризантных снарядов и белые – от зенитных. Небо – туго натянутое, нежно-голубое, огромное полотно -звенело. Вспарывая его, вились истребители. Ниже, невысоко над землей, деловито кружились два "ила"-разведчика. Они были заняты черной и скучной работой – фотографировали вражеские позиции. Знакомая фронтовая картина вернула мысли разведчиков к земной, горькой действительности – война продолжалась... А это значит – будет еще литься кровь, много крови, и еще не одно горе обожжет солдатское сердце, и еще не раз придется комкать в руках пилотку над свежей могилой...
– Вася, расскажи что нибудь...
– Да ты что? – встревожился Камушкин, взглянув на побледневшее вдруг лицо Ванина.
– Так... расскажи. Прошу как друга!..
...Комкать пилотку над могилой павшего товарища. И навeрное, это будет больнее, чем раньше: чужая сторона, неродная, неласковая землица, суглинистая, горъким-горька...
Сколько раз уже поливал ее своей кровью русский солдат!..
Вдали, в нежно вытканном мареве, синели горы.
Карпаты!..
Дрогнуло сердце Кузьмича: вспомнил старый сибиряк, как пели в четырнадцатом новобранцы:
Нас угонят на Карпаты,
Там зароют без лопаты...
Взгрустнулось и Акиму: там, в этих карпатских снегах, сложил когда-то свою голову брат его отца.
"За горами, за долами, за широкими морями..." Что там ждет их за этими горами да за долами? И почему разведчиков сейчас так мало – на своей земле их всегда казалось больше – и идут они здесь не по-своему, гуськом, след в след, а плотным строем, будто боясь сорваться и упасть куда-то? И почему самому Акиму хочется быть поближе к Забарову, почему все жмутся к лейтенанту, как железные гвозди к большому и сильному магниту?
Небо звенело от зенитных хлопков. Чужое небо. Сенька задыхался от махорочного дыма, обжигал окурком губы, но продолжал курить, хотя делать этого в строю и не полагалось.
Между тем у разведчиков вновь разгорелся спор. На этот раз причиной спора была одежда, которую видели ребята на встречных румынах и румынках. Почти все мужчины и женщины были одеты в рубища.
– До чего довели хлеборобов! – простонал Пинчук.
Никита Пилюгин быстро возразил:
– Прикидываются они. Для нас специально вырядились. А хорошее припрятали. Заграничное-то суконце в землю позарывали. Знаем мы их!
Сенька, смерив Пилюгина недобрым взглядом, приблизился к нему вплотную, встал на цыпочки и, многозначительно постучав пальцем по Никитиному лбу, негромко, но внятно заключил: Пусто!
Никита, обидчиво заморгав, смотрел на Ванина широко поставленными угрюмыми глазами.
– Почему так – "пусто"?
– А вот так – пусто и есть! – уже мягче пояснил Ванин.– Ты завидовал, дурья голова, всему заграничному. А завидовать-то, оказалось, и нечему. Вот ты и выдумываешь всякое такое...








