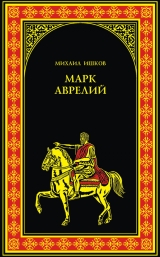
Текст книги "Марк Аврелий. Золотые сумерки"
Автор книги: Михаил Ишков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 2
В полдень его разбудил Феодот. Потрепал по руке. Марк мгновенно открыл глаза, вопросительно глянул на спальника.
– Тихо, – коротко сообщил раб. – Септимий Севéр прислал посыльного. Все тихо. И на том берегу и на этом.
– Отлично, – кивнул Марк. – Что еще?
– Александр с докладом и полученной ночью корреспонденцией. Просители…
Пока Марк умывался, твердил про себя – встречусь с суетным, неблагодарным, дерзким. С хитрюгой, скрягой, наглецом. Все это произошло с ними по неведению добра и зла.
После некоторой паузы, оглядев себя в металлическое зеркало и погрозив пальцем, уже вслух назидательно добавил.
– О том всегда помнить, какова природа целого и какова моя, и как они согласуются.
Он повернулся к Феодоту, державшему полотенце.
– Заруби себе на носу, что в космосе нет такой силы, которая запрещала бы тебе поступать и говорить сообразно природе, чьей частью ты являешься.
Он помахал указательным пальцем у того перед носом, с размеренной, занудливой назидательностью грамматиста* продолжил.
– Всякий час помышляй, Феодот, о том, чтобы с римской твердостью, любовно, надежно, справедливо, благородно, отрешившись от всех прочих побуждений, выполнять то, что тебе доверено.
Феодот вздохнул, с тоской глянул в сторону.
– Я не римлянин, господин, я – грязный гречишка.
Принцепс пожал плечами.
– Это же ваша мудрость, Феодот.
– Это мудрость свободных, господин. Я же раб.
– Я не держу тебя.
– Куда я пойду? Рядом с вами спокойнее.
– В завещании я освобожу тебя, получишь кое‑что на обзаведение.
– У нас в Беотии говорят: не кличь смерть, она сама тебя найдет. А вам следует пожить подольше. Я подожду со своей свободой… – Феодот сделал паузу, затем, заметно поколебавшись, спросил. – Господин, вот вы все пишете и пишете по ночам. Это помогает? Может, лучше женщину пригласить, она хотя бы согреет, ублажит. Полюбитесь, поболтаете, все легче на душе станет. А то вы все с собой да с собой… как‑то не по–человечески.
– А как по–человечески? Помнишь, одно время я тебя домогался? Ты, молоденький, красавчик был. Это по–человечески?
– А и взяли бы меня в любовники, какой спрос! Правда, кое‑кто говорит, что это грех. За такие штучки, мол, гореть вам и мне в Аиде.
– Ты тоже поверил в сказки распятого галилеянина?
– Нет, господин. С вами поведешься, во всем начнешь ведущее да необходимое усматривать, велениям мирового разума подчиняться, – он на мгновение задумался, потом вздохнул. – А вдруг и в самом деле в Аид попадешь? Страшно.
– Страшно губить себя пагубными страстями. Страшно отвращаться от своего ведущего. Страшна вера во всяких шарлатанов. Страшно работать спустя рукава.
Феодот покивал.
– Ну да, ну да…
С утра император решил не тревожить желудок, того гляди, объявят тревогу. На завтрак, по обычаю германцев, выпил прокисшего молока, закусил черствым хлебом. Феодот предупредил – все очень вкусно, сам пробовал. Император полакомился медком – в этом не мог себе отказать, любил сладкое. Съел немного – Феодот прямо из‑под носа унес кувшин с медом. Марк Аврелий с вожделением глянул кувшину вслед.
Когда раб убрал грязную посуду, принцепс принялся за дела.
Для начала просмотрел корреспонденцию.
Первым лежал отчет воспитателей наследника. Воспитатель Коммода доносил о небрежении, которое выказал сын к наукам, о его «лукавстве» и «дерзком нежелании признаваться в совершенных проступках». Наказание розгами переносит терпеливо, при этом бормочет что‑то про себя и угрожает воинам из преторианской когорты, призванным внушить наследнику уважение к наукам и ученым, отрубить головы. Особыми способностями отличается в тех занятиях, которые не соответствуют положению императора, например с удовольствием лепит чаши, танцует, поет, свистит, прикидывается шутом. Целыми днями играет в охотника, причем пуляет в придворных настоящими боевыми стрелами, правда, с тупыми наконечниками. Недавно в Центумцеллах обнаружил признаки жестокости. Когда его мыли в слишком горячей воде, он велел бросить банщика в печь. Тогда его дядька, которому было приказано выполнить это, сжег в печи баранью шкуру, чтобы зловонным запахом гари доказать, что наказание приведено в исполнении.
Марк в сердцах помянул секретаря – ничего не скажешь, хитер Александр. Неспроста положил сверху именно это письмо ….
В следующем послании, запечатанном личной печатью, префекта города* (сноска: Префект города (Рима) – одна из магистратур, введенных императорами и шедшая вразрез со старыми республиканскими формами управления. Он назначался принцепсом на неопределенный срок, был ответствен только перед ним, имел в своем распоряжении войска (7 городских когорт), мог единолично выносить приговоры по уголовным преступлениям. Главная обязанность – охрана порядка в Риме.)
Ауфидий Викторин сообщал, что Рим встревожен страшной трагедией. Несколько дней назад претор Г. Ламия Сильван по невыясненным причинам выбросил из окна жену Галерию и, доставленный дядей несчастной Цивикой Барбаром во дворец, принялся сбивчиво объяснять, что он крепко спал и ничего не видел и что его жена умертвила себя по собственной воле. Ауфидий немедленно отправился к Сильвану в дом и осмотрел спальню, в которой сохранялись следы борьбы, доказывавшие, что Галерия была сброшена вниз насильно. Префект предложил Цивике отложить рассмотрение дела до приезда императора, на что вышеуказанный патриций с досадой заявил, что римлянам никогда не дождаться приезда принцепса, и, следовательно, справедливого суда. С того дня преклонный годами проконсул и первый крикун в сенате заявляет во всеуслышание, что Рим брошен на произвол судьбы, а отъявленные преступники, прикрываясь приверженностью к философии, уходят от заслуженного наказания.
Далее префект спрашивал, не пора ли применить в отношении Цивики Lex Cornelia, то есть закон об оскорблении величества, которым часто пользовался Домициан. Казалось, в эпоху царствования божественных Траяна, Адриана и Антонина Пия, о нем позабыли, но суровая реальность требует унять злоязычных. Он, Ауфидий, ни в коем случае не призывает обращаться к постыдным методам явных и тайных доносов, но поведение Цивики становится вызывающим, что опасно для сохранения общественного спокойствия. Не пора ли напомнить злоумышленникам, разжигающим страсти, кто есть подлинный властитель в городе и мире? Не пора ли поставить на место тех, кто не желает следовать воле императора, определившего в наследники своего сына, храброго Коммода?
К этому же письму было прикреплено донесение императорского вольноотпущенника Агаклита, руководившего канцелярией, а также тайной службой императора. В его обязанности входило собирать сведения обо всем, что происходило в Риме. В донесении сообщалось, что накануне трагического происшествия Галерия рассорилась со своей младшей сводной сестрой, императрицей Фаустиной. Супруга императора обвинила сестру в потакании проискам Фабии, сестры умершего три года назад соправителя цезаря Луция Вера. В чем именно состояла причина скандала, выяснить не удалось. Далее было приписано, «проведенное расследование подтвердило, что Ламия Сильван в тот вечер впал в безумие. По словам домашних рабов, он обвинил жену в предосудительной связи с неким бывшим гладиатором, после чего, не сумев совладать со страстью, набросился на жену и вышвырнул ее в окно». Многие считают виновницей происшествия императрицу, но также винят и Фабию, пытавшуюся добиться от недалекой и завистливой Галерии какого‑то важного признания.
Последняя фраза привлекла особое внимание Марка. Какое признание имел в виду Агаклит?
Что творится в Риме?!
Еще раз перечитал письмо префекта города. Итак, Ауфидий тоже ввязался в борьбу и, как явствует из его оценки событий, на стороне Коммода. Неужели противостояние уже дошло до таких пределов, что Ауфидий не побоялся открыто высказать свою точку зрения?
Он закрыл глаза, досадливо подумал, что Цинна со своей стороны, Ауфидий со своей, осторожными намеками и хитрыми уловками пытаются выяснить, какова его позиция по этому вопросу, и не имеет ли император тайных замыслов, способных возвысить одну партию и низвергнуть другую. Усмехнулся – почему намеками и уловками? Цинна напрямик требует выполнить пожелания друзей и устранить Коммода. Ауфидий, со своей стороны, предостерегает от подобной меры и даже грозит разгулом страстей в городе. Удивительно, каждому из них доподлинно известно, какого мнения по вопросу о наследнике придерживается принцепс, и все равно с решимостью безумцев они стараются повернуть дело в свою пользу. Боги, на что я сейчас употребляю свою душу? Вот беда так беда, как же справиться с ней? Поможет ли, если всякий раз доискиваться, что скрыто от моего ведущего в той доле души, которая уязвлена поступками других, и которая желает освободиться от тягот? И вообще, чья у меня в этот миг душа – не ребенка ли? А может подростка? Или женщины, тирана, скота, зверя?
Спокойно, брат!
Так, кажется, в трудную минуту выражается центурион Фрукт. Если будешь действовать, следуя устремлениям разума, всегда отыщешь ответ.
Его, императора Марка Аврелия, место здесь, на границе, по крайней мере, до окончания летней кампании. Природа вещей, о которой так многоречиво рассуждал Лукреций, тем более ведущее, свойственное императору, прямой разум, требуют, чтобы наследником трона был назначен Коммод. Марк не смог сдержать улыбку – вот и рассудил.
На этом остановимся, этого будем держаться.
Что там еще?
Один из эдилов*(сноска: Эдилы ведали устройством зрелищ, городским благоустройством, наблюдали за состоянием общественных зданий, осуществляли полицейский надзор.) Рима сообщал, что в городе во время цирковых представлений участились случаи падения мальчиков–канатоходцев. При этом несколько раз рыболовные сети, по распоряжению принцепса растягиваемые под канатами, разрывались, и циркачи падали на плиты мостовых. На последнем представлении канатоходец восьми лет от роду прорвал сеть и упал на парапет, ограждавший водозаборный водоем. Мальчишку спасти не удалось. Эдил предлагал в особо опасных местах подкладывать под сеть подушки. Эта мера была проверена и доказала свою надежность. Хозяевам цирков вменено в обязанность использовать подушки во время выступлений канатоходцев, чтобы исключить несчастные случаи, которые то и дело случались в Риме, причем количество подушек и места их размещения должно быть согласовано с надзирающим за цирковыми зрелищами.
Марк задумался – толковый малый этот эдил. Что ж, если с помощью подушек можно надежно защитить циркачей, исполняющих опасные трюки на канатах, он охотно издаст соответствующий указ. Что же касается смотрителей дорог, о мздоимстве которых докладывал префект Рима, придется дать прокураторам распоряжение наказывать лично либо отсылать в столицу тех, кто требовал с кого‑то что бы то ни было сверх установленного.
Сообщалось об очередном побоище на прошедших в городе гладиаторских боях, устроенном пармулариями и скутариями* (сноска: партии на которые делились зрители гладиаторских боев. Первые симпатизировали фракийцам, носителям маленьких круглых щитов – parma. Вторые – носителям больших прямоугольных щитов – лат. scutum, которыми были вооружены мирмилоны и самниты.)
Итог – восемь убитых, несколько десятков раненых.
Далее сводка донесений фрументариев* (сноска: императорские соглядатаи) о грязных делишках, которыми не брезговали заниматься его прокураторы. К сводке был приложен список умерших за этот год богатых людей, отписывавших свое имущество в пользу императора. Список был длинный, лизоблюдов в Риме и провинциях хватало. Начертал резолюцию, чтобы его чиновники оспорили завещания и добились передачи имущества ближайшим родственникам умерших. Склонным же к подхалимству покойникам мраморных или бронзовых статуй на форумах не ставить, пусть остаются в безвестности.
В последнюю очередь Александр Платоник представил список записанных на сегодня просителей. Марк бегло просмотрел его. Так, первой супруга всадника Бебия Корнелия Лонга с просьбой об устройстве сына в армию. Боги мои, боги!.. Это же сын того самого Бебия с которым мы в детстве бегали смотреть на дерущихся перепелов. Мой добрый Бебий, в юности поклонник Эпиктета и Диогена, а позже фанатик, свихнувшийся на поклонении какому‑то шарлатану, распятому в Иеросалиме во времена Тиберия. Он поверил, что можно найти так называемое спасение от порочных страстей и поступков или, как называли их невежды, грехов – в любви к ближнему.
Сколько раз Марк предлагал Бебию послужить городу, утвердить славу своих предков – все напрасно. Когда разошлись их дороги? Лет пятнадцать назад, вскоре после первого консульства Марка Аврелия.
Ни о ком из своих друзей детства Марк не сожалел более чем о Бебии Лонге. После трогательного до слез разрыва, когда все сказано, а уважением и любовью еще полна душа, после короткого прощания, во время которого Марк попытался еще раз обратить свой взор к деяниям предков, исполнить долг римлянина и отца, ведь у него в ту пору родился сын, – тот подался на север Италии, где осел в какой‑то колонии, кажется, в Медиолане* (сноска: Милане). Ушел из города вместе с неким Юстином, имеющим вес в этой секте. Тоже давний знакомец. Ныне, после того как консул Квинт Юний Рустик казнил новоявленного проповедника за дерзость и отказ принести жертву божественному Августу, его прозвали Юстином Мучеником.
Узнав о приговоре, тем более о незамедлительном приведение его в исполнение, Марк сурово выговорил Рустику, ведь Юстин был прежде известен им как восторженный поклонник Платона. Если человек ударился в почитание распятого бродяги, это не повод сводить с ним счеты и выказывать кровожадность. Казнь была неуместной, нелепой. Принцепс не мог скрыть негодования, он тут же отстранил Рустика от исполнения консульских обязанностей.
К удивлению Марка, сторонники просвещения, всемерной пропаганды философического взгляда на жизнь, защитники республиканских свобод, расцвет которых под властью мудрого, сведущего в умении жить правителя, был ими вычислен задолго до принципата Антонинов; поборники разумного отношения к жизни, поклонники Диогена и Эпиктета, почитатели Тразеи Пета и Гельвидия Приска2 – одним словом, члены «партии философов», в ту пору крепко державшие в руках управление Римом и провинциями, все как один встали на защиту Квинта Рустика.
В те дни Цинна Катул, Фабий Максим, Квинтилий посмели открыто заявить Марку, чтобы тот был осторожнее в обращении со своими испытанными соратниками, строго придерживался общей линии и был безжалостен в борьбе с невежеством и суевериями. Эта зараза, утверждали соратники, это так называемое христианство, облаченное в «некие мистические одежды», уже проникло в ряды тех, кто управляет миром. Время ли сейчас церемониться?
Когда же Марк напомнил им о гонениях на философов во времена небезызвестного Домициана, друзья с негодованием отвергли это дерзкое утверждение. Верить – пожалуйста, заявил Цинна, но поклоняться они обязаны богам, составившим славу и величие Рима и, в первую очередь, божественным императорам. В их честь совершать обряды.
Была во всей этой сумятице, какая‑то неразвитость основных понятий, смешение хрена с редькой. Драчка получилась хорошенькая.
Марк тогда уступил по всем пунктам…
Но об этом после.
Сейчас хотелось взглянуть на Матидию, супругу Лонга, ни разу не упрекнувшую мужа за то, что тот подался в бродяги, все эти годы хранившую ему верность, ведущую хозяйство и даже, как сообщали соглядатаи, время от времени посылавшую мужу в провинции небольшие денежные суммы.
Кто там следующие по списку? Ага, два вольноотпущенника, всадник с просьбой дать ему подряд на поставки продовольствия в армию.
Зевс, горе мне, горе! В списке обнаружилось имя Витразина. И сюда, наглец, добрался. Не чересчур ли? Бывший гладиатор отличался особым коварством и помпезной храбростью, из пожертвований и наградных он подкармливал огромную толпу своих приверженцев. Стоило их любимцу начинать одерживать верх, фанаты тут же, не жалея голосов, принимались кричать: «Добей его, Витразин! Снеси ему голову, Витразин! Выпусти кишки!..» Они тыкали пальцами в землю, громко требуя смерти проигравшего. Когда же Витразин оказывался в трудном положении, болельщики орали: «Пощаду Витразину! Пусть лучший из бойцов здравствует! Мы любим тебя, Витразин!»
Теперь этот вольноотпущенник, в конце правления Антонина Пия пожалованный гражданством, осмеливается претендовать – что там претендовать, требовать! – должность члена государственной комиссии, подчиненной претору и занимавшейся охраной порядка в городе. Ни больше, ни меньше! Должность мало того что почетная, но и придающую ее обладателю отсвет авторитета государства и надежду на более высокую магистратуру, дело только за деньгами. Не пройдет и десятка лет, и может случиться так, что этот громила Витразин окажется в сенате.
В крайнем случае, в сенат попадет его наследник, о котором в городе ходили самые недобрые слухи. Удручал и тот факт, что сын Витразина считался закадычным дружком Коммода. Может, поэтому Витразин и распоясался?
Сначала бывший гладиатор пытался действовать тихо, не привлекая к своим домогательствам общественный интерес. Первой за него попросила жена Марка Фаустина.
Так, между делом…
Император тогда не ответил и только вечером строго выговорил супруге. Сообщил, что любит ее и не желает прислушиваться ко всяким грязным слухам, которые ходят о жене принцепса. Однако Фаустине следует учесть, что жена цезаря должна быть выше подозрений, и всякий, даже самый нелепейший намек на связь жены с этим безжалостным убийцей, очень огорчит его. Не императора, но человека!..
Фаустина растрогалась, расплакалась, принялась уверять – как он мог такое подумать!! Она обожает супруга, можно сказать, боготворит его!.. Затем притащила девочек и маленького еще Коммода. Марк замахал на жену руками и приказал прекратить этот постыдный спектакль. Ночью признался, что верит ей.
Получив отпор, Витразин ринулся напролом. Он начал добиваться аудиенции у принцепса, тратил огромные суммы на устройство зрелищ для плебса, однако прошлые делишки, слишком хорошо известные в городе, его оскорбительные попытки подменить народный суд над побежденными наглостью и криками подкупленной клаки, не позволяли гражданам раскрыть ему сердца. На устраиваемые Витразином общественные трапезы и раздачи продовольствия сбегалось чуть ли не полгорода, однако, получив паек, люди тут же запевали:
Витразин, сколько денежек выманил ты у богатых вдовиц?
Столько же, сколько бесчестно срезал голов.
Марк тогда еще поинтересовался у своего вольноотпущенника Агаклита, ответственного за настроения в городе – бесчестно или бессчетно? Тот ответил, что именно бесчестно, что выглядело удивительно, если принять во внимание бесстыдство римской толпы, ее грубость и любовь к кровавым развлечениям.
* * *
Марк показал секретарю восковую дощечку со списком.
– Проси.
Дождавшись, когда Александр выйдет из шатра, император поднялся и двинулся навстречу Матидии, намереваясь встретить ее у порога. Сделал пару шагов и едва не столкнулся с поспешно вбежавшим в шатер мужчиной огромного роста, плечистым, раздавшимся в поясе, с исковерканным лицом и умело всклоченным, беспорядочно завитым париком. Посетитель без капли смущения вскинул руку и с шибающим в уши африканским акцентом, почти завопил.
– Аве, Цезарь! Аве, великий! – и попытался встать на колени.
Марк отвернулся и неторопливо направился к столу. Когда сел и обернулся, Витразин продолжал стоять – видно, решил, что проявленного пафоса вполне достаточно, а может, решил воспользоваться коленопреклонением в более удобный момент? Правая рука его была по–прежнему вскинута, однако теперь его поза выражала непременное желание произнести речь – правая нога чуть выдвинута вперед, рука вскинута, как и подобает прилежному ученику, прошедшему курс ораторского искусства. Посетитель был наряжен в хламиду, поверх которой в глаза бросался поношенный плащ – ни дать ни взять, истинный философ, озабоченный исключительно тем, чтобы ежеминутно постигать суть добродетелей.. В глазах ужас и боль за народное дело, с какими Цицерон обличал Катилину. Казалось, еще мгновение и полотняные стены шатра содрогнутся, услышав знаменитое: «Доколе, о, Катилина, ты будешь смущать своими дерзостями римский народ?»
Марк почесал висок, вопросительно глянул на застывшего у входа, растерявшегося секретаря. Тот пожал плечами и вышел из палатки. Император вздохнул, развалился в кресле, закинул ногу на ногу и, прищурившись, спросил громоздкого посетителя.
– Чего ты добиваешься, Витразин?
– Милости императора, его доверия и любви. Хочу припасть к его мудрости и обрести истину.
– А конкретней?
– Великий цезарь, испытай меня. Доверь доказать, что общественное благо я ставлю выше своего личного, малюсенького и недостойного счастьица. Я докажу, что не приемлю прежний постыдный образ жизни. Разум мой прозрел, сердце содрогнулось, из глаз хлынули очистительные слезы. Теперь у меня нет иных стремлений, кроме желания обрести мудрость и прикоснуться к истине.
– То есть ты требуешь должность в составе коллегии?
– О, как ты мудр, проницательный. Твой орлиный взор…
– Не слишком ли, – перебил его Марк, – для человека, который плюет на список просителей, врывается первым, оставляя за порогом женщину благородного сословия, двух всадников, и почтенного купца. Пусть даже он и нарядился бродячим философом.
– Но мое дело не терпит отлагательства! – искренне возмутился Витразин. – Это не моя прихоть – весь Рим упрашивает меня добиваться должности. И Цинна, и Квинтилий, и Клавдий Помпеян. Твой зять даже обнял меня на прощание. Расставаясь, он не мог сдержать слез и постоянно твердил – кто, кроме тебя, Витразин, способен помочь римским гражданам? Поспеши к мудрейшему, припади к его стопам, умоляй и раскаивайся. Вот я, сломя голову, и помчался сюда, ведь скоро выборы членов коллегии надзора за порядком в городе и исполнением приговоров. Великий август, поверь, никто лучше меня не сумеет обеспечить спокойствие граждан и проследить, чтобы никому не было повадно позорить твое имя. Клянусь, государственной казне это не будет стоить ни единого асса!
– Насколько мне известно коллегия под началом претора укомплектована полностью, – удивился Марк.
– О, август, неужели тебе не доложили, что избранный членом коллегии Ламия Сильван выбросил из окна жену Галерию и теперь находится под следствием?
– И ты поспешил ко мне, чтобы занять освободившееся место? А ты подумал о том, что стоит мне удовлетворить твою просьбу, и в тот же день народ заговорит – Витразину, мол, удалось обвести «философа» вокруг пальца. Или, что еще хуже, купить себе должность. Какой же мне будет прибыток, если к моему имени начнут пристегивать твое. Дурная слава, что сопровождает тебя, ляжет и на меня.
– Стоит ли обращать внимание на болтовню тех, кто живет на подачки?
– Но именно эти люди столько раз спасали тебе жизнь.
Витразин рухнул на колени.
– Господин!..
Марк отметил про себя, что Витразин хорошо отрепетировал свое выступление – момент действительно был трагический! – и спокойным голосом поправил его.
– Не называй меня господином. Мой титул тебе известен – принцепс, первый в сенате, император и народный трибун. Есть другие позволительные титулы, например август или цезарь. Можешь использовать любое обращение.
– Великий цезарь, враги донимают меня. Клеветники не дают проходу, кое‑кто грозится привлечь меня к суду. Если ты окажешь мне милость, у тебя не будет более верного слуги. Я многое знаю.
– Не стоит опускаться до грязных намеков, Витразин. Ты не ведаешь, что творишь, но я не виню тебя. Ты просто заблуждаешься, ищешь не там, где потерял. У тебя есть средства – я же не спрашиваю, каким образом ты их добыл? Ты энергичен, хваток. Займись чем‑нибудь полезным, помоги тем, кто рядом с тобой, кто нуждается в помощи. Для этого не надо быть членом какой‑либо коллегии.
– Но, обладая должностью, я смогу оказать помощь куда большему количеству людей. Император, у меня сердце кипит, когда я слышу, как на улицах Рима поганая чернь насмехается над тобой. Вот какие стихи выкрикивают на улицах города: «Моешь негра зачем? Воздержись от работы напрасной. Сумрак ночной озарить ты ведь не сможешь лучом». Они беззастенчиво полощут твое имя, хохочут, говорят, что ты решил всех сделать философами, а особо избранных назначить мудрецами, как ты назначил прокуратором бывшего разбойника, а потом гладиатора Флора, как назначил наездника Полиника квестором в Испанию. Я не говорю уже об опозорившем всадническое сословие выступлением в гладиаторских боях Гае Гаргилии Гемоне, теперь надзирающим за общественными банями. Это называется пустить козла в огород…
– Достаточно, Витразин. Если желаешь занять почетную должность, сначала освободись от дурной славы, которая сопутствует тебе.
– Но император! – Витразин закрыл лицо руками, однако сквозь чуть растворенные пальцы внимательно следил за правителем.
Наконец он оторвал руки, сделал долгую паузу и, подражая трагическому актеру Меруле, (видно, брал у него уроки) воскликнул.
– Никогда!
Парик, искусно прилаженный у него на голове, чуть сдвинулся и обнажил левую сторону головы.
В первое мгновение Марк почувствовал омерзение, затем его нестерпимо потянуло в хохот. Тихо вошедший в палатку секретарь, изумленно глянул на просителя, потом едва успел зажать рот рукой. Это было смешно – громила с рассеченной щекой и отрезанным ухом, отсутствие которого ранее прикрывал роскошный, теперь сдвинувшийся на одну сторону парик – Марк и догадаться не мог, что Витразин прибегнул к услугам искусного цирюльника, – с глазами, полными слез, вздевший руки, провозгласил еще раз.
– Никогда не оставлю моего императора. Я буду ловить его взгляд, первым брошусь исполнить любое его желание. На своей спине я перетащу его через реки и болота, овраги и чащи, пока он не убедится в моей преданности.
– То есть ты хочешь сказать, что останешься в лагере, пока я не распоряжусь выбрать тебя в коллегию.
– Да, цезарь из цезарей.
– А если я прикажу выгнать тебя из лагеря?
– Я же сказал – буду бродить по окрестным лесам в тоске и печали и громко стенать, взывая к твой доброте.
Это уже не смешно. Марк прищурился, с этого станется. Будет досаждать, пока не добьется своего. Если же ему улыбнутся боги, и он действительно окажет услугу императору или кому‑нибудь из членов его семьи; если приглянется кому‑то из обладающих властью и тот начнет ходатайствовать за него, Марк вынужден будет уступить. Отослать с охраной? Он и ее подкупит. Зевс, великий космос, животворящая пневма, разве у повелителя великого Рима нет других забот, как разбираться с Витразином? Я не сержусь, я спокоен, ведь наглость и неутоленное тщеславие бывшего гладиатора куда в большей степени причиняют терзания и неудобства ему самому, чем мне, вынужденному выслушивать дерзкого. Его – не моя! – душа глумится над ним самим. В этом его наказание, а для меня лучший способ защититься – не уподобляться!
Но и не пренебрегать!
– Александр, – принцепс обратился к секретарю, – ты выяснил, кто пропустил его первым?
– Сегестий Германик, из бывших гладиаторов. Он стоит на часах возле вашего шатра.
– Сколько ты заплатил ему, Витразин, чтобы он оттолкнул женщину?
– Мы старые приятели, император. Сегестий многим мне обязан. Я никого не отталкивал. Я упросил несчастную уступить мне очередь, ведь мое дело не терпит отлагательства.
– Я жду честного ответа, Витразин, ведь я все равно узнаю, на какую сумму ты потратился.
Посетитель принялся тяжело вздыхать, крутить головой. Парик окончательно сполз на одну сторону и полностью обнажил омерзительную рану на правой стороне черепа. Ухо Витразину отрезал несравненный боец, кумир публики, Публий Осторий, одержавший победу в более чем в полусотне поединков. По крайней мере, он сам так утверждал.
Наконец Витразин решился.
– Двадцать сестерциев, цезарь.
Марк приказал.
– Позови Сегестия.
Стоявший на часах воин вошел в шатер. Сегестий был из германцев. Ростом преторианец был подстать Витразину, только более сухопар и подтянут, но силой обладал немереной. Он оказался одним из немногих гладиаторов, кто проявил себя в армии с самой лучшей стороны.
Сегестий получил свободу и прижился в армии несколько лет назад, в начале войны с маркоманами, когда Марк Аврелий, чтобы спасти Италию и пополнить ослабленные легионы, провел набор рабов и гладиаторов. За эти годы он стал лучшим копьеметателем в Двенадцатом Молниеносном легионе. Уже полгода, как переведен в когорту охранявших императора преторианцев. Ему уже светило звание центуриона и возвращение в свой легион в качестве примипилярия* (сноска: Примимпилярий – старший по должности центурион (из 60 центурионов легиона); входил в члены военного совета легиона и получал при назначении всадническое достоинство).
Вскинув руку, он приветствовал императора, на лице его была ясно видна озабоченность.
– Сегестий, Витразин утверждает, что дал тебе двадцать сестерциев, чтобы ты пропустил его вперед. Сегестий, ты взял взятку на посту? Знаешь, чем это тебе грозит?
Солдат растерялся, громко и протяжно вздохнул, потом кивнул.
– Да, император. Я готов понести наказание. Нечистый попутал…
– Сегестий, я приказал Витразину покинуть лагерь и отправляться в Рим, однако он – свободный римский гражданин, и я не вправе указывать, где ему находиться, чем заниматься. Он требует должность члена постоянной коллегии, надзирающей за порядком в Риме. Он пригрозил, что останется в лагере, и будет ежедневно молить меня о милости. Скажи, это будет справедливо, если человек, поступающий подобным образом, будет оберегать общественный порядок в Риме?
– Император, если ты прикажешь, чтобы ноги этого негодяя не было в нашем лагере, клянусь, к полудню его и след простынет. После чего я готов принять наказание.
– Ты слышал, Витразин? Чтобы к полудню тебя не было не только вблизи лагеря, но и в Корнунте. Сегестий проводит тебя до задних ворот.
Витразин искоса, с ненавистью глянул на легионера и достаточно громко, чтобы слышал принцепс, выговорил.
– Христианская собака… – после чего многозначительно глянул в сторону Марка.
Тот, однако, оставил донос без внимания.
Когда Витразин покинул шатер, Марк спросил.
– Значит, ты христианин, Сегестий?
Старший солдат кивнул.
– Да, император. Мне так легче. У меня детишки утонули. Семья была, мальчик и девочка. Близняшки, – он сделал паузу, потом добавил. – Может, встречусь с ними на небесах.
Марк с недоумением глянул на солдата.



![Книга Стоицизм и христианство. Эпиктет, Марк Аврелий и Паскаль [Издание второе] автора Жан Гюйо](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-stoicizm-i-hristianstvo.-epiktet-mark-avreliy-i-paskal-izdanie-vtoroe-262536.jpg)




