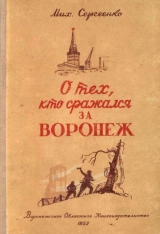
Текст книги "О тех, кто сражался за Воронеж (Очерк)"
Автор книги: Михаил Сергеенко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Михаил Сергеенко
О ТЕХ, КТО СРАЖАЛСЯ ЗА ВОРОНЕЖ
Очерк


1
Весной 1943 года, месяца через два после освобождения Воронежа, мы с Анатолием Ивановичем Красотченко побывали на Ближней Чижовке, там, где в сентябре 1942 года он в рядах воронежского сводного истребительного отряда сражался против немецко-фашистских захватчиков.
День выдался солнечный и ветреный. Мы шли снизу, от улицы Софии Перовской к улице Веры Фигнер, по едва заметной тропинке, круто взбегавшей на один из холмов, которыми богаты овражистые склоны обращенной к реке нагорной части Воронежа. В неглубоких лощинах и траншеях, пересекавших наш путь, лежал серый ноздреватый снег, но там, где пригрело солнце, земля уже подсохла и рыхло оседала под ногами.
Порой воздух сотрясали близкие взрывы, и тогда за взгорьем вставали рыжеватые клубы дыма и кирпичной пыли. Это наши минеры очищали город от вражеских «сюрпризов».
Год назад эти места были густо населены. Здесь был уголок старого Воронежа, еще мало затронутый новым строительством, неузнаваемо изменившим центр и промышленные районы города за годы Сталинских пятилеток. Мы помнили крашеные суриком крыши, тонувшие в зелени садов, крылечки под резными деревянными навесами, маленькие дворики с зарослями сирени у высоких заборов.
Теперь ничего этого не было. Весь нагорный склон от дамбы до Бархатного бугра был обнажен, выжжен, изрезан окопами и ходами сообщения, перепахан взрывами снарядов, мин, авиабомб. Не было ни домов, ни заборов, ни улиц. Кое-где из груд щебня выступали углы кирпичных фундаментов, под которыми чернели норы блиндажей. Валялись обгорелые бревна и расщепленные доски. Случайно уцелевшие ворота с сорванной калиткой одиноко торчали перед пустырем, где не осталось и следов от дома и надворных построек.
Вывороченные камни булыжной мостовой помогали нам определять прежнее направление улиц, а опрокинутая набок водоразборная колонка, возле которой распласталась сорванная с танка гусеница, указывала, что здесь когда-то был перекресток.
Огонь жестокого сражения не пощадил и садов. Искромсанные, обожженные стволы деревьев казались мертвыми, и лишь на вдавленных в землю стеблях каких-то живучих кустов пробивались едва заметные почки.
Мы перепрыгивали через окопы, обходили глубокие глинистые воронки, Под ногами звякали обломки металла, ржавые и бесформенные.
Снег только недавно сошел, обнажив неубранное поле сражения таким, каким его занесли сугробы ранней зимой прошлого года. Кучками лежали стреляные гильзы и рядом с ними набитые патронами звенья металлических лент от немецких пулеметов. Уткнувшись в землю, валялись выброшенные из железных коробок мины, похожие на головастых рыб с хищно растопыренными плавниками. Разбитые деревянные ящики сыпали из прорванных пачек пергаментной упаковки нежный, яичного цвета порошок, таящий в себе губительную взрывчатую силу.
Красотченко остановился у маленького окопчика, возле которого были обильно насыпаны короткие латунные гильзы.
– Наш автоматчик действовал, – оказал он.
Присев на корточки, он захватил с бруствера горсть земли, размял ее в руках. На ладони у него осталось две черных, расплющенных пули.
– Вот так здесь повсюду. В воздухе бывало так плотно, что нельзя было поднять головы…
Неподалеку на пригорке мы увидели дымок, мирно поднимавшийся к голубому, по-весеннему чистому небу У разрушенного дома сохранилась только одна бревенчатая стена. На протянутом от нее к полуобгорелому дереву шнуре полевого кабеля трепалось по ветру мокрое белье. Возле костра на ящике из-под патронов понуро сидел старик, пробуя оструганной палочкой варившуюся в котелке картошку.
Мы поздоровались и присели на кирпичах фундаментной кладки.
– Давно вернулись? – спросил я.
Старик устало посмотрел на нас и, пряча слезящиеся от дыма глаза за притухшими веками, снова занялся своей картошкой.
– На прошлой неделе вернулись, – ответил он, когда молчание стало неловким, и недоверчиво спросил – А вы кто будете?
– Воевать мне довелось здесь, папаша, – сказал Красотченко. – Вашу улицу защищал. Вот теперь с товарищем интересуемся: что у вас тут делается?
Старик скользнул взглядом по военной шинели Красотченко и заговорил дружелюбней:
– Видать, страшные были бои. Только это уже без нас. Как занял Гитлер Чижовку, так сразу и взялся нас отсюда вакувыривать.
– Эвакуировать?
– Я же и говорю вакувыривать, – сказал старик, и что-то похожее на невеселую усмешку промелькнуло в его глазах.
Должно быть, ему нравилось произносить это слово на свой лад, придавая ему новый, выразительный смысл.
– Далеко угоняли фашисты?
– Под Сумы. И дальше погнали бы, да не успели… – Старик пожевал сухими губами и продолжал медленно, будто каждое слово требовало от него усилия: – Что говорить – исстрадался народ. Не каждому такое выдержать… Я-то ничего. А вот старуха померла. Застудилась и померла. Слабая уже была совсем…
Он замолчал и стал скучивать козью ножку. Лицо его, одутловатое, поросшее жесткой сединой, казалось спокойным, но узловатые пальцы дрожали, просыпая на колени махорку.
Мы тоже закурили.
Откуда-то появились двое ребятишек: худенькая веснушчатая девочка лет восьми, с заложенной вокруг головы русой косичкой, и мальчишка лет четырех-пяти, бледный и пухлолицый. Они с любопытством уставились на нас.
– Внуки ваши? – спросил я.
– Внучка. А мальчик соседский…
– Где же соседи живут?
– Там вон – за оврагом.
Старик неопределенно кивнул в сторону другого бугра, на котором мы не рассмотрели ничего похожего на человеческое жилье.
– Сын, верно, на фронте?
– С сорок первого года сынок воюет. На Дзержинском заводе работал. Оттуда и на фронт с железнодорожным полком ушел…
Понемногу оживляясь, старик рассказал нам, что у них в семье все «природные» слесари и что он сам сорок лет работал по слесарной части.
Из подвала, уходившего под то, что оставалось от дома, поднялась женщина. Она была еще молода, но усталые, ввалившиеся глаза и плотно сжатые бескровные губы делали ее похожей на старуху. Она остановилась в стороне, выжидательно поглядывая на нас.
– Невестка, – сообщил старик и, понизив голос, добавил:
– Хворает все. Били ее фашисты…
– Здравствуйте, хозяюшка, – приветливо сказал Красотченко. – Вот интересуемся, как вы тут живете…
Лицо женщины страдальчески дрогнуло.
– Сами видите. Всего лишил проклятый Гитлер…
– И то спасение, что погребок наш кто-то досками обшил, – заметил старик. – Должно быть, начальство помещалось.
– Только и делаем, что с крысами целый день воюем, – говорила женщина. – Житья не дают. Откуда их такая прорва?..
– Вам бы поближе к центру переселиться. Легче было бы: народ кругом.
– Я ему сколько раз говорила. Сестрина квартира на Никитинской цела, только дыру в стене заложить. А он и слышать не хочет…
В голосе женщины звучали слезы.
Лицо старика снова сделалось угрюмым.
– Куда от родного места пойдешь, – негромко проговорил он, – Вся жизнь здесь прожита.
Глаза его хмуро смотрели мимо нас на широкую пойму реки, затопленную половодьем, на покрытые желтоватым пухом шапки ветел, стоявших по пояс в воде, на степной простор полей за многоэтажными домами Сталинского промышленного района на левом берегу. Влажный ветер шевелил пряди его седых волос, сбившихся на лоб.
– Домишко этот еще мой отец строил, – говорил старик, будто жалуясь нам на свою потерю. – Справный был домик, аккуратный. Три комнаты и кухня, галерея под стеклом…
Он помолчал и вдруг сказал упрямо, с неожиданной силой:
– Не будет того, чтобы поганый фашист меня отсюда с корнем выковырял…
– Значит, опять здесь будете строиться?
– Значит, будем. А ты не плачь, – покосился он на невестку, – была бы кость цела, мясо нарастет.
Женщина, ничего не сказав, отошла к сохнущему белью.
Старик засопел и снова полез в карман за махоркой.
– Дядя, – сказала девочка, заглядывая мне в лицо по-детски ясными и какими-то удивительно прозрачными глазами. – Пойдемте, я вам танк немецкий покажу.
– Никуда ты не пойдешь! – крикнула женщина. – Сказано тебе: сиди дома!..
Она сердито расправила хлопавшую по ветру, как парус, простыню и обернулась к нам.
– Давеча тут мальчишку пополам порвало. Кто говорит миной, кто – снарядом.
– Миной, – важно сказал соседский мальчик, внимательно слушавший все, что говорят взрослые. – Она лежала себе, а он по ней кирпичом как вдарит!..
– Мама-а! – капризно затянула девочка. – Там мин нету. Это, где Костик жил…
– Вот еще горе мое. Никакого слада с ней нет.
– Мама-а! Я же сейчас обратно.
– Смотри, чтобы никуда больше! – устало сказала мать.
Девочка, сразу повеселев, двинулась вперед, ловко перепрыгивая через кирпичи и обгорелые доски. Следом за ней пошел и соседский мальчик.
Мы спустились в неглубокий овраг, выбрались на другую сторону и здесь увидели легкий немецкий танк, разрисованный кургузыми крестами и похожими на пауков свастиками. На башне белой краской была намалевана волчья голова с оскаленной пастью. Однако вся эта устрашающая мазня, видимо, мало помогла фашистским танкистам. Осевший набок, с перебитой гусеницей, танк имел весьма жалкий вид. Девочка забралась в него через открытый люк и, высунув оттуда голову, закричала:
– Дядя! Тут и снаряды есть! Ой, да как интересно!..
Но мы не успели заглянуть в танк. К нам подбежал соседский мальчик и цепко ухватил Красотченко за полу шинели.
– Посмотри, дядя, там… Вон там… – еле переводя дух, говорил он, испуганно показывая на развалины не то дома, не то сарая.
Мы подошли. За обвалившейся кирпичной стеной лежал убитый гитлеровский солдат.
Он лежал на спине, раскинув руки и свесив согнутые в коленях ноги в открытый люк погреба. Должно быть, пуля нашего стрелка поразила его в ту минуту, когда он пытался выбраться из подземного убежища…
Рядом с нами, прижавшись друг к другу, стояли мальчик и девочка, широко открытыми глазами глядя на обглоданный крысами труп чужого солдата, одного из тех двуногих зверей, что разрушили их дом, лишили их тепла и уюта, простых милых радостей детства, обернули к ним жизнь грязной, кровавой стороной…
– Пойдемте отсюда. Нечего вам здесь делать, – сказал Красотченко и ласково привлек к себе ребят.
Должно быть, он думал в эту минуту о том же, о чем и я, – о ненависти и мести, о жестокой каре врагу за страдания и слёзы наших детей. Мы знаем: пройдет не так уж много лет, и наша могучая страна залечит раны, нанесенные войной, отстроит разрушенные города и села, вырастит на месте сожженных новые сады, радостью мирного творческого труда наполнит сердце человека. Но в памяти этих двух ребят, о которых по-отцовски позаботится советский народ, никогда не сотрется всё то, что довелось им пережить в самом начале своего жизненного пути. Пусть же крепнет с годами в их душе святая ненависть к захватчикам-чужеземцам и ясным огнем разгорается любовь и признательность к отцам и старшим братьям, с оружием в руках отстоявшим родную землю от вражеского нашествия…
2
В тот день мы долго ходили по пустырям и развалинам Ближней Чижовки. Не раз возвращались к одним и тем же местам, чтобы с большей точностью восстановить последовательность боевых событий, происходивших здесь.
Красотченко был сосредоточен и молчалив. Многое в его памяти выглядело совсем по-иному, чем теперь. В то тревожное утро 18 сентября, когда он, наскоро сколотив ударную группу бойцов, двинулся навстречу прорвавшимся немецким автоматчикам, большинство домов по обе стороны улицы Веры Фигнер было еще цело. Деревья и кусты создавали возможность маскировки. Еще не были засыпаны взрывами авиабомб ходы сообщения, отрытые на огородах. По краю оврага за Аксеновым бугром проходил длинный забор…
Красотченко пытался разыскать печь с высокой трубой, торчавшую тогда на месте сгоревшего дома. Укрывшись за ней, он вел поединок с вражеским стрелком. Но уже не было этой печи. Не было и стоявшего напротив за оврагом дома с зелеными ставнями, в палисаднике которого прятался фашистский солдат.
Единственным надежным ориентиром для нас служили искрошенные снарядами кирпичные стены большого двухэтажного здания детского сада. Здесь 17 сентября был один из узловых очагов боя, и волны отдельных стычек далеко растекались отсюда вправо и влево. Бойцы действовавшей здесь красноармейской части выбили гитлеровцев из нижнего этажа правого крыла дома, но враг упорно цеплялся за остальную его часть, потому что, пока на втором этаже сидели его снайперы и пулеметчики, он мог держать под прицельным огнем не только улицу Веры Фигнер, но и большую часть дворов, прилегавших к ней.
– Обманчивая штука перспектива, – с досадой сказал Красотченко, после того как мы, наконец, определили место, где стоял дом с зелеными ставнями, и даже нашли следы палисадника. – Когда мы погнали гитлеровцев, мне казалось, что от этого овражка до детского сада, по крайней мере, километр, а сейчас гляжу – рукой подать. Если вокруг – дома и деревья, совсем иное впечатление…
Зато он сразу оживился, когда, пройдя влево от развалин детского сада, мы наткнулись на полуразрушенный дом, к углу которого была прибита фанерная дощечка с надписью: Красная горка, 22.
Красотченко узнал место, где находился во время боя штаб сводного истребительного отряда. Рядом во дворе в подвале был командный пункт батальона стрелкового полка, на участке которого действовали истребители.
Дому на Красной горке повезло больше, чем другим. Правда, две стены в нем были снесены начисто, и большая угловая комната, в которой по странной случайности уцелел дощатый пол, представляла сейчас собою нечто похожее на открытую террасу, но позади нее сохранилась маленькая полутемная каморка, где уже ютились вернувшиеся из эвакуации хозяева. Домик стоял в ложбине, по которой спускалась вниз к реке кривая улочка, и самим своим местоположением был защищен от прямых попаданий артиллерийских снарядов.
Мы познакомились с его жильцами. Семья, состоявшая из матери, мальчика и двух дочерей-подростков, деятельно приводила в порядок свое разоренное хозяйство. На полу были насыпаны две большие кучи песку и глины, в маленькой комнате уже сложена плита, во дворе лежали бревна и доски, собранные на пустырях по соседству. Узнав, что Красотченко был участником сентябрьского сражения за Воронеж, ребята обступили его, наперебой отвечая на наши вопросы. Они уже слышали от кого-то, что в их доме помещался штаб сводного отряда воронежских истребителей и ополченцев.
– Вот на этом месте под наружной стеной стояла кровать, а в том углу стол, – вспоминал Красотченко, и ребята хором подтверждали, что именно так оно и было в их квартире.
В комнате тогда была еще клеенчатая кушетка, на которой в ночь на 18 сентября Красотченко удалось вздремнуть пару часов, пока близкие автоматные очереди не подняли его на ноги.
А здесь, на стене, – он ясно помнит это – висела чья-то рубашка, летняя полотняная рубашка с вышитым воротом.
– Рубашка? – недоумевая, переспросила хозяйка – Откуда бы она могла взяться тут?..
– Конечно, была и рубашка! – закричала одна из девочек. – Дяди Саши рубашка!..
И все сразу вспомнили, что, когда семья уходила из города, в этой комнате на стене действительно осталась висеть рубашка неведомого нам дяди Саши.
Все эти житейские подробности как-то сразу сблизили Красотченко с обитателями дома № 22. Ребята вдруг почувствовали, что этот человек, проведший ночь в их брошенной квартире, шел сражаться и за них, и за этот дом – за все, что было дорого и привычно им с детства.
О многом напомнили Красотченко стены полуразрушенного домика, словно не один день, а целая большая полоса его жизни прошла здесь. Как живые, встали перед ним его боевые товарищи, которых ему больше никогда не доведется увидеть: маленький белокурый старшина отряда Георгий Александрович Родных, в аккуратно заправленной под ремень шинели, – такой же требовательный и исполнительный на поле боя, как и в ополченской казарме в Сосновке, где у него всегда была образцовая чистота и порядок; командир отделения Андрей Константинович Шишкин, учитель железнодорожной школы, спокойное мужество которого как-то незаметно передавалось окружавшим его людям; отважная девушка Аня Скоробогатько, чье горячее юное сердце было безраздельно отдано служению любимой Родине.
Здесь, во дворе, Красотченко в последний раз видел комиссара сводного истребительного отряда Куцыгина.
Это было 17 сентября, перед началом атаки.
– Даниил Максимович, – сказал Красотченко, задержав Куцыгина у калитки, – береги себя, не рискуй без надобности…
Куцыгин, хмурясь, взглянул на него.
– Э, брат, мы же с тобой на войне… – ответил он.
И вдруг улыбка озарила его волевое лицо.
– Нам с тобой, Анатолий, не о себе думать надо, а о тех, кто за нами идет. Это же золотые ребята! – сказал он и дружески сжал локоть Красотченко…
Мы прошли к тому месту, где был похоронен Куцыгин. Лавина огня и металла прокатилась и здесь, сровняв с землей строения и заборы. Нельзя было разобрать, где кончался один двор и начинался соседний. Но Красотченко уверенно шел вперед, словно он видел эти места такими, какими они были тогда, в первый день атаки.
– Здесь! – сказал он останавливаясь, – Сбоку, я помню, росла сирень, дальше был забор и калитка. Мы положили Куцыгина на землю и укрыли плащ-палаткой.
Красотченко еще раз осмотрелся по сторонам и повторил:
– Да, здесь…
Там, где был похоронен Куцыгин, виднелась полузасыпанная воронка от авиабомбы.
Большевик Даниил Максимович Куцыгин умер как воин, и могилой его стало поле боя. До войны он работал в этом районе города секретарем райкома партии. Человек большой открытой души, кристальной честности и прямоты, он мог показаться замкнутым и суровым только тому, кто видел его впервые. Но вот оторвется Даниил Максимович от работы, снимет очки, – он был дальнозорок и обычно работал в очках, – внимательно посмотрит на тебя глубоко запавшими горячими глазами и скажет добродушно, чуть усмехаясь уголками рта:
– Ну, садись, рассказывай…
И таким понятным и простым вдруг станет этот человек, что ты сядешь и расскажешь ему все, что у тебя на душе.
Вражеская пуля сразила Куцыгина, когда он поднимал бойцов в атаку на тех самых улицах, с которыми были связаны последние годы его жизни и работы. И бойцы встали и, презирая смерть, пошли на штурм, очищая от фашистов дам за домом, квартал за кварталом. Напрасно бросались в контратаки вражеские автоматчики, напрасно самолеты с черными крестами на крыльях, волна за волной, бомбили дома освобожденных улиц. Истребители не отдали назад ни одной пяди земли, отбитой у врага в жестоких сентябрьских боях…
Мы разыскали и могилу Ани Скоробогатько. Она была похоронена в соседнем дворе у старого куста бузины, покрытого тогда, в сентябре, тяжелыми кистями черных ягод. Короткий, узловатый ствол сохранился и сейчас, и это облегчило нам поиски.
Я много слышал об Ане Скоробогатько от ее товарищей. Они рассказывали о ней с большой любовью и нежностью, – так говорят о человеке близком, родном.
И теперь, стоя у могилы Ани, я старался представить себе ее живой, вспоминая все, что знал о ней.
Аня была совсем еще молодая, жизнерадостная девушка, невысокого роста, крепко сложенная, с ярким румянцем на смуглых щеках.
Ее нельзя было назвать красивой, однако было в ней нечто такое, что невольно привлекало внимание, выделяло ее среди подруг. Волнистые с каштановым отливом волосы, зачесанные назад, открывали прямой и чистый, немножко упрямый лоб. Брови были черные, тонко очерченные. Рисунок их не казался резким, он был легок и стремителен. Они оживляли лицо Ани, делали его энергичным и в то же время женственно привлекательным.
Глаза у Ани были тоже темные – спокойные, немного мечтательные глаза. Но вдруг промелькнет в них такая твердость, такой огонек загорится где-то в глубине, что сразу поймешь, какой сильный характер у этой девушки. Если она решилась на что-либо, будет до конца стоять на своем и обязательно этого добьется.
Родом Аня была из слободы Алексеевки, что находится на юго-западе Воронежской области. Здесь прошло ее детство, здесь она окончила среднюю школу, вступила в комсомол. Она родилась и выросла в рабочей семье. К труду была приучена с детства. Все так и спорилось в ее руках, потому что за всякое дело она бралась с душой и никакую работу не считала для себя зазорной.
В школе Аня училась хорошо, была активной общественницей, состояла членом бюро комсомольской организации.
У нее было чуткое, отзывчивое сердце. Она охотно помогала товарищам, делилась с ними учебниками, занималась с отстающими. Ее характеру были чужды мелочный эгоизм, зависть и заносчивость.
Она много читала. И среди любимых ею книг самой любимой был роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Его Аня перечитывала несколько раз. Героическая жизнь Павла Корчагина до слез волновала ее. Павка был для Ани образцом несгибаемого мужества. В трудные минуты жизни она всегда задавала себе вопрос: а как бы поступил на ее месте Павел Корчагин?..
Аня умела не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. По субботам, вечером, в маленьком уютном домике, где жила семья Скоробогатько, собиралась молодежь. Мать варила традиционные вареники. После ужина цели песни, танцевали. Аня любила музыку и сама немного играла на гитаре. Но еще больше любила она хорошую, задушевную песню, которая и радует, и тревожит, и веселит человеческую душу. И поплясать любила Аня. Веселилась она всегда искренне, от души, заражая своим весельем окружающих…
В истребительный батальон Аня Скоробогатько пришла студенткой четвертого курса Зооветинститута. Она по-прежнему была энергичная, живая, веселая, отзывчивая. Но круг ее интересов стал шире и многосторонней. Тверже сделался характер, вдумчивей отношение к жизни и окружающим людям. Богато одаренная от природы, Аня много и упорно работала над собой. Она была сталинской стипендиаткой. Мечтая стать ученым-животноводом, активно участвовала в студенческом научном кружке, и профессора считали, что из нее должен выйти серьезный научный работник.
В батальоне Аня сразу же показала себя исправным бойцом. Товарищи ее могли припомнить лишь один случай, когда она нарушила дисциплину. Произошло это вот при каких обстоятельствах. Караульный начальник делал обход охраняемого объекта. Аня стояла на лестнице, под лампой, на внутреннем посту. Должно быть, она не слыхала его шагов, так как не успела даже закрыть книгу. От смущения ее бросило в жар. Все лицо залилось густым румянцем. Не трудно было догадаться, что, стоя на посту, она готовилась к экзаменам… Караульный начальник ограничился лишь замечанием: он знал, что подобное больше не повторится.
Аня была хорошим товарищем. С ней было легко и просто. Лишения она переносила так, словно их не замечала. Следует ли говорить, что когда кто-либо из бойцов просил ее помочь ему, починить что-либо из одежды или постирать рубаху, она охотно жертвовала своим досугом, не считая это одолжением.
Аня понимала и ценила дружескую шутку. Если же иной балагур разойдется не в меру и сболтнет такое, чего не следует говорить при девушках, она умела поставить его на место, не делая из этого никакой истории. Чуть нахмурит свои крылатые брови и скажет спокойно, как бы между прочим:
– Может, довольно, ребята?..
И тот прикусит язык, чувствуя неловкость и смущение.
Была в Ане внутренняя чистота, которая заставляла окружавших ее людей строже относиться к себе, проверять свои поступки перед судом совести.
Окончание экзаменов в воронежских вузах в 1942 году совпало с моментом, когда на Юго-Западном фронте создалась напряженная обстановка. Ане предстояло проходить летнюю практику в одном из восточных районов, но она пришла к директору института и сказала, что не уедет из Воронежа, что для нее было бы бесчестным покинуть сейчас батальон и не разделить со своими товарищами опасности. И она настояла на своем.
Такова была Аня Скоробогатько, девушка, воспитанная Ленинско-Сталинским комсомолом, которую нельзя было не уважать и не любить. Какая большая и интересная жизнь могла быть у нее, если бы война не нарушила мирный творческий труд советского народа. В тяжкий час, который переживала наша Родина, Аня смело пошла навстречу опасности, потому что к этому призывал ее долг. Она не могла поступить иначе. И когда, тяжело раненная, поняла, что впереди смерть, она не дрогнула. Умирая, звала своих товарищей к отмщению и победе…
Думая об Ане Скоробогатько, я видел рядом с нею и других бойцов сводного истребительного отряда, людей разных возрастов и профессий: партийных и советских работников, инженеров, учителей, рабочих, студентов. Все они, такие различные по своим привычкам и складу характера, были едины в своей горячей любви к Родине. Большинство из них впервые участвовало в бою, но с какой стойкостью сражались они с врагом! Мужество их вызывало восхищение бойцов и командиров регулярных войск.
В истории стрелкового полка, на участке которого дрался сводный отряд воронежских истребителей и ополченцев, записаны имена тех, кто в жестоком уличном бою на Ближней Чижовке показал образец воинской доблести и отваги. Первым стоит имя комсомольца Валентина Куколкина, за два дня уничтожившего девять гитлеровцев, в том числе трех офицеров.
Куколкин был еще моложе Ани Скоробогатько. Родом донской казак, черноволосый, черноглазый, не по годам рослый и широкоплечий, он был полон задора и энергии, Жизнь в нем так и била ключом. На него было приятно смотреть, когда он шел по улице легкой, порывистой походкой, одетый в спортивную майку, плотно облегающую грудь, веселый и подвижной.
По характеру своему очень общительный, Куколкин как-то сразу располагал к себе людей уже при первом знакомстве. Находясь в компании молодежи, овладевал общим вниманием. И получалось это у него просто, само собой.
Казалось, все легко дается Валентину Куколкину, однако никто не смог бы упрекнуть его в том, что он разбрасывается или попусту тратит свои силы.
В Ворошиловском райкоме комсомола он возглавлял военную работу. С увлечением отдаваясь ей, он умел привить молодежи вкус к спорту и тактическим занятиям, в которые вносил дух соревнования и юношеской романтики.
Работая мотористом на одном из воронежских заводов, Куколкин всегда находил в порученном ему деле что-нибудь новое и интересное.
Он мечтал об учебе в техническом вузе. Из него, наверно, вышел бы хороший конструктор, потому что, не имея специального технического образования, он без труда разбирался в самых сложных механизмах.
4 июля 1942 года, когда бои шли уже на ближних подступах к Воронежу и город подвергался непрерывной бомбежке, Куколкин безотлучно находился в райкоме комсомола, энергично организуя эвакуацию. Он тяжело переживал происходящие события. Товарищам сказал:
– Никуда я из Воронежа не пойду. Останусь и буду уничтожать гитлеровцев. Я здесь знаю любой дом, любой подвал. Пусть попробуют фашисты найти меня…
И лишь подчиняясь распоряжению Обкома ВЛКСМ, уже совсем вечером Куколкин с группой комсомольских работников покинул родной город.
Конечно, тяжелые дни отхода из горящего Воронежа наложили свой отпечаток и на Валентина Куколкина. Он осунулся, посерьезнел, стал как-то строже и взрослее. Но уныние не было свойственно его деятельной натуре. Всем своим поведением и в Новой Усмани, где он очутился сперва, и позже в Отрожках и Сосновке он поддерживал бодрость в товарищах, увлекал их своим примером. Теперь все его мысли и стремления были направлены к одной цели. Он рвался в бой, навстречу опасности и подвигу. Мечтой его стало получить какое-нибудь ответственное задание, связанное с переходом линии фронта и партизанской борьбой в тылу врага…
В сентябрьских боях на Ближней Чижовке восемнадцатилетний Валентин Куколкин вел себя как опытный воин, бесстрашно охотясь за гитлеровскими офицерами и умело организуя уничтожение вражеских огневых точек.
Фашистская пуля рано оборвала эту яркую, еще не раскрывшую своих богатых возможностей жизнь. Но мужеством своим в бою за родной город Валентин Куколкин заслужил, чтобы воронежские комсомольцы бережно сохранили память о нем.
…Солнце стояло уже совсем низко, когда мы с Анатолием Ивановичем Красотченко собрались идти обратно. Ветер сделался холодным и резким, он с воем проносился над опустошенной землей, не встречая ничего, что могло бы задержать его полет.
«Из пепла пожарищ, из обломков и развалин мы восстановим тебя, родной Воронеж!» – встали перед моими глазами слова клятвы-призыва тех, кто вернулся на родные пепелища с верой в свои силы, с твердой волей поднять из руин разрушенный врагам город. Нельзя было без волнения читать эти простые, искренние и страстные слова, написанные крупными неровными буквами на стенах полуразрушенных домов, на уцелевшем фронтоне сожженного немецкими бомбардировщиками драматического театра, на фанерных щитах, прибитых к телефонным столбам на перекрестках улиц. Никто не запомнил, кто первый написал их. Они были рождены душевным порывом людей, умеющих не только мужественно смотреть в лицо жестоким испытаниям нынешнего дня, но и видеть мысленным взором день грядущий, полный солнечного света, радости и вдохновенного созидательного труда.
Нет, недолго будет безжалостный степной ветер хозяином здесь!..
– Из пепла пожарищ, из обломков и развалив мы восстановим тебя, родной Воронеж…
– А здесь, на этом месте, будет поставлен памятник тем, кто отдал жизнь в боях за наш город, – с болью и гордостью сказал Красотченко, как бы продолжая мои мысли. – Высокий красивый памятник, чтобы его было видно издалека. К нему будет приходить много людей со своей печалью и со своей радостью, потому что это будет святое место для нас, воронежцев…
Этими словами Анатолия Ивановича Красотченко мне хочется начать рассказ о том, как три дня дрался с гитлеровцами на улицах родного города сводный отряд воронежских истребителей, ополченцев и бойцов партизанского отряда «Граница».








