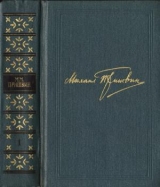
Текст книги "Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком"
Автор книги: Михаил Пришвин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
В краю непуганых птиц*

На угоре
(Вместо предисловия)

Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.
– Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?
– Теперь недалеко, вон лес, смотри через сухую сосну. Видишь? Да вон там черная сосна, громом разбило Там и лес.
Торчит деревце, небольшое, ниже Мануйлы, и на всей моховине деревья ниже Мануйлы, он кажется огромным.
Остановились усталые. Лайка, тоже заморенная, так и пала на месте, тяжело дышит, высунула язык.
– И так всю жизнь, – говорит Мануйло, – всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает – помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем. Ну, пойдем. Солнце садится…
И опять свистит сапог-насос. Навстречу нам лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, потом высокие сосны обступают со всех сторон. В лесу темнеет, хоть и коротка северная летняя ночь, а все же надо заснуть. Холодно, сыро. Мы раскачиваем сухое дерево, оно валится с треском, другое, третье. Тащим их на угор, укладываем рядом. На середине деревьев зажигаем сухие сучья. Костер разгорается. Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть перешептываются вершинами, по-своему рады гостям. Мануйло снимает шкурки с убитых белок, кормит их мясом собаку, что-то бормочет ей.
– Да купи ты себе собачку, – говорит он мне, – без собаки нельзя.
– На что мне она, я живу в городе.
– А веселее с собачкой, хлебца ей дашь, поговоришь…
И гладит свою собаку широкой, грубой ладонью, пригибая упругие, острые, чуткие ушки.
– Ну, спи. Спокойно спи. Звирь подойдет, собака услышит, проснемся. Ружье поближе к себе положи. Змей тут нету, место сухое, спи спокойно. Проснешься – увидишь, что середка прогорела, сдвинь дерева и ложись. Спи спокойно, место сухое.
Снится страна непуганых птиц. Полунощное солнце – красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрятся в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло… И вдруг сыплются страшные красные искры, пламя, треск…
– Зверь! Мануйло, вставай, медведь, зверь! Скорее, скорее!
– Звирь? Где звирь?
– Трещит…
– Это дерево треснуло в костре. Надо сдвинуть. Да спи же спокойно, звирь нас не тронет. Господь его покорил человеку. Что тебе не спится, место сухое.
И насторожился… Что-то завозилось наверху, на ближайшей сосне, у костра.
– Птица шевелится. Верно, рябок подлетел. Ишь ты, не боится!..
Посмотрел на меня, сказал значительно, почти таинственно:
– В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.
– Непуганая птица?
– Нетращенная, много такой птицы, есть такая…
Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуганых птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.
– Нет такой птицы.
– Есть, есть, – спокойно твердит Мануйло.
– Да нет же, нет, – беспокоится маленький, – это только в сказках, может быть, и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки…
– Ну вот, поди ты говори с ним, – жалуется мне огромный Мануйло. – У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Ну, вставай, вставай, солнце взошло. Ишь угрелся. Вставай! Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смирёная…
Я встал. Мы затоптали костер, вскинули ружья и спустились с угора в низину, в лесную чащу, в топь.
Вступление. От Петербурга до Повенца

Прежде чем начать рассказывать о своем путешествии в «край непуганых птиц», мне хочется объяснить, почему мне вздумалось из центра умственной жизни нашей родины отправиться в такие дебри, где люди занимаются охотой, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую и водяную нечистую силу, сообщаются пешком по едва заметным тропинкам, освещаются лучиной, – словом, живут почти что первобытной жизнью. Чтобы сделать себя понятным, я начну издалека: я передам одно мое впечатление из Берлина.
Как известно, этот город окружен железной дорогой, по которой живущим в германской столице приходится постоянно ездить и наблюдать из окна уличную жизнь. Помню, меня очень удивили рассеянные всюду между домами и фабриками маленькие домики-беседки. Возле этих домиков на земле, площадью иногда не более пола средней комнаты и окруженной живою изгородью, с лопатами в руках ковырялись люди. Странно было видеть этих земледельцев между высокими каменными стенами домов, среди дыма фабричных труб почти в центре Берлина. Меня заинтересовало, что бы это значило. Помню, один господин тут же в вагоне, снисходительно улыбаясь этим земледельцам, как улыбаются взрослые, глядя на детей, рассказал о них следующее. В столице между домами всегда остаются еще не застроенные, не закованные в асфальт и камень кусочки земли. Почти у каждого берлинского рабочего есть неудержимое стремление арендовать эти кусочки, с тем чтобы потом по воскресеньям, устроив предварительно беседку, возделывать на них картофель. Делается это, конечно, не из выгоды: много ли можно собрать овощей с таких смешных огородов. Это дачи рабочих – «Arbeiterkolonien». Осенью, при поспевании картофеля, рабочие на своих огородах устраивают пир «Kartoffelfest», который оканчивается неизменным в таких случаях «Fackelzug».
Так вот как отводят себе душу эти берлинские дачники. От смысла дачи – средства восстановления сил, отнятых городом, посредством общения с природой, – в этом случае остается почти лишь мечта. Немного лучше и с нашими дачниками из мелкого служащего люда, ютящегося летом на окраинах городов. Теперь читатели меня поймут, почему, имея в своем распоряжении два свободных месяца, я вздумал отвести свою душу так, чтобы уже не оставалось тени сомнений в окружающей меня природе, чтобы сами люди, эти опаснейшие враги природы, ничего не имели общего с городом, почти не знали о нем и не отличались от природы.
Где же найти такой край непуганых птиц? Конечно, на Севере, в Архангельской или Олонецкой губерниях, ближайших от Петербурга местах, не тронутых цивилизацией. Вместо того чтобы употребить свое время на «путешествие» в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок, составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии.
По опыту я знал, что в нашем отечестве теперь уже нет такого края непуганых птиц, где бы не было урядника. Вот почему я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время. Все, что мне казалось интересным, я фотографировал. Обладая теперь этим материалом, я, по возвращении в Петербург, решился попытаться дать в ряде небольших очерков если не картинку этого края, то дополненное красками его фотографическое изображение.
* * *
Занятые петербуржцы мало интересуются теми местами столицы, которые тесно связаны с памятью преобразователя России. Сколько тысяч людей ежедневно проходят мимо памятников величайшего исторического значения, проходят всю жизнь куда-нибудь на службу, фабрику и т. д., совершенно их не замечая. Да и неловко даже и присматриваться к памятникам, когда все кругом спешит по делу. Для этого нужно быть иностранцем или провинциалом.
Но вот вы выехали за город. Сначала скрылись дома и остался только лес фабричных труб. Потом исчезли и трубы, и дома, и дачи; позади остается только серое пятно. И тут-то начинаются разговоры о делах Петра Великого. Указывают полузасохшее дерево на берегу Невы и говорят, что это «красные сосны». Петр Великий будто бы взбирался на одно из бывших здесь деревьев и смотрел на бой… А вот и Ладожское озеро и начало канала вокруг него. Кто-то сейчас же говорит: Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро… Тут же виднеется на островку белая крепость Шлиссельбург… Вот где, кажется, и вспомнить о делах Петра и вообще подумать над судьбой родины: крепость, построенная новгородцами и названная ими Орешек, перешла потом к шведам и стала называться Нотебург. В 1702 году, после знаменитого сражения, крепость достается снова русским и называется Шлиссельбург – ключ, которым, по словам Петра, были открыты двери в Европу.
Но все почему-то молчат, когда смотрят на белую крепость: и батюшка, и гимназисты, и барышня, и господин с фотографическим аппаратом.
– Э-х-х-х, господи!.. – бормочет батюшка.
Словно какие-то болезненные бледные призраки становятся на пути мысли к легким, приятным воспоминаниям о славных делах Петра…
И чем дальше, тем больше и больше указывают различных памятников пребывания Петра Великого в этих местах. Нет никакой возможности здесь передать все эти народные предания, указать на все памятники. Их так много, что не знаешь, с чего начать, как связать. Здесь нужен историк. Необходимо пополнить этот пробел в нашей литературе.
* * *
Солнце погрузилось в Ладожское озеро, но от этого нисколько не стало темнее. Просто не верится, что оно закатилось, скорее подходит сказать: солнце «село». Словно там, за водной гладью горизонта, оно притаилось, прячется, как страусы прячут от охотника голову в песок. Светло по-прежнему, но мало-помалу все становится призрачным.
Призрачным становится этот оранжевый, освещенный притаившимся солнцем дым… Это не дым, это длинная широкая дорога уходит вдаль, в небо. Призрачным кажется след на воде от парохода, почему-то не исчезающий, но все расширяющийся и расширяющийся туда, дальше, к исчезнувшему берегу. Призрачны все эти молчаливые люди, глядящие на водную и небесную дорогу… Это не полковник, батюшка, барышня и гимназист, а таинственные глубокие существа.
Легкая зыбь – «колышень» – рябит воду. Пароходом она не ощущается, но маленькое озерное судно «сойма» слегка покачивается. Немножко колышется и «лайда» – финское судно с картинно натянутыми парусами. Вдали показывается белое пятно. Маяк это, церковь с того берега, который уходит в Ладогу, или парус какого-то большого судна? Пятно куда-то исчезает, но скоро показывается маяк, а на красном небе вырисовывается полногрудый силуэт большого озерного старинного судна: «галиота».
* * *
Я не помню, кто это из путешественников сказал: будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случалось ли чего с этим пароходом, например, не отваливалось ли дно и т. д. Все эти меры предосторожности я принял. Мы ехали на новом пароходе «Павел»; он совершал свой первый рейс от Петербурга в Петрозаводск – Повенец и был построен в Англии. Даже самое общество пароходовладельцев основалось на английский манер.
– Помилуйте, – говорил нам один из нескольких членов общества, маленький, кругленький петрозаводский купчик, – помилуйте, в Англии даже одно общество лакеев имеет свой собственный пароход, а мы, русские купцы, для своих товаров не можем завести собственных пароходов.
Я не знаю, бывали ли в России когда-нибудь такие общества. В нем объединялись мелкие и средние торговцы. Достаточно было внести пай, кажется, в двести рублей, чтобы сделаться членом этого общества, но с обязательством возить свои грузы лишь на собственных пароходах. Тут было немножко политики. Время было юное, бодрое, с розовыми надеждами… Раздавались неслыханные раньше голоса в Государственной думе.
– Вы знаете, – торопились новые борцы, – разве теперь время, чтобы сидеть сложа руки… А у нас по берегам Онего такие угодники сидят, что знать никого не хотят. Что ни место, то свой святой… А самолюбие! Такие самолюбивые, скажу вам, что газету из-за самолюбия читать не станут!
Все эти купчики, оживленные новыми перспективами, широкими горизонтами новых времен, сопровождая пароход при первом рейсе, разыгрывали из себя настоящих моряков. Один юркнет в машину и вернется с черным пятном на лбу и платком вытирает масляное пятно на одежде, другой мешает капитану. Но больше всего их собралось на корме у аппарата, отсчитывающего узлы.
– Да не может быть! Шестьдесят узлов! Тридцать верст в час!
Узлы, секунды, курс… так и сыплются морские термины у моряков с брюшками. У одного даже очутился в руках компас…
Все дело в том, чтобы догнать пароход «Свирь», принадлежащий старому обществу. Пароход «Павел» делал на столько-то узлов больше в час, чем «Свирь», и должен был перегнать его на Ладожском озере. Об этом говорили даже публике, когда выдавали билеты. Вот почему и считали узлы, и смотрели вдаль: не покажется ли дым.
И дым показался! Больше. Показалась труба. Узлы, секунды, курс – все было забыто. Еще полчаса, и на Ладожском озере европейцы-купцы готовы были торжествовать победу.
Вдруг в машине что-то заскрипело, затрещало, оттуда на палубу повалил дым. И все засуетились: и публика, и настоящие матросы, и матросы с брюшками. Кто-то направлял наконечник пожарной трубы в машину.
Через час все благополучно кончилось. Пароход снова пошел. Но с мыслью догнать «Свирь» пришлось расстаться навсегда.
– Ничего, ничего, – грустно утешались хозяева, – машина новая, оботрется…
Теперь, когда я пишу, оба парохода этого общества, «Петр» и «Павел», грустно стоят на Неве без котлов, без колес. Оба потерпели аварии: один на Свирских порогах, другой на озере Онего. За все лето они совершили лишь по одному или по два рейса.
– И где им, – торжествовали «самолюбивые» купцы. – Собралась у них всякая мелкота. Да разве можно такие большие пароходы по нашим рекам и озерам пускать. Да и лоцмана были дрянные.
Не знаю, повысило ли теперь старое общество пассажирскую плату. Новое общество сбило было ее почти наполовину.
* * *
Едва справились с бедой, как стало покачивать, и, чем дальше, все сильней. Сначала поднялась с места задумчивая барышня и подошла к борту. Потом заболела девочка на руках у матери и сказала: «Мама, эта конка бя!» Наконец, полковник-старичок сходил к борту и, вернувшись, словно извинялся: «Тысячу раз клялся не ездить по этому проклятому озеру!» Ему было особенно неловко, потому что он только что рассказывал, как он ходил на медведей с рогатиной. Как бы там ни было, но все обрадовались, когда показалось наконец широкое устье Свири.
Река Свирь – прежде всего место для перевозки леса, муки. Она есть одно из тех устьев Мариинской водной системы, которая соединяет Петербург с Поволжьем. Я это говорю не для того, чтобы сделать очерк о промышленности, но только хочу отметить, что торговая жизнь здесь уж очень кладет свой отпечаток на все. Вот, например, большое торговое село с большими деревянными домами со множеством окон. Это, конечно, хорошо, но почему же возле этих удобных, светлых домов нет садика, деревца, огорода, вообще каких-нибудь признаков заботливости у своего жилища? Лучше всего это станет понятным, если прислушаться к разговору тверской няньки, едущей при господах, и олончанина из Шуньги. Нянька, как и я, недовольна видом этих домов.
– И зачем только едут господа? – говорила она, сильно окая. – Да где же у вас усадьбы, огороды, а где пашня, зачем изгороди косые?
Олончанин говорит тоже окая, но не так сильно, как мне показалось, сравнительно с уроженкой Тверской губернии. Он говорит, что косые изгороди прочнее, а ковыряться в огородах по здешним местам невыгодно, есть другие промыслы. По его словам, лоцмана зарабатывают рублей триста в лето, и тут уж не до капусты.
Но у няньки своя логика, «женская», и потому она прерывает рассудительную речь олончанина:
– А у нас-то везде огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, изгороди прямые. Что это! – презрительно восклицает она, показывая на берег. – Кусты, ямочки, горочки, камни…
Берега в самом деле какие-то невеселые. Хороши они, вероятно, были раньше, когда на них были вековые леса. И теперь лес тут всюду, только и слышишь слово «лес», но с прилагательными: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Этот лес тащат буксирные пароходы, он загромождает пристани, о нем говорят, около него хлопочут торговые деловые люди. Вся эта жизнь вокруг леса, баржей и т. д. кажется как-то не своей собственной: все это тяготеет к Петербургу. И люди тут немножко американского типа. Вот, например, молодой человек в модном петербургском пальто, вообще вполне культурный человек. Он охотно, как это часто бывает у русских в дороге, рассказывает свою биографию. Родился на берегу Свири. Сын крестьянина-землепашца.
Мальчиком раз был сильно болен. Родители, чтобы спасти его жизнь, затеплили свечку перед иконой, упали на колени и молились: «Поправь, святой угодник!» В свою очередь, они тут же обещались угоднику отдать сына на год в Соловецкий монастырь. Угодник помог, и потому, когда мальчик стал восемнадцатилетним юношей, его отправили «годовиком по обещанию» в Соловецкий монастырь. Он пошел с большим религиозным подъемом духа. Но там остыл совершенно. Жизнь в монастыре оказалась почти такой же, как в миру, и даже хуже. «Был всякий грех, табак доходил до пятидесяти копеек за коробочку». Вернувшись домой, ему захотелось «жить». Но какая же это жизнь земледельца на Свири: рубить деревья, косым крюком удалять камни, «орать» первобытной сохой и сеять рожь, жито, репу, не рассчитывая даже прокормить себя этим год. Юноша пошел в Петербург искать счастья. Брался за все, но кончил портным и теперь возвращался щеголем в родную деревню, чтобы обшивать всех по-питерски.
Мне не хочется описывать здесь Подпорожье, Мятусово, Важины – все эти большие торговые села. Не хочется даже писать о Свирских порогах, потому что они опять-таки имеют отношение только к баржам. На вид же они незначительны и отличаются от всей остальной реки по беспокойству воды, по «вьюнам» и т. п. У Вознесенья, последнего села на Свири, начинается по виду совершенно такой же канал, или канава, вокруг Онежского озера, как и около Ладожского.
* * *
Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случилось так, что, когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую теплую погоду.
Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже «Онегушко»… Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его Онежским озером, ну… назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это нехорошо делал Писарев, по отчеству… Онего в народном сознании является уже не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и только случайно оно не было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем», – сказал мне один патриот.
Недостаток художественного описания Онего я почувствовал особенно отчетливо потом, когда ознакомился с «Губернскими ведомостями», «Олонецким сборником» и «Памятной книжкой Олонецкой губернии». Сколько там рассеяно описаний различных местных литераторов, любящих Онего, но как-то с чересчур переполненной душой. Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское «алмазна сыплется гора», восклицает вдохновенно: «И не знаешь, чему дивиться, – божественной ли красоте водопада или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое есть алмаз».
Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и с маленькой левой. Водоем этот значительно меньше Ладожского озера (Ладожское – 16 922 квадратных версты, Онежское – 8569) и переливается в него рекой Свирью. На севере между клешнями рака заключен громадный, весь изрезанный заливами полуостров Заонежье. На левом его берегу, если смотреть на рака от хвоста к голове, расположился губернский город Олонецкой губернии Петрозаводск, недалеко от правого – Пудож, Вытегра, в самом северном уголку правой клешни – Повенец, где и «всему миру конец» и куда лежал мой путь.
* * *
Густая толпа народа, которая встречает каждый пароход, представляет из себя живой этнографический музей и уносит воображение в отдаленные времена колонизации этого края. Правда, тут в толпе непременно есть представители современности: урядник, ученики Петрозаводской духовной семинарии, иногда студент, сельская учительница. Но они теряются. Большинство собравшихся, конечно, из ближайших деревень; им просто любопытно посмотреть на проезжающих. И, вероятно, для них это любопытнее, чем для нас лекция, театр, путешествие. Это сказывается и на внешности молодежи. Неуклюжая кофточка, ленточка являются сначала результатом простого созерцания дам на пароходе, а потом, глядишь, появилась портниха и мало-помалу одела всех по-питерски. Но среди модной современности виднеются и приехавшие из глуши совсем серые люди. И что это за экипажи, на которых они приехали! Прежде всего удивляют при летней обстановке сани, обыкновенные дровни. Очевидно, хозяин их приехал из какого-нибудь такого глухого местечка, где совершенно невозможны никакие колесные экипажи. Впрочем, тут же стоят и колесные экипажи, но что это за колеса! Это просто толстые большие отрезки дерева, иногда даже не совсем правильно скругленные… Колес с шинами и спицами совершенно нет: такие колеса скоро бы разбились о каменистую дорогу и потому оказались бы дорогими. Вся масса людей носит серый тон: преобладает какой-то мелкий корявый тип с светлыми глазами, очевидно потомки чуди белоглазой; но между ними попадаются такие молодцы, что вот одеть – и был бы настоящий Садко, богатый гость.
Эти два типа так различны, так бросаются в глаза своим контрастом, что на минуту забывается толпа, и с каменистого берега смотрят на пароход очи истории.
В этих местах существует много курганов и других самых разнообразных памятников когда-то упорной кровопролитной войны новгородских славян и финских племен, «белоглазой чуди», закончившейся в XI веке победой новгородцев. Дальше все шло обычным порядком: знатные новгородские люди здесь приобретали земли, леса, реки и озера и посылали сюда удалых добрых молодцев для управления своими угодьями и промыслами. Все эти земли, занимающие огромную площадь между Ладожским озером, рекой Онегой и Белым морем, составили Обонежскую пятину Великого Новгорода… Вся эта дикая лесная Обонежская страна в то время была бесконечно богата пушными товарами.
Тогда коренные жители были настоящими дикарями, жили в подземных норах и пещерах, питались рыбой и птицей и верили, согласно свидетельству историков, так: «Кто им когда чрево насытит, тогда и бога сопостовляще, а еще иногда каменем зверя убиет – камень почитали, а еще палицею поразят ловимое – палицу боготворят». Христианство начал здесь распространять князь Святополк еще в 1227 году, вместе с тем и новгородские промышленники во время поездок. Но особенно много потрудились здесь те бескорыстные пустынники, которых с величайшим благоговением, как святых, чтило все Обонежье. Это Корнилий Палеостровский, Александр Свирский, Герман, Зосима и Савватий Соловецкие и многие другие.
* * *
Я упоминаю здесь именно этих святых, потому что основанные ими монастыри (Александро-Свирский, Палеостровский, на острове того же названия, и Соловецкий) привлекают к себе до сих пор огромные массы богомольцев. И все, что нам известно об этих первых христианах, говорит о них как о людях удивительно чистых и хороших, сделавших массу добра для края. Жизнь их вдохновляла потом и следующих за ними колонизаторов края – раскольников. Многие из этих людей приближались вполне к жизни первых христиан. Да и до сих пор в глухих местах Архангельской губернии есть старцы, идеалом жизни которых служат жития этих святых.
Так мало-помалу, частью силой, частью подвигами этих старцев, финские племена приняли крещение и сжились с славянскими. Во время шведских походов карелы переходили то на шведскую, то на русскую сторону. А теперь финские племена, особенно карелы, так сжились с русскими, что отличить их можно только по отдельным ярким представителям.
На Онежском озере есть несколько старинных монастырей. Тут лежит путь богомольцев в Соловецкий монастырь. На берегах его до сих пор совершается борьба официального православия с его сгущенной формой – расколом. Наконец, здесь между религиозно настроенной толпой и монастырем можно постоянно видеть посредников. Все это кладет какой-то своеобразный паломнический отпечаток на плавание по Онежскому озеру. Тени святых обонежских пустынножителей словно живут и блуждают по этому озеру. Блуждают, потому что дело их сделано, язычников финнов нет уже в каменных пещерах. Другие язычники появились теперь на Онежском озере, несравненно более упорные и сильные, чем те, вооруженные палицами и пращами, финские племена. Старцам их следовало бы оставить совершенно, как это сделали старцы в других местах: труд бесполезный! Но по странному упорству они продолжают беспокоить всех проезжающих, даже самых закоренелых язычников.
Почему, например, капитан, который на Ладожском озере все время ел семгу, икру и кровавые бифштексы, теперь ведет в рубке религиозно-философский спор с почтенным господином? Он доказывает, глядя с верхней палубы на богомольцев, что все это пустяки и глупость, и отказывается понимать, как человек с высшим образованием может серьезно интересоваться такой чепухой. Почему так пришлось, что полковник именно на Онежском озере рассказывает, будто раз его собаки в лесу загнали на высокую сосну монаха и что при этом у монаха из кармана выскочили две бутылки водки? Почему господин с фотографическим аппаратом снимает теперь кривого монаха, который, опираясь о борт, улыбаясь и играя по-своему единственным глазом, что-то шепчет богомолке? Почему, наконец, и я, совершенно не имея этого в виду, попал в глухой Климентский монастырь, куда и пароход-то ходит всего один раз в год, да и то с благотворительной целью? Случилось это так. Раз в год те самые «самолюбивые» пароходовладельцы, о которых мне пришлось уже говорить, как люди русские и благочестивые, уступают на один день губернатору пароход в бесплатное пользование для организуемой им поездки в монастырь на Климентский остров. Этот остров, самый большой на Онежском озере, находится у конца полуострова Заонежья. На этом каменистом и бесплодном месте был основан монастырь еще в 1490 году Ионой Климентским, сыном богатого новгородского посадника. Случилось, что буря разбила все его суда около каменистого острова, сам он едва спасся от смерти. После этого Иона Климентский (в миру Иван Клементьев) порвал связь с миром, стал жить на этом острове и основал монастырь. В настоящее время этот монастырь, оставаясь в стороне от пароходного сообщения, пришел в упадок. Чтобы хоть сколько-нибудь помочь монахам, и организовывались эти ежегодные поездки.
От Петрозаводска туда всего несколько часов езды. Мы выехали из Петрозаводской губы, миновав замыкающий ее Шуй-наволок и необитаемые Ивановские острова, пересекли почти половину «Большого Онега», то есть его широкой, лишенной островов части, и были у Климентского острова. Монахи в светлых ризах, с крестами и иконами, окруженные пришедшей с другой части острова толпой народа, встречали нас у самого берега. Потом, версту или две, мы шли по лесу, по каменистой лесной тропе, ежеминутно спотыкаясь. Несложная, угрюмая картина открылась нам, когда мы вышли из леса. Покосившийся крест в воде на том месте, где разбились суда, масса камней, каменная церковь, деревянная, две-три постройки и на фоне хвойный лес. Церкви по виду самые обыкновенные: деревянная выстроена недавно, каменная сохранилась с основания монастыря. Внутри каменной церкви стенная живопись изображает между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой… После службы нам показывали в лесу жалкие поля, скот…
Что же делали здесь все эти люди столько столетий? Молились, трудились? Но где хоть малейшие следы этой вековой работы и молитвы? И эти вялые ответы, неодушевленные лица… Вся церемония походила на именины в провинции, когда хозяевам в этот год не удалось куда-нибудь уехать и пришлось их праздновать. Наконец нас повели в трапезную закусить; здесь мы ели «рыбники», то есть пироги с рыбой, любимое кушанье олончан, и кое-как поддерживали разговор. Нужно знать, что в это время в Петрозаводске носился уже слушок, что в монастыре что-то неладно, что его пора бы закрыть и преобразовать в женский, как это делается всегда, когда хотят спасти разоряющийся мужской монастырь… Женщины всегда оказываются в этих случаях настойчивее и упорнее мужчин.
Один батюшка, приехавший вместе с нами из Петрозаводска, время от времени за трапезой делал ехидные замечания и развлекал нас. Когда, например, настоятель нам сообщил, что у них тридцать шесть коров и двадцать монахов, то батюшка заметил вскользь:
– На шестнадцать больше…
– Чего? – тревожно спросил настоятель.
– А коров, отец настоятель, – сказал батюшка, сильно выделяя «о», – коров, говорю, на шестнадцать больше.
Настоятель закусил губу и только сердито поглядел на врага. Но батюшка не унимался.
– Говорят, вы коровушек-то продаете, почем?
Это уже был явный, грубый намек на ликвидацию монастыря. Настоятель сейчас же оборвал:
– Если вам угодно ознакомиться с нашими делами, то я с удовольствием…








