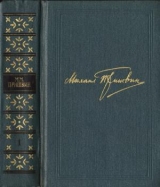
Текст книги "Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком"
Автор книги: Михаил Пришвин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Поуч-поуч! – приветствую я их.
Все смеются мне. Как просто острить в Лапландии!
Теперь варить уху из форели. Вот она, вот она, жизнь с котелком у костра. Вот она дивная свободная жизнь, которую мы искали детьми! Но теперь еще лучше, теперь я все замечаю, думаю. И хорошо же на Имандре в ожидании ухи из форели!
Я достаю из котомки свой котелок. Это обыкновенный синий эмалевый котелок. Но какой эффект! Все встают с места, окружают мой котелок и быстро говорят по-своему о нем. Потом, пока девушка своим кривым ножом чистит для меня рыбу, все по-прежнему усаживаются вокруг костра. Котелок переходит от одного к другому, как дивная невиданная вещь. Но у меня еще есть карандаш в оправе, складная чернильница, нож и английские удочки-блесны на всякую рыбу. Вещи переходят от одного к другому. Когда кто-нибудь долго задерживает, я говорю: «Поуч». Тогда все смеются, и вещь быстро совершает полный оборот вокруг костра с котелком. Это что-то вроде игры в веревочку, но только в Лапландии, на берегу Имандры.
Если не забыть с собой лаврового листа и перцу, то уха из форели в Лапландии глубоко, бесконечно вкусна. Я ем, а молодая лапландка-хозяйка указывает мне на розовые и желтые куски рыбы в котелке и угощает:
– Волочи, волочи, ешь!
За это я даю ей лавровый листик. Она его нюхает, лижет и передает другим. Все удивляются листику и так ясно, так очевидно довольны, что я, растянувшись на песке у костра, глотаю кусок за куском их вкусную рыбу.
По Имандре
Путь по Лапландии от Кандалакши до Колы остался тот же, как во времена новгородской колонизации. Совершенно так же шли и новгородцы на Мурман, и до последнего времени рыбаки-покрученники из Поморья.
Теперь в разных местах пути выстроены избы, станции; возле каждой станции живет группа лопарей и занимается частью охотою на диких оленей в Хибинских горах, частью рыбною ловлей в озерах и немного оленеводством.
Чтобы узнать хоть сколько-нибудь местную жизнь, нужно непременно отклониться от традиций путеводителя, нужно создать себе непредусмотренные там препятствия и победить их. Это мое правило.
«Как бы провести тут время по-своему, – думаю я. – Проехать этот путь и познакомиться немного с жизнью людей, с природой… Не пуститься ли через Хибинские горы к оленеводам? Там поселиться на время в веже…»
Мы долго совещаемся об этом с стариком Василием, почти решаем уже отправиться через Хибинские горы, но сын его не советует. Лопари перекочевали оттуда, и ми можем напрасно потерять неделю. Мало-помалу складывается такой план. Мы поедем на Олений остров по Имандре; там живет другой сын Василия, стережет его оленей; там мы поживем немного и отправимся в Хибинские горы на охоту.
Ветер дует нам походный. Зачем бы ехать со мной всему семейству, – лишний проводник стоит денег. Я советую старику остаться. Он упрашивает меня взять с собой.
– Денег, – говорит он, – можно и не взять, а вместе веселее.
Как это странно звучит! Вот уже сколько я еду и ни разу не слыхал этого… Приглядываюсь к старику, ищу русскую хитрецу… ничего нет… какое-то легкомысленно-мечтательное выражение, будто и не старик.
Мы едем все вместе. Двое гребут. Ветер слегка помогает. Лодка слегка покачивается. Передо мной на лавочке сидят женщины: старуха и дочь ее. Лица их совсем не русские. Если бы можно так просто решать этнографические вопросы, то я сказал бы, что старуха – еврейка, а дочь – японка: маленькая, смуглая, со скошенным прорезом глаз. Черные глаза смотрят загадочно и упорно: моргнут, словно насильно, и опять смотрят и смотрят долго, пока не устанут, и снова моргнут. На голове у нее лапландский «шамшир», похожий на шлем Афины-Паллады, красный. Мы едем как раз против солнца; лодку слегка покачивает, и я вижу, как блестящий странный убор девушки меняется с солнцем местами. Это – дочь Похиолы, за которой шли сюда герои «Калевалы».
Немного неприятно, когда смотрят в глаза и ничего не говорят. Я замечаю на уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.
– Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?
– Набрала в ручье, – отвечает за нее отец. – У нас есть жемчужины по сто рублей штука.
– И платят?
– Нет, не платят, а только так говорят.
– Какой прекрасный жемчуг, – говорю я дочери Похиолы, – как вы его достаете?
Вместо ответа она достает из кармана грязную бумажку и подает.
Развертываю: несколько крупных жемчужин. Я их беру на ладонь, купаю в Имандре, завертываю в чистый листик из записной книжки и подаю обратно.
– Благодарю, хороший жемчуг.
– Не надо… тебе.
– Как!
Боязливо гляжу на старуху, но она важно и утвердительно кивает головой, Василий тоже одобряет. Я принимаю подарок и, выждав некоторое время, vice pour service[28]28
Услуга за услугу (фр.). – Ред.
[Закрыть] предлагаю девушке превосходную английскую дорожку-блесну. Девушка сияет, старуха опять важно кивает головой, Василий тоже, Имандра смеется. Мы спускаем обе дорожки в воду: я – с одной стороны, а дочь Похиолы – с другой, и ожидаем рыбу. Все говорят, что тут рыбное место и непременно должна пойматься.
Скоро показывается лесистый берег; мы едем вдоль него, и лопари, ознакомившись со мною, не стесняясь, беспрерывно что-то болтают на своем языке. Время от времени я перебиваю их и спрашиваю, о чем они говорят. Они говорят то о круглой «вараке» на берегу, то о впадине с снегами в горах, то о сухой сосне, то о большом камне. Там был убит дикий олень, там на дереве было подвешено его мясо, там нашли свою важенку с телятами. Это так, как мы, идя по улице, разговариваем о знакомых домах, ресторанах, о лицах, которые почему-то непременно встречаются всегда на одном и том же месте. Им все здесь известно, все разнообразно, но я схватываю только величественные контуры гор, только длинную стену лесов и необозримую гладь озера.
Мне и некогда разглядывать мелочи. Внимание поглощено всесторонне. Нужно держать наготове бечеву, потому что при малейшем толчке я должен ее пустить и задержать лодку, иначе рыба оборвет якорек. Нужно фотографировать, нужно спрашивать у лопарей разные названия и записывать, нужно держать ружье наготове: мало ли что может выйти из леса к воде.
Вдруг на носу лодки у лопарей необычайное волнение, говорят шепотом, берутся за ружья, указывают мне на белый клочок снега далеко впереди, у самого берега.
– Дикий олень!
Я поскорее свертываю бечеву, вглядываюсь, замечаю движения белой точки. Немного поближе – и разбираю: белый олень с недоразвитыми рогами. Василий долго прицеливается из своей берданки и вдруг опускает ружье, не выстрелив. У него явилось подозрение, что это кормной (ручной) олень. Если бы подальше, в горах, признался он мне, то ничего, можно и кормного за дикого убить, а тут нельзя: тут сейчас узнают, чей олень, – по метке на ухе. Мы подъезжаем ближе; олень не бежит и даже подступает к берегу. Еще поближе – и все смеются, радуются: олень свой собственный. Мы превзошли Тартарена из Тараскона. Это один из тех оленей, которых Василий пустил в тундру, потому что на острове мало ягеля (олений мох). Я приготовляю фотографический аппарат и снимаю белого оленя на берегу Имандры, окруженного елями и соснами.
Сняв фотографию, я прошу подвезти меня к оленю, но вдруг он поворачивается своим коротеньким хвостом, перепутывает свой пучок сучьев на голове с ветвями лапландских елей, бежит, пружинится на мху, как на рессорах, и исчезает в лесу. Немного спустя мы видим его уже выше леса, на голой скале, едва заметной точкой.
– Комар обижает! – говорит Василий, – попил воды и опять бежит наверх, в тундры.
Это происходит где-то около Белой губы Имандры.
Тут мы должны бы и остановиться, дальше меня должны везти другие лопари. Но, выполняя свой план, мы едем немного дальше, на Олений остров. Здесь я опять спускаю в воду дорожку, потому что, как говорит Василий, здесь непременно поймается кумжа.
Спускаю блесну; она вертится, блестит, как рыбка, далеко видна в прозрачной воде Имандры. Спускаю саженей на тридцать; остальная бечева остается смотанной на вертушке, вставленной в отверстие для уключины. Не проходит минуты, сильный толчок вырывает мою бечеву из рук, катушка сразу разматывается.
Я не могу себе представить, чтобы рыба так сильно толкнула, и потому кричу лопарям:
– Стойте, стойте, зацепилось, оборвалось!
– Рыба, рыба, подтягивай! – отвечают они.
Подтягиваю, но там ничего не сопротивляется; очевидно, блесна зацепилась за камень и теперь освободилась.
Я говорю об этом лопарям. И они сомневаются, но все-таки не берутся за весла и смотрят вместе со мной.
Вдруг в десяти шагах от лодки показывается над водой огромный рыбий хвост; от неожиданности он мне кажется не меньше китового. Рыба бунтует и снова уносит всю бечеву в воду. Большие круги расходятся по Имандре.
– Кумжа, кумжа! – говорят лопари. – Мотай.
И вот опять, как в начале пути при виде глухарей, мое я целиком уходит в глубину природы, быть может, именно в ту страну, которая грезится в детских сновидениях.
Я вожусь с этой рыбой целый час. Борюсь с ней. И час кажется секундой и секунда – тысячелетием. Наконец я ее подтягиваю к борту, вижу ее длинную черную спину. Как теперь быть, как вытащить? Пока я раздумываю, лапландка вынимает из-за пояса нож, ударяет им в рыбу и, громадную, серебряную, обеими руками втаскивает в лодку.
Капельки крови на живой убитой твари меня часто беспокоят и, бывает, портят охоту. Но тут я не замечаю этого: я владею рыбой и счастлив обладанием.
Мне так хочется узнать, сколько в ней веса, вкусна ли она, хочется установить ее значение как моей собственности. Кажется, больше пуда весом, а лопари говорят – полпуда. Я спорю. Они соглашаются и смеются.
– А что лучше, – спрашиваю я, – кумжа или семга?
– Какая кумжа, какая семга. Все-таки семга лучше: семга – семга и есть. Ты скажи кумжа и сиг, вот так…
Тут я вдруг вспомнил о той рыбе, которую старик поймал вначале и привязал к ней пуговицу. Какая это рыба?
– Это сиг, – говорит он и тускнеет. – Сиг не может на крючок пойматься, сигов сетью ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул. А за ним и мать…
– Потонула?
– Нет, божьей смертью померла. Двоих принесла, так бог таких любит. Сиротой бился, бился.
Мне хочется спросить еще, что значит пуговица, но не решаюсь, – вероятно, жертва водяному.
– Есть водяной царь или нет? – спрашиваю я окольным путем.
– Водяной царь! Как же, есть… Ведь молимся же мы: «Царь небесный, царь земной»
– И водяной? – изумляюсь я.
– Нет, водяного нет в молитвах, а только есть же царь небесный, царь земной, значит, есть и водяной.
Я расспрашиваю Василия дальше о его верованиях, он оказывается убежденным христианином. С тех пор как святой Трифон пришел в Лапландию, все лопари христиане. Сначала плохо приняли Трифона, за волосы даже его таскали. А потом и смирились, но господь наказал лопарей за святого, и они стали плешивыми. Тут Василий в доказательство снял свою шапку и показал свою лысину.
Но где-то и до сих пор, рассказывает Василий, верят лопари не в Христа, а в «чудь». Есть высокая гора, откуда они бросают в жертву богу оленей. Есть гора, где живет нойд (колдун), и туда приводят к нему оленей. Там режут их деревянными ножами, а шкуру вешают на жерди. Ветер качает ее, ноги шевелятся. И если есть мох или песочек внизу, то олень как будто идет… Василий не раз встречал в горах такого оленя. Совсем как живой!.. Страшно смотреть. А еще бывает страшней, когда зимой на небе засверкает огонь, и раскроются пропасти земные, и из гробов станет выходить чудь…
Василий рассказывает еще много страшного и интересного про чудь…
Рассказывает сказку о том, как лопарь захотел попасть на небо, настругал стружек, покрыл рогожей, сел на нее, поджег костер. Рогожа полетела, и лопарь попал на небо.
Я слушаю приключения лопаря на небе и вдруг понимаю Василия, понимаю, почему он болтлив, почему он хоть и старик, но глаза у него такие легкомысленные.
Олений остров
15 июня
Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках.
Выхожу на берег, но меня встречает туча комаров и мошек. Бегом скорей найти птицу – и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел. Мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей.
Обогнув остров, мы подъезжаем наконец к тому месту, где должна быть вежа (лапландское жилище). Я замечаю их две: одна – маленький черный колпачок аршина в два с половиной высоты, другая повыше и подлиннее.
– Одна, – говорит Василий, – для людей, а другая – для оленей, какая побольше – для оленей, потому и олень побольше человека.
Теперь комары нас преследуют и на воде: кажется, все, сколько их есть на острове, устремились к нам в лодку. Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, непрерывно уничтожая сотни на своем лице, не имею мужества достать на дне моей котомки сетку «накомарник», которым я запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня.
А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытание и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня бог прибавляет решето новых, а после Ильина убавляет, и тоже по одному решету за комара.
Выскакиваю из лодки и стремглав несусь к веже, едва смея открывать глаза; открываю дверцы и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся. Я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки – рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий: кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята. Вся компания штук в тридцать…
Человеческая вежа – маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оленьими шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своею тяжестью, захлопывается за мною.
Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу; между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре; я усаживаюсь, как и они, и, как и они, молчу. Отдыхаю от комаров у дыма. Потом начинаю разглядывать.
Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только неудобно сознавать, что нельзя встать и необходимо сидеть,
С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей; там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина.
Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Расспрашиваю название одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, оленей едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются. Кочующие лопари.
– Почему вас называют кочующие? – спрашиваю я их.
– А вот потому кочующие, – говорят мне, – что один живет у камня, другой – у Ягельного бора, третий – у Железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу, придет Ильин день – переселится на озера, в половине сентября – опять к речкам. Около Рождества – в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану. Лопарь – за ним. Так уж нам бог показал, он правит, он создатель.
Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут не настоящие оленеводы; здесь пускают оленей на волю, в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей.
Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света.
Лопарь выходит в горы с собакой и ирвасом (оленем-самцом) и ищет стадо оленей. В это время года у диких оленей «рехка», особенная жизнь: олень (ирвас) становится страшным зверем, шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо важенок, стережет их и не подпускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвасы. чуть только он ослабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь и идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвас идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, «квасится» там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих «чунках» и достает из воды мясо.
Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные и почтенные, как у Гомера, заняты своим делом. Одна следит за ухой и глухарем, другая оленьими жилами шьет каньги (башмаки), третья следит за огнем.
Жизнь охотников рассказана. Теперь смотрят на меня: какая моя жизнь? Но как о ней спросить, этого никто еще не смеет. У них охота, олени, лес, что у меня?
– А есть ли в других державах лес? – слышу я голос с той стороны костра.
– Есть.
– На ужь!
Общий знак удивления, что и у нас есть лес.
Потом другой вопрос: «Есть ли горы?» И опять тоже: «На ужь!» Потом разговор, совсем как в настоящих гостиных, переходит на политику. Знают о Государственной думе, даже выбирали депутата, но только русского, а не лопаря. Я возмущаюсь: русские, которые так безжалостно спаивают и обирают лопарей, начиная с времен появления здесь новгородских дружинников, представляют лопарей в Думе. Расспрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за них уже решил, кого выбирать.
– Пили вы при этом, – спрашиваю я, – угощали вас?
– Пили, как же, хорошо выпили, – отвечает Василий со своим легкомысленным видом. – А вот если бы меня выбрали, – продолжает он, – я бы тихонечко на ушко государю императору шепнул, как лопари живут.
– Что же ты бы ему шепнул? – спрашиваю я, думая о том хохле, который представляет царя всегда с куском сала. – Что бы ты шепнул ему?
– А что вот у нас в озере сигов много, коптить бы их на казенный счет и отправлять в Питер. Да я бы сумел, что шепнуть!
«Что бы им дать, – думаю я, представляя себя на месте императора, которому шепнул лопарь на ушко. – Христианскую проповедь? Но это уже использовано… Лопари – теперь христиане. Святой Трифон прославился как просветитель лопарей. Печенгский монастырь богател, и разорялся, и опять стал богатеть. Но лопари все такие же, и еще беднее, еще несчастнее, потому что русские и зырянские хищники легче могут проникать к христианам, чем к язычникам. Отдать их на волю прогресса? Построить железную дорогу и дать образование? Как-то жалко без дикого народа в государстве. Кто знает, может быть, для усмирения бездушного прогресса государству необходимо сохранить кочующий народ, навести там справку в случае чего».
Я вспоминаю о грандиозном предприятии соединить Великий океан с Северным Ледовитым, Порт-Артур с Александровском и о том, что тут предполагалась железная дорога. Но ведь это не для них. При чем тут лопари?
– А как же, – говорит мне Василий, – и лопари тогда поедут в Петербург со своими сигами.
Василий смеется, радуется, как ребенок, этой воображаемой возможности, смеются и другие, даже женщины, радуюсь и я, потому что удовлетворен как гражданин: убиты зараз два зайца. Вот только образование. Но и образование как-нибудь так тоже неожиданно придет.
– А выучить лопаря, – замечает кто-то, – он тоже будет таким.
– Каким? – спрашиваю я.
В ответ на это мне рассказывают легенду об образованном лопаре.
Один лопарь поехал с оленями в Архангельск и потерял там мальчика. Продав оленей, он возвратился в тундру без ребенка. Между тем маленького лопаря нашли, воспитали, образовали, он стал доктором, и есть слух, что где-то хорошо лечит людей.
– Вот и лопарь, – закончил рассказчик, – а сделался доктором.
Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком, с единственным отверстием вверху для дыма, культурный прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод.
И я – несомненная частица этого мира!
Мне хочется что-нибудь сказать хорошее этим несчастным людям у костра. Что бы сказать? Что у нас лучше всего? Конечно, звездная летняя ночь.
– У нас, – говорю, – после дня теперь наступает ночь, темная, зимой же у нас бывает тоже и день, и ночь. Смотрю на часы и говорю еще.
– Сейчас у нас если погода хорошая, то звезды горят, месяц светит.
Мои слова производят большой эффект. Женщины интересуются; одной, не понимающей по-русски, переводят мои слова. Теперь уже вся гостиная занята мной. Все меня теперь долго и подробно разглядывают. Это тот период сближения гостей с хозяевами в провинциальной семье, когда женщины вступают в беседу, когда дети осмеливаются заговорить. Сама почтенная хозяйка начинает беседу:
– Есть у тебя деточки?
– Есть.
– Но! – не доверяет она.
Я подтверждаю и даже описываю, какие они.
– На ужь! – удивляется старуха и переводит своей, не понимающей по-русски, соседке. Все теперь говорят по-лапландски. Мне кажется, что они говорят о том, что вот, как это удивительно: такой необыкновенный человек, а тоже может, как и они, как и всякие животные, размножаться.
– Что же тут особенного, – вмешиваюсь я наконец в непонятный мне разговор. – Вероятно, здесь русские даже женятся на лапландках.
– Нет! Нет! – отвечают мне все в один голос. – Какой же русский возьмет лопку, одно слово, что лопка!
Это совершенно противоположно тому, что я слышал. У меня, наконец, в кармане письмо от одного батюшки, прожившего двадцать лет в Лапландии, к сыну, женатому на лопарке. На письме даже адрес: «Потомственному почетному гражданину К – у».
– Как же так… вот, – говорю я и называю фамилию.
– Так это лопарь, какой же он русский, – отвечают мне.
– Почетный гражданин, сын священника.
– Это все равно, он лопарь: рыбку ловит, оленей пасет. Он лопарь.
Я теперь понимаю: моя сверхъестественность основана не на внешнем виде, не на костюме, не на образовании, а просто на неизвестных для них занятиях, противоположных их делу. Мне это становится еще более понятным, когда такими же сверхъестественными людьми оказывается и один отставной шкипер, и один мелкий телеграфный чиновник. Оба – претенденты на руку Варвары Кобылиной. Про эту невесту мне рассказывали еще на Белом море. Она – дочь богатого лопаря. Живут они в тундре, пасут большое стадо оленей. Отец подыскивает дочке жениха, такого же, как она, лопаря, потому что одному трудно управляться с большим стадом оленей. Тут ему пришлось вместе с дочерью довольно долго быть в Архангельске для продажи оленей. И в это время единственная и любимая дочь лопаря сразу влюбилась в двух русских: в шкипера и в телеграфного чиновника. Были и еще претенденты, – тысяча оленей стоит десять тысяч рублей, – но она полюбила только двух. Едва-едва отец увез ее. Теперь плачет, тоскует в тундре, еле жива.
– Ну, мыслимое ли дело лопке замуж за русского выходить, – заговорили все после рассказа и решительно все согласились.
Разговор о романе в тундре такой увлекательный для женщин и для меня. Мне хорошо здесь, и будто я не в лопарской семье – в пустыне, а где-нибудь в большом, незнакомом городе, в единственном знакомом милом доме.
Хозяйка забывает о глухаре. Но он неожиданно напомнил о себе сам. Его нога приподнимает крышку котелка и сталкивает ее в огонь, вода бежит, шипит. Глухарь поспел.
Это напоминает мне, что в котомке у меня для лопарей припасена водка и лопари большие охотники до нее.
– Пьете водку?
– Нет, не пьем.
А глаза просят. Я наливаю стаканчик и подношу, как меня учили, сначала хозяйке. Секунду колеблется для приличия, потом берет рюмку, приветствует меня словами: «Ну, пожелаю быть здоровым», – и торжественно выпивает. За ней подряд выпивают все мужчины и женщины, и все с одинаковой торжественной миной приветствуют меня: «Ну, пожелаю быть здоровым». Доходит очередь до молоденькой лапландки, похожей на японку. Я вижу, как она мучится, колеблется и с отвращением выпивает глоток. Стаканчик совершает еще оборот вокруг костра и опять останавливается у японки. Она умоляет меня глазами; то же и мать.
– Значит, не надо? – спрашиваю я.
– Нельзя! – говорит старуха. – Надо выпить, от гостя руки нельзя не принять.
– Вот какой странный обычай! Я не знал. Извини.
– Может быть, и вам не надо? – спрашиваю я почтенную мать.
– Нет, нам надо, – отвечает она и, пожелав мне быть здоровым, выпивает и за дочь, и за себя. Немного спустя, когда мы все сидим вокруг досок с глухарем и едим, кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преображается: ее строгое, окаменевшее лицо оживает, глаза бегают, губы вытягиваются.
– Ау-уа-уы-кыть! Уа-уы-уа-кыть!
Я понимаю: это лапландская песня, спеть которую я долго и напрасно просил в лодке. Но это так не похоже на песню, скорее это что-то в чайнике или в котелке урчит и, смешавшись с дымом, уносится в отверстие наверху.
– Уа-уы…
Песня оканчивается неожиданным восклицанием: «Ка-шкарары!»
Что бы это значило? Василий охотно переводит:
– Мимо еретицы едет Иван Иванович..
– Как, неужели же и у вас есть Иван Иванович? – сомневаюсь я в верности перевода.
– Везде есть Иван Иванович, – отвечает Василий. – Евван-Евван-ыльт, значит, Иван Иванович. – И продолжает: – Едет Иван Иванович мимо еретицы, мимо страшной еретицы в Кандалакшу и думает, что она не выскочит. Плывет Иван Иванович, ногами правит, руками гребет, миленькой чулочки везет, белые чулочки, варежки с узорами. А еретица как выскочит и закричит: «Иван Иваныч, Иван Иваныч, каш-киш-карары!»
– Что же с Иваном Ивановичем стало?
– Ничего, на этом песня кончается.
После домашнего концерта доска очищается от пищи, и на ней появляется засаленная колода карт. Сдают все по пяти.
– Не «дурачки» ли это?
– «Дурачки».
– Так сдавайте же и мне!
Мне с удовольствием сдают; я играю рассеянно и остаюсь дураком.
Такого эффекта, такого взрыва смеха я давно-давно не слыхал. Смеется Василий, смеются женщины, смеются все лопари, а старуха долго не может сдать карт; только начнет, посмотрит на меня и ляжет вместе с картами на доску.
Удивительное счастье остаться дурачком в Лапландии! Вообще быть им нехорошо… но тут! Я пытаюсь еще раз остаться, но ничего не выходит, и сколько я потом ни стараюсь, все не могу, все находится кто-нибудь глупее меня.
За игрой в «дурачки» забываю о главном своем интересе в Лапландии: увидеть полуночное солнце. Мне напоминают о нем несколько капель дождя, пролетевших в отверстие нашей вежи,
– Дождь, – говорю я – Опять не видать мне полуночного солнца!
– Дождь, дождь, – отвечают лопари. – Скорей куваксу строить!
Кувакса – это особая походная вежа, палатка. Ее можно сделать из паруса. Василий уже давно мне говорил про нее и обещал, что спать я на острове буду лучше, чем дома, и он знает такое средство, что ни один комар не посмеет пролезть в мою куваксу.
Через несколько минут палатка готова, маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплых оленьих шкурах, покрываюсь простыней и шкурой. Славно. Тепло. Хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своих впечатлениях, выискивать связь между ними. Какой-то странный запах, похожий не то на запах курительной бумаги, не то угара, не то тлеющей ваты, перебивает мои мысли. Что бы это значило? Запах сильнее и сильнее, дым ест глаза. Вскакиваю, оглядываю палатку и замечаю в углу ее черный дымящийся котелок. Несколько гнилушек или сухих грибов курятся и наполняют палатку этим едким дымом. Я понимаю: это сюрприз Василия, это выполнение обещания, что ни один комар не заберется ко мне. Не решаюсь выставить котелок на дождь и тем обидеть любезного хозяина. Высовываю для разведки голову. Какие теперь комары… Дождь… Олени один за другим выходят из своей вежи к лесу.
Они заполняют весь треугольник между моей, лопарской и своей вежами, пробуют пощипать траву, но ничего не находят и один за другим исчезают в лесу. Теперь я выставляю котелок на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, как барабанят капли по палатке, слушаю взрывы веселого детского смеха из лопарской вежи. Все еще играют в «дурачки».
Общее мнение местных людей, что этот народ вырождается, вымирает. Ученые спорят. По этому детскому смеху мне кажется, что они непременно должны вырождаться, вымирать. Так не смеются взрослые люди, а дети разве могут бороться? Пройдет еще сколько-то лет, и здесь не останется ни одного лапландца.
Где-то я читал, что лопари должны исчезнуть с лица земли бесследно, что их жалкую жизнь не возьмется воспеть ни один поэт, что «последний из могикан» невозможен в Лапландии. И так странно думать, что вот почти на краю света эти забытые всем миром люди могут смеяться таким невинным детским смехом. Непременно государственным людям нужно позаботиться об охране кочующего народа. И пусть потом, когда люди в городах разучатся смеяться, кочующие люди их станут учить.
Солнечные ночи в Хибинских горах
– Вставайте, – бужу я лопарей, – вставайте!
Но они спят как убитые, все в одной веже.
– Вставайте же!
В ответ мне из-под склонившихся к земле лап ближайшей ели показывается лысая голова карлика.
– Василий, это ты? Как ты здесь?
Старик спал ночь под еловым шатром. Там сухо, совсем как в веже. Лапландские ели часто имеют форму вежи. Вероятно, они опускают вниз свои лапы для лучшей защиты от холодных океанских ветров.
Пока разводят костер, греют чайник и варят уху, закусывают, собираются, – проходит много времени; наступает уже день, начинают кусать комары; возвращаются олени; солнце греет. Но и день здесь не настоящий: солнце не приносит с собой звуков в природу, сверкает слишком ярко, но холодно и остро, и зелень эта как-то слишком густая, неестественная. День не настоящий, а какой-то хрустальный. Эти черные горы будто старые окаменелые звери. На Имандре вообще много таких каменных зверей. Вот высунулись из воды морж, тюлень, вот растянулся по пути нашей лодки большой черный кит.
– Волса-Кедеть! – показывает на него лопарь и прислушивается.
Все тоже, как и он, поднимают весла и слушают. Булькают удары капель с весел о воду, и еще какой-то неровный плеск у камня, похожего на кита. Это легкий прибой перекатывает белую пену через гладкую спину «кита», и оттого этот неровный шум, и так ярко блестит мокрый камень на солнце.
– Волса-Кедеть шумит! – говорит Василий.
Меня раздражает эта медлительность лопарей, хочется ехать скорее. Я во власти той путевой инерции, которая постоянно движет вперед. Лопари меня раздражают своим равнодушием к моему стремлению.







