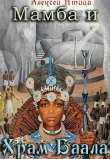Текст книги "Дорога через хаос"
Автор книги: Михаил Анчаров
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
* * *
…Вы заметили – я не рассказываю о своей жизни с момента рождения, о родителях, о пейзажах городов и селений, о своей трудовой деятельности.
Потому что для этой вещи всё это не имеет значения. Почему так – не знаю. Но это так.
Я пишу только то, что имеет значение, и боюсь отвлечься.
Пьесу “Дорога через хаос” про Леонардо да Винчи я писал в отпуске. Потом взял отпуск за свой счёт. Потом уволился с завода. Это был уже другой завод, не АТЭ-1, а маленький и слегка халтурный.
Потом мы проели всё, что у нас было, и жрать стало нечего. Потом Княгиня ушла к администратору театра. Я видел его. Быстрый и ласковый, ласковый и быстрый. Настоящий пробивной мужчина. Княгиня поступила на работу и стала курить. По вечерам они играют в домино и лото. Княгиня забеременела. Я бросил пьесу и вернулся на завод. Жизнь наладилась. Я перестал летать.
– …Слетаем? – сказал Илларион.
– Куда? – испугался я.
– За бутылкой.
– Я разучился.
– Пить?
– Летать.
– Нет, всё-таки нельзя, – говорит Илларион. – Ползи домой.
– А ты?
– Я тебе из компании позвоню.
Я приполз домой. Солнце закатывалось над Адриатическим морем.
Почему над Адриатическим? Не знаю. Вспомнил – Якушев мне рассказал.
Якушев мне рассказал:
…Общество живописи “Ослиный хвост” возникло так. Может быть, не все знают. Привязали ослу к хвосту кисть. Подставили палитру. Осёл помахал хвостом по палитре, потом по холсту. Получилась пёстрая мазня. Картину назвали “И солнце закатилось над Адриатическим морем”. Выставили. Картина имела успех. Потом долго смеялись. Но это уже ничего не могло изменить.
Оказалось, что, подчёркиваю, любое случайное сочетание красок на человека с воображением может произвести впечатление. Оказалось, что любой элемент живописи – линия, пятно, цвет и прочее могут производить впечатление независимо от предметов, которые они должны воспроизводить.
Я не знаю, как вам, но мне почему-то кажется, что Леонардо, который советовал отыскивать сюжеты картин, вглядываясь в пятна плесени на старых стенах, и Эйзенштейн, который после своих теорий монтажа понял, что монтируется всё, – мне кажется, что они не глупей тех эстетиков, которые велят так не думать.
…Если картину можно рассказать, значит, она не до конца картина. Потому что колорит не расскажешь. Колорит – это музыка приёмов. А как расскажешь музыку? Можно только подогреть интерес к встрече с ней.
…Иван Грозный убил сына. Репин написал об этом картину. Умирающий сын одет в розовый кафтан и зелёные сапоги. Если бы он был одет в зелёный кафтан и розовые сапоги – ничего бы не изменилось. Просто в этот день он был бы одет по-другому. А какая разница?
А если боярыню Морозову переодеть в оранжевое платье, то будет другая картина. Потому что у картины будет другая музыка. Потому что Репин не до конца музыкант, а Суриков – до конца.
…Музыкой приёмов мы изображаем видимый мир, но видимый мир можно изобразить и без музыки приёмов. Это может сделать фото. Но такое фото не искусство. Потому что у него один приём – выбор факта. Но сам факт изображён не музыкой приёмов.
А для чего она нужна, музыка приёмов?
Чтобы научиться летать.
Сами приёмы – ничто. Они просто следы полёта или имитация его.
Если художник летал, то это передаётся рано или поздно. Если имитировал полёт, то и это передаётся.
А как же осёл, который намахал картину хвостом? Ведь в ней были одни лишь приёмы, сваленные в кучу. Ведь это противоречит тому, что приёмы – это следы полёта.
Не противоречит.
Осёл намахал не картину, а плесень на стене. У плесени на стене тоже нет задачи взлететь, но она может породить полёт, если в тебе есть нечто от Леонардо.
Плесень – это хаос приёмов. Но хаос в музыке тоже приём, если он помогает полёту.
– …Теперь тебе пора прикоснуться к Рембрандту, – сказал Якушев. – И не спорь с эстетиками. Гений всегда что-нибудь добывает, а эстетика потом учит добывать то же самое.
– Значит, эстетика не нужна? – спрашиваю я.
А я к тому времени прочёл эстетику – шесть томов отрывков избранных эстетиков. Мне Илларион подписку устроил. Как раз начался книжный бум. Книжный бум – это когда книги не покупают, а вкладывают в них деньги в надежде на то, что бумаги всегда будет мало и их не переиздадут. И ещё покупают престиж. Но не престиж культурного человека, а тоже престиж богатого. Старые картины не укупишь, да и как узнаешь, кто из нынешних художников станет классиком, а издательство знает, кого издавать. В барахле, коврах и хрустале наступило разочарование. О мебели и автомобиле и говорить нечего – каждый год новый образец. А книги чем старше, тем дороже. Даже захудалые.
– Илларион, как же тебе удалось подписку достать на эстетику?
– Шофёр у меня есть знакомый, в театре работает. Сестра его жены в Будапеште живёт, за венгра вышла, а его дядя здесь в торгпредстве работает, и у него в книжном магазине завотделом знакомая.
Ну, получил я эстетику. Читаю.
Якушев сказал:
– Если эстетика хочет быть наукой, она должна не картины изучать или книги, а создавать теорию творчества и теорию впечатлений. То есть изучать художника и зрителя. А картина – это посредник. Как можно деньги изучать, если не знаешь, как их зарабатывают и как тратят? И к художнику уже начали подступаться, даже наука появилась “эвристика”, от слова “эврика”–“нашёл”.
– Это Архимед в ванной крикнул, – говорю я.
– Да, в ванной, – говорит Якушев. – А зритель – это ещё терра инкогнита.
– Неизвестная земля, – говорю я.
– Затормози, – говорит Якушев. – Хватит книжки читать. Приглядись к Рембрандту, а потом иди на улицу.
– А чего я там потерял?
– Себя, – сказал Якушев. – Себя.
…Потому что как слёзы вызывают слёзы, а смех – смех, следы полёта одного человека помогают взлететь другому.
Потому что только для этого и нужно искусство. Всё остальное можно получить в других местах.
СЦЕНА 4
Пасмурный вечер. Сад в доме Джокондо. Мона Лиза одна.
Мона Лиза
(у картины)
Идёт по свету слух о Джиоконде,
О чуде, что творит здесь Леонардо.
Друг друга перекрывшие эмали
Здесь сохранят мгновенья на века.
Плохие чудеса… Здесь злою кистью
В картину перелита жизнь моя.
Что смотришь на меня, проклятый образ,
Ведь ты – не я… Смотри, ведь я живая,
Я тёплая… Смотри на эти руки…
А ты всё та ж холодная доска.
О боже!
(Тяжко плачет.)
Ну будет… Ну довольно… Ф-фу… что плакать.
(Берёт лютню, поёт.)
Встала и задула свою лампу,
А луна высокая светла.
Знаю, знаю, что не нужно плакать.
Вот опять слезинка потекла.
(Выходит из калитки на пустую площадь.)
Ох, ты в беду попала, Джиоконда,
Цена твоей картины – жизнь твоя.
(Поёт.)
Почему тоскливее всего мне
Эта мысль о том, что вдалеке
Обо мне ты никогда не вспомнишь,
Не узнаешь о моей тоске.
(Перестаёт петь.)
Наверно, Джиоконде неприлично
Петь песни на пустынных площадях,
Да и знобит… И в сердце словно ветер.
Нет, не дожить мне до конца картины!
Как тихо… Город словно вымер.
Пой или плачь – никто не отзовётся.
Как радостно считаться Джиокондой.
Входит Анита.
Как тягостна мне жизнь моя, Анита.
Анита
Конечно, девочка моя! Конечно!
Портрет проклятый всех нас поедает!
Мона Лиза
Съедает и любовь мою… О боже!
Нет, больше не могу…
Джокондо
(входя)
Что с ней, Анита?
Анита
А то, что нету жалости у вас.
Синьора ваша извелась совсем:
Да, у неё сил больше не хватает
Сидеть для бесконечного портрета!
Джокондо
Ну, ну, капризы, Мона Лиза,
Бесплатно пишут, музыка бесплатно,
Живая остроумная беседа…
Мона Лиза
Он говорит с портретом… не со мной.
Джокондо
Ну перестань. Какие пустяки!
Мона Лиза
Жена страдает – это пустяки?
Пускай страдает. Только бы бесплатно!
Джокондо
Вы вспомнили, что я ваш муж, синьора?
(Уходит.)
Входят Леонардо, Зороастро и Франческо Мельци. Мона Лиза садится. Леонардо пишет. Мельци поёт.
Мельци
(поет)
Вот утро встало.
Голубые горы.
Вот утро встало.
Голубые воды.
А почему грустишь ты, Аталанте…
Леонардо
Что ты пропел мне?
Мельци
Песню Аталанте…
Леонардо
Ох, Аталанте! Где-то он теперь?
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришёл,
Он жаждою гоним.
Франческо, нет известий?
Франческо убегает.
Что такое?
Томазо, говори скорей… Ну, живо!
Зороастро
Восстание разгромлено в Ареццо…
Леонардо
Ну не тяни… Убит?.. Убит, я знаю…
Быть может, нет? (Кричит.) Да не тяни!
Зороастро
Убит.
Леонардо
Убит… Убит. Я это раньше знал…
Как он недолго пробыл у меня!
Но как я мог пустить его уехать?
Проклятая рассудочность моя…
Пустить мальчишку в чёртову затею!
Тогда зачем нужны мы, старики?
Кто разгромил восстание в Ареццо?
Зороастро
Флоренция…
Леонардо
Воюет со своею слободой…
Довольно. Хватит… Я преступно медлил.
Скоты! Убийцы! О, мой Аталанте!
Скорей! Скорей! На помощь тем живым,
Кого ещё зарезать не успели!
Остановилось время… Я пишу портрет!
Презренный!.. Зороастро!
Зороастро
Да, синьор.
Леонардо
Где люди Борджа?
Зороастро
На подворье ждут.
Леонардо
Пусть ждут. Сегодня едем.
Мона Лиза
Нет… не уезжайте…
Нет, этого не может быть… Так вдруг?..
А как же мой портрет?.. А как же…
Нет, нет, я не хочу!.. Я не пущу вас!
У вас искусство!.. Нет, я не хочу!
Леонардо
Искусство в том, чтоб счастье приносить,
А я свернул со своего пути…
Скорей! Скорей! Коней влечёт дорога!
Мона Лиза
Не уезжай, любимый…
Молчание. Все останавливаются.
Леонардо
Вы сказали…
Мона Лиза
Любимый мой… Как сладко говорить.
Леонардо
(задыхаясь)
Не верю я тому, что слышат уши.
Мона Лиза
Ну вот теперь ты знаешь… Всё равно.
Пускай… Я столько времени молчала…
Да, я люблю тебя!.. Люблю тебя. Ты мой.
Ты никуда отсюда не уедешь.
Анита
Что делает она! Что говорит!
Опомнись! Ты ведь замужем!..
Мона Лиза
(с презреньем)
“Мой муж”!
Когда отец мой умер в разоренье,
Меня ему отдали за долги,
Но душу за долги не получают.
Ты отказаться не посмеешь!
Леонардо
Я?
Мне отказаться от такого дара?!
Когда я сам люблю тебя всю жизнь!
Зачем тогда я мучился напрасно?
Что мне мешало попросить любви?!
О, боже, неужели этот мул,
Тебя купивший, как мешок овса?!
Всю жизнь я ждал, что встречу я тебя.
Не угадал лишь, как это случится.
Мона Лиза
Ты не уедешь?!
Леонардо
Сердце моё, рвись!
Мона Лиза
Ты не уедешь!
Леонардо
Люди, что мне делать?!
О Мона Лиза, неужели нам,
Как тем собакам, ухватившим кость,
Вползать обратно в конуру свою.
То, что в груди трепещет и поёт,
Мне не позволит, чтоб, закрыв глаза,
Любил тебя, спокойно ел и пил,
Когда девчонок продают, как мясо,
И нищие детишки просят хлеба.
Их тонкие немытые ручонки
За сердце меня держат, Мона Лиза.
Молчание.
Италия разбита на куски.
А этот Цезарь хочет их связать…
Мона Лиза
Из-за своей корысти…
Леонардо
Да, я знаю. Но он зовёт меня, я буду строить.
Молчание.
Мона Лиза
Да… Ты уедешь… Я не угадала.
Уносит вдаль тебя чужая сила,
В чужую даль уносит от меня…
Я знаю, ты ошибся, Леонардо,
И знаю, что остановить нельзя.
Ты разобьёшься, если не погибнешь,
Но ты найдёшь дорогу через хаос.
Леонардо
Молчи! Молчи!.. Не говори ни слова!
Когда не можешь яркость глаз умерить
И изменить свои черты лица,
То притворись ничтожною бабёнкой,
Болтающей о модах и соседях.
Скажи: “Кто не герой, тот не мужчина”,
Или: “Любовь есть женская стихия”,
Или ещё какую-нибудь пошлость!..
Мона Лиза
Боже!
Леонардо
Молчи! Меня ты обессилишь!
И не гляди так на меня. Я тоже
Глядеть не стану больше на тебя.
Давай с тобой посмотрим на портрет.
(Кладёт руки на спинку кресла, стоящего перед портретом.)
Прощай… Прощай… Здесь всё, что я умел.
Здесь ты и я в портрете этом слиты.
Смотри в глаза, ведь это я смотрю.
Глянь на уста – твоя улыбка, видишь?
Я сделал удивительную вещь. Я знаю.
Здесь всё живёт и всё поёт, как песня.
Здесь руки разговаривать умеют,
Одна рука зовёт – “Не уходи”,
“Прощай, прощай!..” – другая отвечает.
А голоса их в складках рукавов
Печальным отдаются эхом…
(Опускает голову на руки.)
Мона Лиза
(тяжело сглотнув, ровно)
Возьми с собой портрет мой, Леонардо.
Я так хочу… И эту шаль…
(Накидывает кружевную шаль на портрет.)
Прощай…
Франческо Мельци по знаку Зороастро снимает накрытый чёрной шалью портрет и выносит. Анита подходит к Леонардо, поднимает голову и крестит его. Потом ведёт к дверям. Зороастро его выводит. Мона Лиза, зажав руками рот и широко раскрыв глаза, молча рыдает. Входит Джокондо.
Джокондо
В чём дело, Мона Лиза? Что случилось?
Анита
(в замешательстве)
Расстроилась синьора потому…
Что прекратят писать её портрет…
(Выводит Мону Лизу.)
Джокондо
Н-да… Странные особы эти бабы.
Всё невпопад… и плачут и хохочут,
То не хотела продолжать портрет,
А то рыдает оттого, что хочет.
(Хлопает в ладоши.)
Входит мальчик.
Ты подмети да окна закрывай.
Свежо на улице…
* * *
Якушев мне сказал:
…Ужасающая бедность представлений об искусстве и полное неумение отличить ремесло от искусства у этой занимательной эстетики.
Чаще всего она спотыкается на двух порогах. Первый – законченность, второй – обучение.
Ремесло в жизни – великая вещь, ремесло в искусстве – это ремеслуха.
Ремеслуха любит, чтобы всё было надраено – и сюжет и характеры. Ремеслуха – новенький кубок, желательно – сервиз на двенадцать одинаковых персон, а искусство любит кубок с отбитым краем и чтоб каждая штучная персона получила кубок по себе.
Ремеслуха любит букет из тридцати георгинов с гарниром из травы, а искусство любит икебану – один цветок, веточка сосны, кусочек мха и старый горшок.
Ремеслуха любит в рассказе завязки, развязки и прочие кульминации. Найдёт, как она выражается, элементы композиции – и счастлива. Все ружья стреляют, линии завершены, загадки раскрыты, и симметрия полная, как в детской игрушке “калейдоскоп” – пяток случайных стёклышек зеркалами отражается в узор.
А искусство любит фрагмент, размытые края, считает, что в конце работы надо зачёркивать экспозицию и финал и что рассказ – это всё, что рассказано.
Ремеслуха любит классицизм, искусство – классику,
Ремеслуха любит предварительный план, а искусство – эскиз.
Ремеслуха любит Казанский собор не потому, что он искусство, а потому, что у него план понятный, искусство любит Василия Блаженного.
Искусство любит свой стиль, ремеслуха – ворованный.
Искусство любит позднего Рембрандта, ремеслуха раннего.
Искусство любит “Новые времена” Чаплина, ремеслуха – “Огни большого города” того же Чаплина.
Ремеслуха любит интригу, анекдот и стакан воды, искусство – композицию впечатлений и сцены – можно из рыцарских времён.
Ремеслуха любит, чтобы первая сцена была причиной второй сцены, а искусство любит, чтобы причиной сцен было время, их породившее.
Ремеслуха любит школу, искусство – художника.
Искусство любит Чайковского, Сурикова, Горького, Станиславского, а ремеслуха – училища их имени, куда бы они сами не прошли по конкурсу.
Искусство любит песню, которая словом жива, а ремеслуха – подтекстовку под голосистые рулады, которая называется “рыбой” и её можно научиться ловить.
Когда эпоха Возрождения начиналась, мальчик, желавший стать художником, выбирал себе мастера по душе и просился к нему в ученики. Растирал краски, бегал за водкой, постигал тайны мастерства чужого полёта и готовился к своему. А когда эпоха Возрождения кончалась и полёт эпохи иссякал, пришли рационализаторы, братья Каррачи – Анибале, Агостино и третий, забыл, как зовут, – и решили упростить проблему. Из чего состоит живопись? Из формы и цвета. Кто чемпион по форме? Микеланджело. Кто чемпион по цвету? Тициан.
Надо взять форму у Микеланджело, а цвет у Тициана, и всем станет очень хорошо. И появилась первая академия живописи, а из неё “Болонская школа” – великий Гверчино, великий Дольчино, великий Джордано и другие великие отличники производственного обучения, которых в музеях друг от друга не отличишь и которые всем хороши – только не летают.
А дело в том, что живопись состоит не из формы и цвета, а из рисунка и колорита. И их надо сочинять, а сочинять можно только летаючи. Потому что форма и цвет принадлежат предметам в жизни, а рисунок и колорит – картине, которая есть след полёта художника и есть не причина полёта, а средство для его выражения. И потому каждому художнику нужно своё. А чужое его полёт прекращает.
А если насобачиться брать рисунок у Микеланджело, а колорит у Тициана, то получится муляж. Колбаса на витрине из папье-маше, которая и по цвету и по форме точь-в-точь колбаса, только несъедобная.
…Ремесло – великая вещь, и ему надо учиться. И половина наших невзгод оттого, что пироги печёт сапожник, а сапоги тачает пирожник. А вторая половина бед оттого, что путаем искусство и ремесло.
Человеку нужны будни и нужны праздники. Чтобы будни стали праздниками, нужна песня души, нужно искусство.
Нужно сеять хлеб, и нужно летать. Но нельзя сеять хлеб в воздухе и приплясывать за плугом: не будет ни хлеба, ни полёта.
…Но, может быть, самое интересное и потрясающее, что полёт и само искусство – это не одно и то же. Не только в том смысле, что полёт – дело души, а искусство – это материальные следы. Это мы уже поняли. Но полёт души может совсем не выражаться в искусстве и может выражаться не только в искусстве.
Самое потрясающее в искусстве, может быть, то, что оно всегда полёт не для себя одного, а всегда приглашение к полёту других и многих.
Но как обучить полёту, не умея летать?
Занимательная эстетика приглашает к полёту, ползая по произведениям с восклицаниями. Художник же – как ветер…
…Первую европейскую эстетику написал Аристотель, и из неё выучили три единства и четыре формулы трагедии. И забыли, что главным для поэта Аристотель считал его натуру, способную на “священное безумие”, и забыли, что она была написана эллинской осенью, когда отцвели уже Эсхил, Софокл и Еврипид. И потому она никого из выучивших правила не подняла в полёт, а поднялись в полёт другие – Марло, Шекспир и Вебстер, пренебрегшие всеми правилами, кроме одного, – быть драматическими поэтами.
Но как часто голос песни заглушают комментарии к ней и книги почтенной памяти профессора Гуковского, который считал Леонардо дилетантом, а сам всю жизнь кормился исследованием его полёта, хотя и не мог отличить ученическую “Флору” от мощной “Джоконды”, у которой даже рукава платья выдают гения.
…Повествование о Леонардо, незаконном сыне нотариуса Пьетро да Винчи, зародилось у меня в дизентерийной палате среди грохота домино, звереющих от скуки поносников и вони анализов.
Зародилась не идея написать о Леонардо или о дороге через хаос. Это пришло позднее.
Просто возникли стихи о Возрождении, и я даже помню какие:
Надменные крутые подбородки…
Лбы низкие прикрыты волосами…
Все отпрыски фамилий знаменитых…
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста!..
Проламывают головы друг другу,
За два дуката отравить готовы,
И каждый норовит в государи…
…А потом из компании мне позвонил Илларион.
Якушев мне сказал:
…Имитаторы думают, что приёмы – это средства полёта, а это всего лишь его следы.
Полетишь – будут следы, а используешь следы – не полетишь.
А сальери пытаются обучать моцартов приёмам и удивляются, почему те после этого не летают.
…А потом мне позвонил весёлый Илларион и сказал:
– Ну чего ты? Приезжай. Мы тут сидим.
– Что-то расхотелось.
– Бери такси.
– Денег нет.
– Мы тебя тут “выкупим”.
– А куда ехать?
– Близко.
– Близко шофёр не повезёт.
– Скажи ему – Петровка, 38 – поедет.
– А вы уже там?
– Нет. Дом рядом. Мы тебя встретим и проводим.
Я выполз из дому. Помахал. Поехал.
Приехал. Ждут. Трое на тротуаре. По росту – огромный – друг хозяйки дома, пониже – её сын. Ещё пониже – Илларион.
Я открыл дверцу. Меня вытащили и отдали сыну. Илларион и друг нырнули в машину. Она укатила.
Якушев мне сказал:
…Актёры любят играть Я в предлагаемых обстоятельствах. Приходит этот Я, и ему велят играть Корделию. А он не Корделия, и в её обстоятельствах повёл бы себя иначе. И он начинает изучать психологию Корделии и не может её понять. Потому что он не Корделия и лепечет что-то о своей жизни чужими словами, и стихи Шекспира ему мешают, и нам стыдно.
И выходит, что Я в предлагаемых обстоятельствах Корделии может получиться, если это Я равно Корделии, и тогда обстоятельства Корделии могут выявить его собственное Я. И тогда видно, кто ты – ананас или картошка, посаженная в тропиках и имитирующая ананас.
Про картошку тоже написаны стихи: “Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья… кто картошку не едал-дал-дал”. Но наслажденье-денье от картошки, согласитесь, другое, чем от ананаса. Картошка для повседневной жизни, ананас – для праздника. Забывают, что театр – это ананас.
Что это за артист, если он не поднимает меня в полёт потому, что сам ползает по настилу в одёжке не по росту?
…Повествование о Леонардо, незаконном сыне нотариуса, родилось у меня в дизентерийном бараке, среди грохота домино, скучающих поносников и вони анализов. Значит, там ему было суждено зародиться, а не в райских кущах занимательной эстетики.
Якушев мне сказал:
…Если вещь закончена, значит, какая-то суть выражена, и художнику даже кажется, что он её исчерпал. А на самом деле это он исчерпался и налетался всласть, и на сегодня его полёт закончен. И вот эту кажущуюся исчерпанность сути занимательная эстетика объявляет законом этой вещи. И изучает приёмы этой законченности.
Микеланджело, глядя, как художники копируют его “Страшный суд”, и пытаются изучить закон, по которому он построен, и принимают следы полёта за правила, по которым они сами полетят, сказал:
– Многих это моё искусство сделает дураками.
…Мы все наследники эпохи Возрождения, а эпоха Возрождения – противоречивая эпоха, как, впрочем, и всякая другая.
С одной стороны – попытка вычислить полёт и создать ему канон, с другой стороны – вспышки полёта, этот канон сокрушающие.
Потом снова эпоха оккупации церковью полёта.
Потом снова эпоха Просвещения и попытка полёт вычислить и сотворить классицизм.
Потом снова эпоха романтизма и попытка слетать в духовное средневековье.
Потом снова науки на новом уровне хотят взлететь на вычислениях.
И снова гороскопы, буддийские календари и прочие зодиаки.
Идёт смена трезвых и нетрезвых эпох, и почему-то никто не сделал простого наблюдения, что полёт не зависит от мнений на его счёт. Летают во все эпохи, и эпоха только среда, в которой родится летающий. Среда может направить полёт или заглушить его, но не породить. И, значит, природа полёта – в человеке, а не в квартире, где он живёт, и не в соседях. Томмазо Кампанелла летал в каземате, когда сочинял “Город Солнца”, а те, кто туда его запрятал, ползали по чисту полю, хотя и глазели на небо.
…Вернулся Илларион с огромным другом хозяйки.
Сын хозяйки дома стал играть на Илларионовой гитаре незнакомые песни, огромный друг то спорил с Илларионом насчёт генетики, то рассказывал, как он освобождал Будапешт, то порывался сбегать на другой конец Москвы за магнитофоном, а мы с хозяйкой дома, милой женщиной, ели рыбу в томате и пили далеко не лимонад.
Потом мы с Илларионом выползли из дома и пошли по Страстному бульвару, где на каждой скамейке сидели парочки в разнообразных ночных объятиях, и у каждой скамьи Илларион гитарой брал на караул по-ефрейторски – рука с гитарой и подбородок резко в сторону, а я говорил слова “приветствую вас”. На последней скамейке парочка приняла нас за патруль и испуганно сказала: “Мы завтра расписываемся” – и мы вышли к кинотеатру “Россия”, и стали махать руками таксисту с зелёным огоньком, зазывая его отвезти нас куда нам надо.
В такси обнаружился ещё один седок, которому оказалось ехать в нашу сторону. Мы с Илларионом начали вспоминать стихи классических и популярных поэтов, а ездок сказал:
– Ребята, а вы не боитесь, что я бандит?
Я ему сказал:
– Раз ты бандит, ты обязан грабить. Вот тебе куртка и вот тебе гитара.
Он испугался и стал отказываться, а я сказал:
– Раз ты бандит, ты обязан грабить. Вот тебе куртка и вот тебе гитара.
А он испугался, и мы приехали к новому Илларионову дому.
– Жалко с вами расставаться, – сказал ездок.
– Пошли с нами, – сказал Илларион ездоку.
И он испугался совсем.
– Милый, главное – не нервничай, – сказал я.
Мы вползли в лифт и взлетели на двенадцатый этаж. Илларион стал читать стихи, а потом запел песню про ландыши, а ездок сказал:
– Какой сарказм.
И мы поняли, что нам попался инопланетянин.
– Ты вообще-то кто такой?
– Я артист театра ЦТСА на незначительные роли, – сказал пришелец. – И мне надо идти, потому что утром я еду в город Тулу читать басни Крылова.
Это был уже полный бред.
Илларион на этикетке от “Выборовой” написал ему рекомендательное письмо в Тульскую филармонию, и мы его отпустили.
Уже светало, и солнце поднималось над Адриатическим морем.
Якушев мне сказал:
…Можно знать о необходимости завязки, кульминации и развязки и не взлететь.
Надо взлететь, и тогда появятся и завязка, и кульминация, и развязка. Именно этого полёта. Но они будут не те и окажутся не там, где их ожидали перед полётом.
…Другой профессор, не моргнув, обучал, что Ван Гог и Гоген – дилетанты, потому что не знали анатомии.
Хотя ещё Леонардо, создатель анатомии, говорил:
– О живописец-анатомист, бойся показать знание мускулов.
…Когда инопланетянин на незначительные роли уехал в Тулу читать басни Крылова, Илларион сказал:
– Почему ты перестал писать?
– Потому что я перестал летать, – ответил я.
– А ведь ты говорил, что Аристотель велел поэту впадать в священное безумие?
– Священное, Илларион, священное…
– А что тебе мешает?
– Я теперь знаю все штучки, которые вызывают растроганную слезу или пугают, но не хочу их применять.
– А разве Аристотель не велел вызывать страх и сострадание?
– Он велел летать над страхом и состраданием. А ремеслуха велит ими торговать. Она велит написать, как дети играют на тикающей бомбе замедленного действия, и велит написать, как один герой подарил другому триста рублей. Автору это не будет стоить ни копейки, а зритель будет содрогаться и плакать. Ремеслуха велит брать конфликт, проблему, её преодоление, интригу, характеры, идею, сюжет, композицию – варить до готовности; любовь, соль, перец и красоты слога – по вкусу.
– А искусство что велит?
– Искусство велит искать свои темы в глубинах потрясённой души нации.
– А как их искать?
– Жить.
– Живи. Чего же тебе не хватает?
– Священного трепета.
– Безумия?
– Трепета, Илларион, священного трепета. Аристотель трагедий не писал. Он их изучал. И трепет казался ему безумием.
– Я этот трепет каждый день испытываю, – сказал Илларион.
– Когда?
– Когда своей балдой старые дома ломаю.
– Как странно, – сказал я. – Странно… Раньше я и сам так думал… Только сейчас понял, что ты не прав. Это другой трепет.
– А какой нужен?
– Который бывает, когда предчувствуешь весну.
– …А как же Пушкин? – спросил Илларион.
– Что Пушкин?
– А Болдинская осень?
– Он сам был весна.
– У меня всегда по сочинению было “пять”, – сказал Илларион.
– …Все от трапа! – орал Илларион. – Отдать концы! Как провожают пароходы?! Совсем не так, как поезда!
Ну нас, конечно, на речной трамвай не пустили.
Оставалось одно – взяться за ум, то есть с юмором – ни-ни.
Поэтому мы пошли в театр.
И ещё потому, что пора было снова прививать друг другу любовь к искусству.
…И в театре мы с Илларионом несколько часов смотрели, как артисты общаются друг с другом и обсуждают какие-то свои дела.
Иногда они вспоминали про нас и по-соседски обращались в зал.
Но мы с Илларионом ленивы и нелюбопытны и в чужие склоки не лезем.
Мы всё ждали, когда выйдет Мочалов. Но Мочалов не вышел.
Артисты все были дрессированы постановкой и старались не взлететь. А Мочалов взлетает – когда вслед за авторами, а когда и самостоятельно – и тогда постановка про то, как вслед за ним взлетаем и мы.
– …Мать честная, – сказал Илларион, – почему мы должны на них смотреть?
– Чтоб не смотреть друг на друга.
– Я знаю, чему они нас учат, – сказал Илларион.
– Чему?
– Жить напоказ.
Якушев мне сказал:
…Все так привыкли жить в театре без Мочалова, что уже не понимают, что он даст, если придёт.
Поэтому его и не ждут.
Остались смутные легенды да воспоминания людей, которых он брал в полёт.
И в легендах и памяти остались не овации и сколько ему венков подносили, или как студенты его на колеснице везли (как про других знаменитых артистов), а осталось, что по десять раз на одну постановку ходили, чтобы услышать, как он в третьем акте одну фразу говорил.
Остались слухи не о постановке, или режиссуре, или ансамбле, а о том, как люди плакали на этой фразе. Ну, не на одной, конечно.
И не потому, что фраза трогательная или страшная – её автор написал, а потому и оттого, как её Мочалов говорил.
Фразы остались, Мочалова нет.
Сейчас плачут, когда пьеса делает жалобный поворот, а у Мочалова – от восторга полёта и понимания высоты – не так живём, братцы-люди.
Ну, потом зрителям головы задурили, и Мочаловы ушли в чтецы, в Яхонтовы, но и там их настигли профессионалы и любители ансамблей и спортивных команд. Это всё дела прекрасные, но уж один человек зал в полёт не поднимет. Нечем. Не жжёт глаголом сердца людей.
Голоса есть, рояли настроены и выкрашены, от электроусилителей в рядах качает, титул у артиста длинней императорского, а номер, с которым он выступает, – коротышка, крылья надраены, аппарат налажен, бензин есть, а не летает – муляж, реквизит. В искусство на аппарате не полетишь. На аппарате можно скатать в Сочи, и то на гастроли.
Сейчас либо дилетанты, либо профессионалы. Дилетанты – это которые иногда боятся выступать, а иногда нет. У профессионалов каждый раз одно и то же – не боятся.
А чего им бояться? Защищены пьесой, профсоюзом, режиссурой, аппаратурой, анализом за столом и занимательной эстетикой. Попробуй не стать после этого культурным и даже где-то воспитанным, артистом. А что он впечатления не оставляет – это вина зрителя. Не дорос. А Шекспир писал для грузчиков из лондонского порта, и для них играл Мочалов, виноват–Бербедж, и ничего – понимали летаючи. Потому что эта парочка – автор и актёр – сами летали так, что прихватывали с собой и глобус.
– А что такое полёт? Толком можешь объяснить? – спросил Илларион.
– Отрыв от действительности, – сказал я.
– Вот это номер! А зачем отрываться? Нельзя. Ничего, кроме действительности, нет.
– Есть, – сказал я.
– Что?
– Перспективы.
– Значит, из-за ремеслухи искусство становится без полёта?
– Ага, – сказал я. – Она сама без перспективы… Она сама без перспективы и перед зрителем её закрывает… Гоголь не потому силён, что описал с натуры чиновника и как у него шинель спёрли, а потому, что выходило – людей жалеть надо, и нет маленьких людей, а есть затюканные. А до Гоголя в основном жалели графьёв, а над затюканными смеялись. Полёт для того, чтобы затюканный перестал чувствовать себя маленьким. Из этого потом получаются революции.
– Отрываться от действительности нельзя, – сказал Илларион. – Хрен с ними, с перспективами. Родился, отработал положенное, помер – вот и вся перспектива.