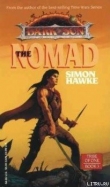Текст книги "Осквернители (Тени пустыни - 1)"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
– Ворота заперты. Снаружи заперты!
Сделалось светло, будто солнце взошло, только мрачное, дымное. Всех, кто тушил пожар, смело с крыш точно вихрем. Огонь охватил соседний стог пшеницы, и он так пылал, что жар его даже внизу во дворе делался нестерпимым. Пламя ревело, осыпая людей роем обжигающих искр.
– Сгорим! – закричали женщины и, прижимая к груди малышей, бросились к воротам.
Их опередили мужчины... Подхватив тяжелое бревно, раскачали его и ударили. Доски затрещали. Новый удар! Створки поддались. Среди колхозников послышались радостные возгласы. С яростью обрушивались удары на ворота, а пламя выло и бесновалось за спиной сгрудившейся во дворе толпы.
Еще свирепый толчок бревна. Могучие древние ворота упали с грохотом наземь.
Но никто не сделал и шага вперед.
Озаренные гигантскими факелами горящих скирд, выросли из тьмы всадники – багровые джинны из сказки. Но совсем не по-сказочному они стреляли из винтовок беглым огнем в тех, кто рвался из курганчи. И толпа раздалась в стороны, оставляя на земле окровавленных и корчащихся в агонии женщин, детей, мужчин.
И на какую-то минуту вдруг угасли все крики и наступила тишина. Выстрелы смолкли. Даже огонь будто застыл, взметнув в вышину свои раскаленные, пышущие зноем языки. Они тихо дрожали в черном небе, готовые обрушиться на людей. В наступившей тишине снаружи прокричал голос:
– Вы обречены! Вы, собаки колхозники, изжаритесь в шашлык.
Послышался хохот, а затем голос продолжал:
– Я Овез Гельды! Чувствуете? Получайте за хлеб и за верблюдов. Стреляйте, друзья, и чтобы ни одна собака не ушла отсюда!
Толпа шарахнулась во все углы и закоулки двора курганчи. Один только капитан Непес не потерял голову. Пламя зверело. Калтаманы бешено палили из винтовок. Дыхание спирало от раскаленного дыма. Умирающие стонали в лужах крови. Люди раздирали одежду и кружились на месте. На многих тлело платье. Непес-капитан бегал от одного к другому, обливал водой из ведра и умолял. Его так и запомнили: закопченного дочерна, с грязными струйками на щеках, дымящейся фуражкой, свирепо горящими глазами и словами надежды: "Потерпите! Придут на помощь, придут из других курганчей. Ашот из совхоза приедет!"
Но он и сам уже не верил. Он слышал сквозь вой пожара, что выстрелы рассыпаются дробно и близко и далеко, что стреляют повсюду в Геоклене, что кричат и плачут женщины в курганче рядом и дальше в других курганчах, что пылают скирды на крышах и других домов. Гибель пришла колхозникам. И он с болью видел, что многие, кто не выдерживал нестерпимой духоты, жара и огня и не желал сгореть или задохнуться в дыму, выскакивали через ворота в прохладу ночи и падали, сраженные пулями взбесившихся калтаманов. И он понял, что остается одно. Он крикнул:
– Ко мне, в ком сердце бьется!
И когда все способные думать и двигаться подобрались к нему, кто ползком, кто отчаянными прыжками, кто на четвереньках, он приказал им обнажить свои узбекские ножи, схватить покрепче всякое дреколье, только поувесистее.
– У нас сыновья, у нас наши жены! За мной!.. – прокричал он хрипло.
Капитан Непес не кинулся к воротам в одиночку. Он понимал, что его срежет пуля, как срезала многих, уже лежавших в лужах крови. Он приказал всем сначала сгрудиться в скрытом от глаз калтаманов углу двора, где меньше чувствовалось пекло пожара. Он проявил беспощадность и даже жестокость. Пинками ноги он поднимал задыхающихся, ослабевших. Он колотил трусов, которых узнавал по слезам на лице. Он дрался и сыпал проклятиями, не чувствуя ожогов, не замечая, что огонь опалил ему бороду.
И он успел в своей безумной затее. Люди приободрились.
Но тут ему чуть все не испортил Язык Перец.
– С черной костью не желаю. Г... вам в рот!
Высоко вздев руку с кошельком, он выскочил из ворот и, дико визжа: "Вот деньги! Я не колхозник! Я правоверный!" – и, виляя задом, точно поджимая хвост, побежал прямо на всадников.
В него не стреляли. Он подскочил к самому Овезу Гельды, крутившемуся на коне перед своими калтаманами, и, ухватившись за стремя, протянул с криком ему кошелек:
– Жизнь! Возьми деньги за жизнь! Золотые! Николаевские!
Овезу Гельды захотелось, видно, малость покуражиться. Не торопясь, он вытащил из ножен саблю, повертел ею над головой, чтобы огонь играл на ее лезвии, и с силой ударил. Рассеченный наискось от плеча до пояса, несчастный Язык Перец упал.
Расправа с беззащитным острословом отвлекла внимание калтаманов от ворот курганчи.
Непес даже не успел осудить малодушие страховидного. Старый капитан только умно воспользовался моментом.
Калтаманы хором восславляли своего вожака: "Мастерский удар! Да не дрогнет твоя рука!" Почтительно следили они взглядом, как Овез Гельды вытирает окровавленный клинок.
А когда они спохватились, стрелять по воротам было уже поздно. Толпа колхозников потоком лавы выкатилась из огнедышащей курганчи и вплотную навалилась на тонкую цепочку всадников.
Лошади шарахнулись, многие калтаманы едва удержались в седле. В рукопашной свалке винтовки бесполезны, а сабли просто некогда было обнажить. И правильно к тому же призывал хитрый Непес-капитан: "Лошадей! Бейте лошадей!" Обезумевшие от боли, яркого света, дыма, калтаманские кони рассыпались по ночным полям и умчали не успевших прийти в себя овезгельдыевских бандитов..
Бегство их послужило сигналом к прекращению погрома во всем Геоклене. Еще с минуту в темноте маячили неясные тени и исчезли. На земле лежали раненые и убитые. Пронзительно ржали издыхающие кони.
Матерый волк с седыми ушами и облезлым хвостом Овез Гельды скакал далеко впереди. Он не останавливал свою шайку. Он чувствовал себя очень плохо. Каждый толчок бешено скакавшего коня вызывал тошноту. Перед глазами Овеза Гельды стояло совсем рядом искаженное гневом лицо капитана Непеса и блестело искрой лезвие его ножа. Неужели Непес успел ударить... Тогда очень плохо. Раны в живот в первые мгновения нечувствительны. Но они очень опасны. Овез Гельды боялся шевельнуться, чтобы проверить, действительно ли он ранен. Прыжки коня отдавались внутри все сильнее... все больнее. Сомнения больше не было... Проклятый Непес... проклятый Непес... Овез Гельды страстно желал поскорее добраться до барханов. Добраться, спешиться и посмотреть, что случилось, скорее перевязать рану... В свои семьдесят лет Овез Гельды не считал, что жизненный путь его подходит к концу.
До утра не стихал пожар в колхозе Геоклен. До утра хорезмийцы в близких и далеких кишлаках с ужасом вглядывались в пламеневшие тучи. Всю ночь в сторону зарева спешили отряды Красной Армии и добровольных дружин. Они пришли в Геоклен, когда светало. Они застали обугленные балки, кровавые лужи, стоны и плач женщин и детей. Мужчины не плакали. Много геокленов погибло в ту ночь. Многие пали от калтаманских пуль, многие сгорели заживо.
...Господин Али мог теперь улыбаться. Все шло по его замыслу. Гранатово-красные губы его горели рубинами. Но почему-то, когда утром его брил Тюлеген, и он уголком своих глаз-слив заглядывал в маленькое походное зеркальце, ему делалось не по себе. Сначала он никак не мог понять: почему? И вдруг вздрогнул и сообразил... Только что приехали на колодцы Ляйли калтаманы. Один, совсем молодой с глазами одержимого, качался в седле, точно напился бузы. Рука его судорожно сжимала рукоятку опущенной сабли. Лезвие ее, покрытое еще не запекшейся кровью, краснело в свете рождающегося утра, и гранатные капли скатывались на песок...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
От зла зловоние остается и на
тысячу лет.
О м а р Х а й я м
Рыжий дым и запах паленого...
Сначала запах, а потом дым... Горький запах паленой шерсти.
Обычно барханы пахнут жженым кирпичом и чуть-чуть полынью. Чудесно пахнут.
Откуда же вонь горелой шерсти и мяса? Откуда ржавый дым над овцеводческой фермой?
Зуфар большими прыжками спустился к подножию песчаного холма и побежал так быстро, как мог. Он был напуган, ужасно напуган. Дым, смрад... Пожар в пустыне. Что-то непонятное, что-то страшное.
Ничего он не смог разглядеть с вершины бархана. Потому он и бросился бежать по такыру к колодцам, над которыми, загораживая восходящее солнце, взметнулось гигантское облако дыма.
Пока Зуфер бежал, облако превратилось в тучу с ржавыми боками. Туча зловеще росла и надвигалась.
"Горит ферма, – мелькнуло в голове, – горят овцы. Мериносы... Открыть кошару!.. Надо открыть!"
Кто мог представить, что так могут кричать овцы? Тихие, молчаливые овцы.
Овцы, горя заживо, кричали, как маленькие дети, которым делают больно. От крика овец у Зуфара сердце сжималось, пока он бежал через такыр.
Он уже не думал, что пожар на ферме – непоправимый убыток для государства, не думал, что погибают ценные мериносовые овцы, не думал, что где-то в дыму и огне, быть может, она... Лиза...
Зуфар только слышал детские стоны, душераздирающий детский плач. И он кинулся прямо в дым.
Он глотал дым, искры жгли лицо и руки, он слепнул от дыма. Он ничего не понимал, разбрасывая, разворачивая дымящиеся, вспыхивающие рыжим огнем связки колючки и травы. Разбросать! Разворотить! Лишь бы открыть дорогу из огня животным. Так горько, так ужасно молили они о помощи.
Зуфар не понимал, расшвыривая и топча огонь, зачем понадобилось нагромоздить вокруг загона столько снопов колючки, горы колючки и сухой барханной травы. Кому понадобилось делать такую нелепость? Ашоту? Нет. Ашот – не дурак. Зуфар раскидывал колючие связки, затаптывал ногами языки пламени и давился дымом... Он рвался к овцам сквозь буран огня и дыма.
Только теперь Зуфар вдруг увидел, что он не один. В дыму кружились фигуры людей. Они что-то тащили и бросали. Они походили на чертей, черные, в дымящейся одежде.
– Хорошо! – воскликнул Зуфар. – Молодцы! Помогайте!
Теперь он не один, теперь овцы спасены. Он уже не замечал нестерпимого жара, дыма, железных колючек, рвущих ему в кровь ладони. Он слышал только жалобный по-детски плач овец.
И вдруг он понял: люди не помогали. Странно. Они, наоборот, подбрасывали в огонь сухую траву.
Зуфар не успел возмутиться. Сильные руки выволокли его из дыма и огня, и кто-то завизжал:
– Это еще что? Ты кто?
Пламя взревело, и жар, пыхнув в лицо, заставил Зуфара отскочить. Он отпрянул в объятия человека в папахе, сшиб его с ног, и они упали вместе. Еще барахтаясь в песке, Зуфар понял, что попал в беду.
Человек, которого он сшиб, был Овез Гельды... Осунувшийся, пожелтевший, с грязной бородой, но Овез Гельды, сардар, вожак калтаманов. Овез Гельды сидел на земле, плевался песком и злобно разглядывал Зуфара. Да и как не злиться, когда тебя, сардара, так грубо сшибают с ног.
Овез Гельды не узнал Зуфара. В огне он потерял свою форменную фуражку. Прокопченное, опаленное лицо, обгоревшая одежда делали щеголеватого речного штурмана неузнаваемым. Да Овез Гельды и не утруждал себя воспоминаниями. Его только злило, чего этот молокосос хивинец путается под ногами.
– О, – сказал непонятно откуда взявшийся Заккария, – молодой друг спасает государственную собственность...
Заккария поднял палец и спросил:
– Кто погибает? Противные исламу грязные свиньи... мюфсид (плохое, губительное для мусульманина) от всеочистительного огня и погибают.
– Что вы болтаете! Овцы, бараны гибнут... Слышите?
Старый Заккария воздел руки. Очки соскользнули ему на кончик носа. Подслеповатые глаза щурились. Тоном проповедника, перекрикивая вой, треск, шум, он возгласил:
– О юноша, мы тюрки! В нас кипит азиатская кровь... А кровь тюрков медвяная роса мусульманства. О! Мы, люди прогресса и просвещения, поняли: спасение узбеков – в сохранении религии ислама...
Обалдело смотрел Зуфар на Заккарию и бормотал:
– Тушить пожар! Спасать!
– Кого спасать? Овец-свиней спасать! Мериносов? Большевистское нововведение?.. Всякое нововведение есть противообычие, а противообычие есть заблуждение, а всякое заблуждение ведет в огонь ада. Овцы-свиньи нечисты. Пусть горят!
И за стеклами очков в золотой оправе его близорукие глаза приобрели мечтательное выражение.
И тут только Зуфар вспомнил. Ашот говорил что-то... Да, он говорил: когда привезли из-за границы новых мериносовых овец, все хивинское и степное духовенство словно взбесилось. Ишаны, имамы, муллы подняли крик. "Меринос – не овца. Меринос – поганая свинья в овечьей шкуре". Великий Каракум-ишан просто объявил, что один вид мериноса поганит душу мусульманина, и призвал истребить поганую тварь. Ашот тогда сказал: "Что только не придумают из ненависти к советской власти" – и посмеялся.
Как мог оказаться почтенный "революционер" Заккария здесь, около овечьего загона, среди дыма и огня, было непонятно. Изнеженный гуманный интеллигент и горожанин Заккария избегал жгучего солнца и песка и предпочитал ступать своими холеными ногами по коврам. Здесь, в пустыне, со своей крашеной хной-басмой до черноты бородой и золотыми очками он казался совсем неуместным. И тем не менее он стоял тут, в двух шагах от пылающего гигантского костра, равнодушно взирал сквозь очки своими прекрасными с искрой мечтательности глазами на гибель двух тысяч овец, невозмутимо слушал раздирающие вопли сгоравших заживо животных и тихо улыбался... Казалось, он хочет сказать нечто возвышенное. Но его опередил Овез Гельды.
– Эй ты, не лезь не в свое дело! – хрипло рявкнул он на Зуфара, счищая с халата песок. – Ты что, здесь работаешь?
Но огонь разгорался. Несчастные овцы вопили, и Зуфар снова бросился пробивать дорогу сквозь дым и пламя.
– Возьмите его! – свирепо закричал откуда-то издалека Овез Гельды. Дайте ему десяток горячих. Пусть, дурак, поостынет. В нагайки его!
Зуфара вытащили из огня дюжие джигиты-бородачи, но до нагаек не дошло.
– О юноша, – протянул с удивительной важностью Заккария, – что ты, неразумный, лезешь в огонь, суетишься?..
– Пустите меня! – вырываясь из рук калтаманов, завопил Зуфар. Погибают! Помогите тушить огонь!
Веселый, доверчивый Ашот! Он добродушно посмеялся над выдумками мракобесов, а теперь ценнейшие мериносы, племенное стадо погибало.
Беспомощно Зуфар озирался. Да, он опоздал. Он знал, что надо спешить, и он спешил.
Зуфар верил, что успеет предупредить Лизу, жену друга Ашота. Он верил, что Лиза успеет уехать в Ургенч. А он бы вез на руках малыша, племянника Лизы, и сердце бы его сладко томилось. Никакой награды он не ждал, кроме благодарной улыбки Лизы.
Он опоздал. Он понял, что опоздал.
Когда ночью Зуфар спешил сюда, он меньше всего думал о ферме, об овцах, о каких-то мериносах, пусть они стоят хоть миллион. Зуфар по-мальчишечьи мечтал о подвиге. Он хотел избавить от опасности ту, по которой вздыхало его сердце. Он мечтал о признательном взгляде синих глаз. Он пожертвовал бы жизнью за один взгляд Лизы...
Зуфар озирался, он пытался разглядеть, что происходит за дымовой тучей и стеной огня на ферме. Но рыжий дым застлал все вокруг: и юрты, и колодцы, и белый домик Ашота, где жила она – Лиза.
Огонь бушевал. С овцами было кончено. Ничего не могло их спасти. Зуфар пошел к юртам. Но Овез Гельды сделал знак. Калтаманы подскочили и заломили Зуфару руки за спину. Овез Гельды не верил молодому хивинцу. Он разглядывал его, хотел, видимо, утвердиться в своих смутных подозрениях. Чем-то Зуфар не нравился сардару. Или память о ледяном купании в Аму, о пережитом страхе смерти как-то смутно связывалась с этим юношей. Но Овез Гельды не узнал Зуфара.
Овез Гельды инстинктивно чувствовал неприязнь к этому хивинскому щенку. Раздражала ноющая боль в животе... Нет, сардар не собирался отпустить этого хивинца так легко. Кто его знает, зачем он сюда явился?
– Пустите! – сказал Зуфар.
– Ты кто? Ты служил у армянина? – спросил Овез Гельды. – Подумай хорошенько, прежде чем ответить.
Только теперь Зуфар заметил, что старый сардар болен, и тяжело. Он говорил медленно, с трудом. Он нетвердо стоял на ногах, прижимая руки к животу. Судорожная икота мучила его, и гримаса боли кривила губы. Незаметно Овез Гельды поддерживали со всей вежливостью под руки два молодых калтамана.
Но голос сардара был тверд, и в нем слышалась даже угроза. Совет подумать хорошенько – звучал зловеще. Зуфар почувствовал озноб, но задиристо бросил Овезу Гельды:
– Это разбой! Вы поплатитесь!
Юноша не думал, чем грозят ему его дерзкие слова. Он слишком верил в незыблемоть советского порядка в Хорезме и не осознал еще всю меру опасности. Времена дикости канули в прошлое. Так ему казалось. Но Заккария ужаснулся. Он-то знал Овеза Гельды и его банду. Он искренне жалел этого красивого, полного очарования молодости юношу. Он понимал, что ему несдобровать. Заккария попытался "повернуть колесо событий". Старый джадид верил в силу цветов красноречия. Он возгласил:
– Мы восточные, мы тюрки. О юноша, мы не любим западных. Они исконные враги всех мусульман. Они – Запад, мы – тюрки. Под копытами тюрок дрожит земля. Настал час. Истребляйте тлен Запада!
И он протянул руку ко все еще пылающему и смердящему горящим мясом загону.
С Заккарией творилось что-то непонятное. Он трясся словно пьяный, шатался, едва держась на ногах. Вытаращенные глаза его стали дикими...
– Гори, гори! – выкликал он, как базарный дивана*. – Гори, Запад!
_______________
* Д и в а н а – юродивый.
Ноздри на широком лице Овеза Гельды шевелились. Сардар звучно втягивал дым пожарища. Он наслаждался. Он злорадно проговорил:
– Не полезут ко мне в пески. Теперь большевые, теперь колхозники не полезут. Побоятся.
– Не полезут! – дико кривляясь, взвизгнул Заккария. – Хватит нам всяких русских, хохлов, большевиков!
– Летели мухи на мясо, – простонал Овез Гельды. – Нате, получайте мясо... Сколько угодно мяса.
Он в восторге стеганул себя длинной плетью по голенищу сапога и даже закряхтел от удовольствия. Но тут же опять схватился за живот и скрипнул зубами. Рана давала себя знать.
Вокруг стояли лохматые в своих папахах, все в копоти и саже мрачные калтаманы. Они слушали, но на их серых, измученных лицах не читалось и признаков торжества. Чем-то расстроенные, убитые, они глядели исподлобья, мрачно и тревожно.
Один из калтаманов наклонился к самому уху Овеза Гельды и испуганно пробормотал:
– Со стороны озера конные люди.
Овез Гельды забеспокоился.
– На коней! – закричал он и поморщился: резануло внизу живота.
– А бабу куда? – все так же испуганно спросил калтаман.
– В огонь! Туда же... к овцам...
– Она живая еще.
Овез Гельды рассвирепел:
– Скотина! Чего вы там с ней возитесь? Получили, что хотели, и довольно. Свинья визжит, а вы сопли распустили.
– Туркмены с бабами не воюют.
– Сам ты баба.
Овез Гельды оттолкнул джигитов и слабыми заплетающимися шагами пошел через дым к юртам.
Холодея от ужаса, Зуфар оторвал державшие его крепко лапы и рванулся за ним. В несколько прыжков настиг сардара. Но опоздал.
Он только увидел бьющуюся в руках калтаманов женщину. Он не сразу признал в ней красавицу Лизу, жену Ашота. Одежда на ней была растерзана. Золотые волосы в песке и крови космами падали на искаженное, белое как мел лицо. Зуфар едва успел поймать мертвенно пустой взгляд провалившихся глаз. И тотчас услышал возглас Овеза Гельды:
– Да что она вертится! Держите, болваны!
В то же мгновение один за другим хлестнули воздух выстрелы. Синева в глазах женщины потускнела, погасла. Голова упала на грудь. Вздрагивающее тело беззвучно легло на песок...
– А теперь в огонь и...
Сардар не успел досказать – слова заглушил хрип...
Зуфар не помнил, откуда у него оказался в руке нож и как он ударил Овеза Гельды. В Зуфаре проснулся человек пустыни, который не рассуждает, а действует. Им не руководили высокие или низменные чувства. Он даже не знал, хотел ли он отомстить бандиту, по-звериному разрушившему его прекрасную мечту. Он убил гадину так, как раздавил бы паука. Он наносил удар за ударом, пока, шатаясь, еще стоял нетвердо на песке старый, матерый сардар. Удар за ударом! А тот раскачивался из стороны в сторону, хрипел и не падал. Не мигая он смотрел на Зуфара. И во взгляде его не было ни ярости, ни страха. В глазах Овеза Гельды Зуфар читал недоумение и боль, физическую боль, нестерпимую боль. И это радовало спокойного, добродушного Зуфара. Безумно радовало.
Еще удар ножом. И вдруг во взгляде Овеза Гельды появилось осмысленное выражение. Овез Гельды изумился и почти со смехом проговорил:
– А! Это ты? С лодки... керосиновой лодки... Я нашел тебя, щенок...
Язык его ворочался медленно, и голос угасал. Овез Гельды вдруг тяжело рухнул.
Со словами: "Он убил сардара!" – к Зуфару подскочил калтаман и замахнулся саблей. Зуфар кинулся на него. Подбежали еще калтаманы. Завязалась свалка. Рычащий клубок человеческих тел ерзал в песке. Зуфар потерял нож, и его били, но не сильно. Наконец его подняли и поставили на ноги.
Перед ним стоял калтаман и играл саблей. У калтамана было добродушное лицо караванщика, совсем невоинственное лицо, но он старался сделать его посвирепее. Морщился и весь кривился, поглядывая в сторону лежавшего в крови Овеза Гельды, на голову которого поливали воду из фарфоровой чашечки с ручкой. Зуфар узнал чашечку. Из нее пил чай пятилетний племянник Ашота и Лизы – Андрейка. "Где же Андрейка?" – подумал Зуфар. Калтаман играл блестящим клинком перед самыми глазами Зуфара и старался придать своему растерянному и испуганному лицу грозный вид. Заикаясь и мямля, калтаман сказал:
– Сейчас, собака, тебя рубить буду, вот так. – И он провел ладонью от правого плеча к левой стороне поясницы. – Это называется у нас... арбуз взрезать...
– Руби, трус. С безоружным легко воевать, храбрец, – сказал беззлобно Зуфар.
– Не спеши. Есть у тебя еще минута на молитву... Вот сардар откроет глаза. Пусть полюбуется.
Но сардар Овез Гельды глаза не открывал и только хрипел. Подошел Заккария и с ним толстый человек-коротышка. По влажным, гранатовым губам Зуфар узнал в нем Али Алескера, персидского купца. Заккария позеленел, увидев кровь, и все отводил глаза, стараясь не смотреть. Лицо Али Алескера исказилось брезгливой гримасой. Искра любопытства только мелькнула в его глазах, когда он узнал Зуфара.
– О, – сказал он, и толстые его щеки раздвинулись в подобие улыбки, большевик. Такой молодой и...
Заккария смотрел на пустыню. Луч восходящего в дыму солнца блеснул в стеклах очков, и Заккария пробормотал:
– Утро, надев на голову золотой шлем солнца, а на тело серебряную кольчугу звезд, сверкающим мечом ворвалось через врата горизонта и, штурмуя замок небес, прогнало негра ночи...
Калтаманы глядели на старого джадида недоумевая. А он, задрав свою крашеную бороду к небу, декламировал и декламировал, не желая видеть ни растерзанного трупа молодой женщины, ни дымящихся, обгорелых, еще шевелящихся овец, ни умирающего Овеза Гельды... Почтенный Заккария ничего не хотел видеть, кроме небес, солнца... Он вздыхал и вздрагивал, когда до обоняния его ветер доносил смрад горелого мяса и горячей крови.
Калтаман с шашкой, обалдело слушавший Заккарию, вдруг радостно воскликнул:
– Смотрит! Смотрит!
Тяжелые веки Овеза Гельды медленно поднялись, но глаза его были стеклянные. Сомнительно, видел ли что-либо сардар. Но калтаманы возликовали и, встав так, чтобы не загораживать Зуфара, приготовились к казни.
Что думал Зуфар? Говорят, в таких случаях в памяти человека мгновенно пролетает вся жизнь. Но Зуфар ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Он только яростно напрягал все тело, надеясь еще вырваться в последний миг и придушить этого идиота калтамана с саблей. Именно идиота. "От руки дурака погибать? Ну нет!" Надеяться вырваться было наивно и смешно. В Зуфара буквально клещами вцепились пять-шесть здоровенных калтаманов. Он не мог даже шевельнуться. Как завороженный не спускал он глаз с клинка. По блестящей стали его весело прыгали солнечные зайчики.
– Рубить, что ли? – смущенно улыбнувшись, спросил калтаман с саблей. Он спрашивал недвижного, беспомощно лежавшего Овеза Гельды. Сардар не ответил. Вероятно, он умирал. Он не сознавал ничего. Но грозная власть его, вожака бандитской шайки, еще держала в узде калтаманов. Они так привыкли к его властному голосу, что не решались ничего сделать без его приказа.
Калтаман с саблей ждал ответа. Но ответа не было. Все тяжело вздыхали, топчась на песке. Время тянулось бесконечно. Солнце пустыни, желтое, раскаленное, медленно вползало на небесный свод над колодцами, над обугленными трупами овец, над горсткой растерянных, жалких людей, совершивших кровавое дело и готовящихся совершить новое кровавое дело...
А Заккария все не поворачивал головы и все декламировал. Монотонно доносились его слова:
– Молодая поросль жизни его увяла под знойным ветром вражеского меча. Розовый куст дней его увял...
– Эй, Эусен, рубить, что ли? – растерянно спросил калтаман, добровольно взявший на себя обязанности палача.
Склонившись над распростертым Овезом Гельды, старик с раскосыми глазами, названный Эусеном, пожал неуверенно плечами.
– Руби его! – нестройно загалдели калтаманы. – И поедем. Еще красные звезды наедут...
– Да, да, – проговорил Заккария, – месть вопиет... Только нельзя ли без... этого, так сказать, крови... культурнее... В коране тоже говорится: "Пленных оставьте в пустыне, не проливая крови. Пусть без хлеба и воды там останутся... Умрут своей смертью... без крови". А рубить – варварство. Вы уж лучше арканом его...
Он вдруг громко сглотнул. Его душила тошнота. Не оглядываясь, он побрел к стоявшим в отдалении коням. Он вобрал голову в плечи и зажал уши ладонями, чтобы только не слышать удара и вскрика...
С презрением посмотрел ему вслед Али Алескер и живо повернулся к калтаманам:
– Давайте мешок, веревки! Быстро!
Часть вторая
РОЗЫ В ХОРАСАНЕ
Я – могущественный шах, подо
мной – страна моя!
Как ее ни называй: рай, Иран,
она моя!
Вся в развалинах она иль обновлена
моя!
Конституция – ничто! Власть еще
сильна моя!
Сила, слава – все мое! Честь – и та
моя!
С а б и р Т е р п е л и в ы й
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Если хочешь помочь правде, распознай
ложь.
П е р с и д с к а я п о с л о в и ц а
Хафская богом проклятая степь Даке Дулинар-хор известна своими гиблыми ветрами.
Во всякой пустыне знойно, душно, песок лезет в глаза, в рот. Мучит жажда. А вот в Даке Дулинар-хор ко всем прелестям прибавляется еще особенно въедливая соль. Соляная пыль воспаляет кожу, разъедает глаза. От мельчайших соляных кристалликов, твердых, острых, точно острие иголки, чешется все тело, трескаются губы, распухает язык. И нет спасения от соли.
– Ад самого дьявола, которого побили камнями, обязательно сделан из соли. Такова воля аллаха.
Слова об аде и аллахе в сочетании, похожем на богохульство, подхваченные соленым ветром, глухо прозвучали над простором соляного озера Немексор, и едва ли их кто услышал в проклятой богом соляной Хафской степи.
Слова, полные презрения к всемогуществу творца всего сущего, вырвались с сипом из просоленной, воспалившейся глотки Алаярбека Даниарбека, сидевшего на таком же плотном, как и его хозяин, хезарейском жеребчике. Крепыш богохулец нервно перебирал круглую цвета перца с солью бородку, не то седую, не то посеревшую от соляной пыли.
– Только мой свихнувшийся доктор может затащить Алаярбека Даниарбека в ад! – воскликнул крепыш. – Только мой доктор! И долго нам еще месить соль и солью натирать свои чирьи?
Он заерзал всем туловищем в седле и продолжал живописный диалог сам с собой:
– Мой доктор истинно дивана. Ну напоил нищего странника, ну дал ему лекарства! Но посадить на коня, а самому ковылять пешком по соляным кочкам... Нет! Зачем? Проклятый нищий, из-за которого мой Петр Иванович шлепает усталыми ногами, разве стоит забот? Барахтался нищий в соляной похлебке наподобие барана с отрубленным курдюком, и какое наше дело? Барахтайся себе. Ну показал доктор сверхдоброту, ну помог... Но сажать прохожего на лошадь, а самому, умирая от жажды, брести пешком!.. Нет!
Рассуждал Алаярбек Даниарбек отлично. Но что стоило ему предложить, например, доктору своего хезарейского жеребчика, а самому пройтись, поразмяться? Нет, Алаярбеку Даниарбеку это и в голову не пришло. И не потому, что он был такой уж бесстыжий. Просто он разозлился, почему доктор не внемлет его советам.
Надвинув низко на лоб козырек полотняной своей фуражки, чтобы защитить глаза от острых песчинок, Петр Иванович шагал не торопясь, ничуть не досадуя на жару, ветер. Сколько раз на своем веку он шел вот так по пустыне. И так же под его каблуками потрескивала соляная корка. И так же не было ничего печальнее вида мертвых озер. И так же на версты кругом не было ни живого листика, ни былинки. И так же белые просторы соли слепили глаза да раскаленный песок обжигал ноги даже сквозь толстую кожу подошвы.
Но доктор не жаловался. Более того, он, как ни удивительно, находил в пустыне дикую красоту. Здесь, в пустыне, ему свободно дышалось.
– Мои далекие предки, вероятно, кочевали по таким пустыням, – говорил он, посмеиваясь. – И во мне сказались их привычки и склонности. И право слово, я не без зависти посматриваю вон на того теймурийца, копающегося там, далеко, в соли. Простор, безлюдье, тишина... Сколько глаз видит, кругом ни души. Легко думается и мечтается в пустыне. Медленно идет время в пустыне. Забывает человек о заботах в пустыне.
Тихое бормотанье за спиной напомнило, что и в пустыне есть заботы. Позади, на коне доктора, покачивался, едва держась в седле, еле живой, возможно умирающий, путешественник, подобранный сегодня у черных береговых скал Немексора. Алаярбек Даниарбек решительно возражал, но доктор не послушал. Он даже рассердился. Приказав помалкивать, он заставил своего неизменного спутника смахнуть с лица странника соляную пыль и протереть губы, ноздри и глаза влажной тряпкой. К великому негодованию Алаярбека Даниарбека, доктор потратил весь скудный запас оставшейся во фляжках воды, чтобы напоить несчастного.
– Ты проехал бы мимо. Ты, Петр Иванович, уже проехал мимо и не увидел под песком кучу лохмотьев. Это я заметил его на свою голову. Это я сказал тебе, Петр Иванович, – едва слышно ворчал Алаярбек Даниарбек.
– А у вас, Алаярбек Даниарбек, доброе сердце, мягкая душа.
– Вот увидишь, Петр Иванович, ты помог степному скорпиону, а скорпион жалит помогающему руку. Он вор. У него оружие, у него полна мошна денег. Зачем он шлялся по соляному озеру, лез в трясину, хлебал соляной суп? Конечно, он опасный человек, он не иначе спасался от властей, он убийца... Бросил бы ты его, Петр Иванович, не связывался бы с ним...
– Он болен. Ему надо помочь.
Свой протест Алаярбек Даниарбек выразил тем, что хлестнул хезарейского конька побольнее и бросил своего доктора посреди пустыни возиться со странником. Алаярбек Даниарбек надулся. Он и к вечеру не счел нужным сменить гнев на милость. Он делал вид, что ему наплевать, что доктор с полудня тащится пешком, измучен жаждой и усталостью. И все из-за глупого великодушия. Уже не раз в своих странствованиях с Петром Ивановичем по пустыням и горам Азии Алаярбек Даниарбек удивлялся и возмущался, что доктор лечит больных врагов.