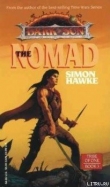Текст книги "Осквернители (Тени пустыни - 1)"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Шевердин Михаил Иванович
Осквернители (Тени пустыни – 1)
Михаил Иванович ШЕВЕРДИН
ТЕНИ ПУСТЫНИ
Роман
В самые удивительные страны забрасывала судьба главного героя
романа, заставляла его испытывать поразительные приключения. Вместе с
героями произведения читатель странствует по степям Средней Азии в
начале 30-х годов, когда остатки басмаческих банд еще совершали
набеги из-за рубежа на первые среднеазиатские колхозы.
Книга первая
ОСКВЕРНИТЕЛИ
________________________________________________________________
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Часть первая. ВЕРБЛЮДЫ КРИЧАТ НА РАССВЕТЕ
Первая запись...
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Часть вторая. РОЗЫ В ХОРАСАНЕ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Вторая запись...
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
________________________________________________________________
Часть первая
ВЕРБЛЮДЫ КРИЧАТ НА РАССВЕТЕ
Мир зол и широк – караванная
тропка узка.
Пустыня молчит. Как сурово безмолвье
песка.
М а х т у м К у л и Ф р а г и
В этой книге рассказано о многих людях. Судьбы их переплелись в сложный клубок, и распутать его позволяют записки самаркандца Алаярбека Даниарбека. Многие годы он скитался и путешествовал. Жизнь забрасывала его в самые удивительные страны, заставляла испытывать поразительные приключения, сталкиваться с опасностями. Однажды Алаярбек Даниарбек вздумал писать. Это довольно беспорядочные записки в ученической тетрадке с обыкновенной таблицей умножения на голубой обложке. Но записи эти проливают свет на некоторые обстоятельства и потому приводятся здесь в том почти виде, в каком они сделаны Алаярбеком Даниарбеком.
Первая запись
в ученической тетрадке с таблицей
умножения на голубой обложке
Прибегаю за помощью к аллаху единому против дьявола, побитого камнями...
Полезно человеку, много испытавшему, рассказать о редкостных случаях его жизни. Беру пергамент, калам и пишу...
Но при чем тут пергамент, если это обычная ученическая тетрадка с обычной таблицей умножения на голубой обложке? И какой же это калам, когда в руке у меня не камышовое перо, каким рисовали восточные поэты цветы рифм, а ручка с медным пером моей дочки-умницы Шафокат, студентки? Да, Шафокат – умница. Так еще говорила всегда в школе учительница, уважаемая Екатерина-ханум. Шафокат – гордость отца.
Извините, я взялся писать о вещах беспримерных, а не о делах своего семейства... Хотя позволительно спросить, разве не беспримерно, что дочь бедняка учится на доктора?
Поистине аллах велик! Повелось издревле всякое дело начинать с имени аллаха, даже если дело непотребное. Надо сказать, я привез из Мешхеда книгу, сочиненную сладкоязычным поэтом Абу Али ал-Хасан ибн-Гани ал-Хакани Абу Нафасом Багдадским. Вредный книготорговец, что разложил свои книги в пыли у подножия Золотого Купола имама Резы, после долгого и злого торга и биения по рукам содрал с меня два крана и семь шай. Чтоб он не продал больше ни одной книжонки!
Среди журчащих ручейком строф Абу Нафаса я прочитал такие слова:
"Хочу, чтобы мне, поэту, дозволялось все воспрещенное законом ислама, и хочу, чтобы аллах превратил меня в собаку. Бегал бы я по Бейт-Уллах-Ахраму, то есть по храму аллаха в Мекке, и кусал бы за лодыжку святых паломников".
Перелистал я страницы книги в обратную сторону, и что же? Глаза мне не изменили. Начинается книга словами: "Бисмилла!" ("Во имя аллаха!"). Выходит, соловей мусульманской поэзии Абу Нафас хотел учинить в священном месте неблаговидную кутерьму, кусая за лодыжки богомольцев, пришедших облобызать святейшую из святынь правоверных – черный камень Каабы.
Спрашивается, как быть мне, когда аллах, обладатель девяноста девяти свойств, и среди них свойства всемогущего, не в состоянии помешать ничтожному смертному, пусть даже царю поэтов Абу Нафасу, рыскать на четвереньках вокруг Каабы и некультурно кусать почтенных паломников? Выходит, всемогущий не так всемогущ.
Что пользы от его имени, когда в меня стреляли злобные слуги некоего Джаббара ибн-Салмана, или сам генерал-губернатор Хорасана проиграл в нарды мне свои исподние, или я запросто сидел за дастарханом Великого Убийцы, известного своими злодействами белуджского хана Керима, или я собственноручно снял с мели пароход на Аму-Дарье и капитан Непес почмокал только губами "тц-тц", или я освободил прелестную пери из рук дикарей, или предотвратил нападение джунаидовских бандитов на границы нашего государства, за что имею благодарность от коменданта заставы Петра Кузьмича, или...
И что пользы от всемогущего, когда с именем или без имени его я испытал и холодное и горячее, и приятное и злое, и жизнь и смерть.
Читатель, ошеломленный изложенным здесь, отвернется и скажет: "Тьфу на его голову! Стоит ли вся его философия и миски гороховой похлебки?" Терпение! Ты, читатель, еще вытаращишь глаза ужаса и пораскрываешь рот изумления. Подступаю к самой сердцевине!
Ассалам алейкум! Здравствуйте!
Я, Алаярбек сын Даниарбека, виноградаря, узбека из племени марви, проживаю в махалле Юнучка-арык в Самарканде.
Самарканд – лицо земли.
Бухара – мать веры.
Если бы в Мешхеде не было купола,
Мир походил бы на отхожее место.
Самарканд – среди городов первый. Сначала Самарканд, а потом уж Бухара и Мешхед! Клянусь, не стал бы я потеть, выводя медным пером буквы, если бы все описываемые события не послужили бы к прославлению ума самаркандцев и к посрамлению крашенобородых мешхедцев.
Невероятные обстоятельства, в пучину которых я, раб аллаха, был ввергнут сквалыгой судьбой, захлестнули меня вихрем непостоянства. Разве не летели рядом с моей головой пули, разве я не путешествовал по Персидскому государству, где собак больше, чем овец, разве не изнемогали подо мной лучшие жеребцы Балха, разве не попадали в мои руки письма, от которых зависели судьбы мира, разве мой язык не бросал в лицо вельможам слова обличения? Читатель, приложи палец удивления к кончику носа. Перед одним лишь жизнеописанием моего друга Зуфара из Хазараспа приключения мои кажутся беспомощным шевелением лапок муравья в горе песка.
Дорогой брат мой Зуфар, сколько мук претерпел ты и в ледяной Аму-Дарье, и на персидском соляном кладбище, и от рук полицейских и жандармов. Сам меднобокий Рустем и многострадальный Сиявуш не испытали ничего подобного. Полагайся я только на помощь всемогущего, никогда Зуфар не вырвался бы из когтей трехликого араба Ибн-Салмана и не провел бы за нос инглиза Анко Хамбера, который всю жизнь искал дохлого осла, чтобы украсть у него подковы. О аллах!
Опять аллах! Что значит привычка, загнанная в наше тело учителем-муллой мактаба при посредстве длинной палки, которой он изрядно поколачивал нас по некоторым местам нашего тела.
Не аллах, а я сам, ничтожный, благодаря заостренности своего ума и врожденной расчетливости, сумел пройти через огонь пожара бедствий и водовороты реки жизни и вырваться из клыков льва событий. Сумел я пройти тропами случая и остаться с невыдерганной бородой и чистым лицом. И ныне наслаждаюсь заслуженным кейфом и ежевечерне благодушно посматриваю, сидя на глиняной завалинке, на улицу родной махалли Юнучка-арык и...
Ты, читатель, уже понял из моих немногословных рассуждений, что краткость – сестра мудрости. О, я не поэт, слово которого украшено завитушками, а всего лишь смертный, измаравший листки школьной тетрадки, за что, конечно, мне сделает нагоняй Шафокат. Да, наступили странные времена, когда почтенный отец трепещет под взглядом дочки... Но что сделано, то сделано. Тетрадка исписана насталиком*. Плевка не вернешь на лету, а слова не воротишь с бумаги.
_______________
* Н а с т а л и к – один из видов каллиграфического почерка
арабской письменности.
Но пальцы одеревенели, а история не тронулась с места. И все потому, что язык похож на собаку. Собака рыщет впереди хозяина, а язык впереди ума.
Однако ноздри уже обоняют приятные запахи котла.
СТИХ:
Вода и соль! Да, тут работа воды и огня.
Вот как тонко сказал поэт Абу Нафас о похлебке. Но в доме Алаярбека Даниарбека похлебка варится не из воды и не на огне. У нас похлебка кипит от языка матери наших детей многоречивой Гульчехры (мы не сказали "болтливой", о благосклонный к кающимся!). Я слышу, Гульчехра раскричалась в своем эмирате, название которого кухня. С перепугу даже моя перепелка трепещет в рукаве халата. Лев рыкает, а верблюд дерет глотку. Сколько шума из-за пустяка! Нашей супруге подавай сорт риса "кзыл арпа", прославленный у нас в Зеравшанской долине, а я купил в кооперативе белый рис. Да стану я жертвой женского языка! Огонь рождает пепел, а брань даже дыма не оставляет. Известно, жвачка человека – его слова.
Супруга стоит на пороге кухни, и в руке ее меч – железный половник. Разве не похожа возлюбленная моя супруга на Керим-хана, заслужившего кровавыми деяниями прозвище Великий Убийца? Почему, о Кроткий, ты вложил в столь соблазнительное тело гурии нрав филина?
Почему? Потому что ты не Всемогущий, а Ничего-немогущий. Иначе ты не допустил бы, чтобы царь поэтов Абу Нафас бегал вокруг Каабы и кусал за икры правоверных. Ужасный безбожник Абу Нафас совершил паломничество в Мекку лишь потому, что одна очаровательная и набожная рабыня багдадского халифа Гарун-аль-Рашида отправилась в Мекку замаливать свои грехи. Сердце царя поэтов давно горело страстью к той красавице. И когда она прикладывалась губками к черному камню, Абу Нафас очутился рядышком и прикоснулся своими губами к тюльпану ее щечки. Вы думаете, что аллах тут же испепелил святотатца Абу Нафаса вместе с кокетливой вертушкой? Нет, всемогущество аллаха выдумано бухарскими жирными муфтиями. А Абу Нафас воспел поцелуй у Каабы в восхитительных стихах.
Но, кажется, мы опять отдалились от сути...
Начну же описание с того дня, когда мой хозяин... Какой же он хозяин? Человек из рода марви не признает никакого хозяина.
СТИХ:
Хозяйская одежда маркая,
Хозяйская лошадь потливая.
Когда я говорю "хозяин", речь идет о беспокойном докторе, с которым я, Алаярбек Даниарбек, в Стране Гор воевал с отцом непотребства, турецким генералиссимусом, шелудивой собакой, зятем халифа – Энвером-пашой. Где были охотники, где дичь?
Кто скажет?
Так вот, в день, послуживший началом событий, открывается калитка и к нам во двор входит доктор. После приветствий и объятий доктор сказал: "Друг, помню я, что вы изъявили желание совершить паломничество к мавзолею имама Резы в Мешхеде".
Да, такое желание лежало на донышке сундука моего сердца. Все мы, марви, считаем своей святыней Мешхед.
СТИХ:
Даже камни идут в Мешхед.
"Укладывайте ваш хурджун, – посоветовал доктор. – Наденьте дорожные сапоги, подпоясайтесь да не забудьте шило и иголку с ниткой". Оказывается, доктор отправлялся с экспедицией в Персию и хотел взять меня с собой.
О дающий силу, мог ли я предвидеть, что последует, хотя ясно, если берут в дорогу шило и иголку, предстоит долгое путешествие.
СТИХ:
Порой боится человек повстречать в пути судьбу!
Кто знает, где на дороге лежит камень, о который придется споткнуться? Но не спрашивай прыгающую лягушку о ее прыти. Мог ли Алаярбек Даниарбек знать, что паломничество к Золотому Куполу подобно хождению канатоходца над бездной. Кто хочет мяса дичи, отдает десять фунтов своего мяса...
Я, Алаярбек Даниарбек, снова вступил на путь странствий. За неимением дервишеского плаща "гайдари" я надел домотканую бязевую рубаху, вместо "хирки" – рясы – белый камзол, вместо пояса "танбанд", из шерсти жертвенной овцы, повязался шелковым платком, изящно расшитым ручками дочки-умницы Шафокат. Прихватил я на всякий случай и дервишескую веревку "сойли" с тремя баги – узлами: первый узел – "эльбаги", ручной узел, предостерегающий от воровства; второй узел – "дильбаги", напоминающий о вреде лжи; третий "бальбаги", узел чресел, упрекающий за гнусность блуда.
Отправляясь в Мешхед, я принял на себя обязанности дервиша, а таких обязанностей, да будет известно, двенадцать: быть поваром и носителем мешка, быть слугой и подносителем жертв, быть хлебопеком и конюхом, быть дворецким и подметальщиком, быть доверенным лицом и караванщиком, быть кофейщиком и привратником. Все пришлось исполнять Алаярбеку Даниарбеку, и лишь обязанности шейха – начальника – оставил себе беспокойный доктор...
На рассвете перекнул я через плечо хурджун и пошел на станцию. Проводы дервиша неприличны. Но дочке нашей, умнице Шафокат, я не мог запретить пройти со мной до угла. При всех своих совершенствах Шафокат не отличается послушанием. Считает она там всякие дервишеские предписания глупостью. На вокзале меня уже ожидал беспокойный доктор с билетом до Ашхабада.
На этом заканчивается первая запись в школьной тетрадке с таблицей умножения на голубой обложке.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Щенок нападает на тигра,
Птенец дерется с лисицей.
А в а з А т т а р
Голос звучал над рекой. Молодой голос. Он пел назло ветру и холоду, шуму воды и острым, колючим снежинкам вперемешку с песком.
Милая, схожая с солнцем,
Что же случилось? Что же случилось?
Блещешь ты дивных зубов белизною.
Что же случилось? Что же случилось?
Кызылкумский ветер нес из пустыни песок и снег.
Он отгонял весну и норовил выветрить весенние грезы из головы и сердца молодого парня, дерзко распахнувшего куртку на груди.
Никак парень не хотел признать, что еще своевольничает на реке северный ветер, что кругом, сколько глаза не щурь, нет и в помине не только красавиц, "блещущих дивных зубов белизною", но даже и живой травинки на берегу не найти.
Видавшая виды тельняшка пропускала струи – какие там струи – потоки сварливого, пронзительного ветра.
Желтая река морщилась под холодным дыханием пустыни. Желтые скользкие берега выползали рыбьими спинами из мути крученного и перекрученного в неистовстве шайтанского танца снега.
О железную палубу ветер даже скрежетал от злости. Железная палуба полыхала морозом. Ледяное железо кусало подошвы ног сквозь худые подметки. По желтой жиже реки медлительно плыло желтое ноздреватое сало. Аму-Дарья выглядела неуютно.
И если парень хотел согреть сердце стихами, ему надо было выбрать совсем другие стихи, а не стонать вместе с древним Атаи: "Что же случилось? Что же случилось?"
Петь бы ему сейчас что-нибудь знойное:
Пышут жаром полуденным объятия Аму,
Не страшись их! В пепел тебя не сожгут...
Такие строфы пел летом джирау – сказитель – на пристани в Турткуле. Сидел он на теплых досках причала, седой, как сама песня, и руки его, сжимавшие старенький кобуз, дрожали. И голос его, выводивший дрожащие трели, тоже трепетал комышинкой под дуновением горячего ветра, налетавшего из недр пустыни. Джирау пел, а Зуфар улыбался. Стыдно видеть смешное в старческой дрожи, в надтреснутой, слабенькой мелодии. Зуфар прятал в губах смех и нырял по-мальчишечьи с высокого помоста. Он плескался в прохладных глубинах омутов и водоворотов. Он не боялся. У него железные мускулы грузчика и железное здоровье степняка.
Он пришел на реку из Кызылкумов, чтобы стать лоцманом и штурманом. И совсем не потому, что на реке легче, а в песках труднее. В песках, среди барханов и соли, жизнь сурова. На Аму тоже суровая, трудная жизнь. Но река влекла блеском водных пространств. В реке так много воды, а в колодцах так мало, ничтожно мало. И в Аму-Дарье такая вкусная вода! Не то что соленая скудная вода колодцев. Восточного человека всегда мучит жажда. Его мечты всегда о воде.
Сначала Зуфар жил в пустыне. Много лет, просыпаясь по ночам, он видел черное небо с серебряными звездами. Много лет он с вершин барханов видел только такие же барханы, серые, желтые, красные. Много лет он странствовал со стадами по пескам от солончаков Кемирек-кум, что к северу от Бухары, до острова Атау на Аральском мелководном море. Он не мерил караванные тропы верстами и километрами. С детства отмерял он пути отар днями, неделями, месяцами.
До шестнадцати лет Зуфар, как и его отец, и дед, и прадед, был человеком пустыни. Он был скотоводом. Он разводил каракулевых овец, смушки которых ценнее золота. Зуфар делал золото из песка, из мертвой, сухой почвы Кызылкумов. Но он не знал, что делает золото. Он воевал с волками, со зноем, с жаждой, с зимним бураном, с бескормицей, с гололедицей, с песком. Он не знал ничего, кроме песка. Искалеченный саксаул с соляными листочками казался ему тенистым чинаром из волшебной сказки. Чуть сочащаяся струйка ключа где-нибудь в скудных горах Арслан-Тау порождала мечты о райских садах Ирэма. Само название гор Арслан-Тау – Львиные горы звало вдаль, будило мечты огромные, как огромен мир.
Случалось Зуфару поить стадо не соленой водой из колодца, а сладкой речной водой, когда пути перегона вдруг пересекала Аму-Дарья. Пока овцы с присербыванием, с хлюпаньем сосали всласть воду желтую и мутную, Зуфар, лежа наверху, на обрыве, отколупывал куски горячей глины и следил глазами, как они, шипя, исчезают в стремнине. И в душе его рождалась мечта.
Он мечтал о воде, об океанах воды, которые залили бы раскаленный мертвый песок, об океанах воды, которые потушили бы пекло пустыни.
Его отговаривали, над ним издевались, когда он сказал: "Пойду на Аму, поверну воду к нам в пустыню". Чабаны слушали его молодые, горячие слова и, хохоча, хлопали себя по ляжкам. Чабаны веселились: парень спятил, бросает спокойную чабанскую жизнь, лезет в воду. Долго ли нахлебаться воды и утонуть.
А Зуфар упрямо смотрел в огонь чабанского костра и твердил:
– Хочу пить вдоволь. Не по капле, не по пиалушке, а ведрами. Вдоволь! Мой дед Дадабай сердился: "В коране сказано – аллах справедливейший! Но погляди кругом, внук Зуфар, какой справедливый бог вздумал бы создать Кызылкумы во всем их безобразии! Море воды течет в Аму-Дарье по закраине пустыни, а рядом, в одном верблюжьем переходе от реки, мы дрожим, как бы наши бараны не передохли от жажды".
Зуфар бросил пустыню и пришел на Аму. Зуфар был упрям. Он не боялся объятий такой капризной и знойной, такой ледяной и коварной красавицы.
Старый джирау из Турткуля много пел о коварстве красавицы Аму. Но Зуфар только смеялся над стариком и его песнями. В Зуфаре кипели силы молодости. Тело его, молодое и сильное, не боялось ни воды, ни солнца, ни труда, ни пота.
Когда он пришел со своей мечтой из пустыни, река ошеломила его толчеей пристаней, бессонными ночами, обманными мелями, грубостью людей, голодовками, сквернословием... Другой ожесточился бы, бежал без оглядки. Но нелегко выветрить грезы из юной головы, из упрямой головы.
Палуба мокро дышала железом. Душа стыла. Поросший щетиной за недели долгого плавания подбородок шуршал инеем, сросшиеся на лбу брови белели камышовыми мохнушками. Озорные глаза и морозный румянец щек говорили: "Э, да ты не ровесник турткульского сказителя, ты совсем еще юнец". Молодым голосом Зуфар взывал к небесам, водам реки, к берегам:
Что же случилось? Что же случилось?
А случилось, что зимой река не покрылась даже тонким ледком. Навигация не прекращалась. Сердитый Андрей Палыч позвал в контору Зуфара и подозрительно оглядел его с головы до ног, от новенькой фуражки штурмана с золотым "крабом" до носков сапог. Андрей Палыч ни в чем не подозревал Зуфара. Просто всегда он так смотрел. Но взгляд его всех вгонял в краску, особенно молодых штурманов, влюбленных в свою форменную штурманскую фуражку и в свое новенькое, до глянца начищенное штурманское звание. Оглядев Зуфара и не найдя ничего, к чему стоило придраться, Андрей Палыч сунул ему в руку рейсовый лист.
– Есть! – выпалил Зуфар и только тогда заглянул в лист. Заглянул и зябко повел плечами. Лицо его вытянулось в обиженной гримасе. Спине сделалось холодно, побежали мурашки – противные, щекотные... На бензиновой барже вниз по плесу!.. Холодище, река в перекатах и туманах. Речные туркмены-эрсаринцы говорят: "В такую воду черепаха в брод Аму может перейти!" Нет, не таким себе представлял Зуфар свой первый рейс, не для того покупал сине-суконную фуражку с "крабом" и начищал до сияния сапоги у айсора-чистильщика на Ленинской улице...
Баржа с бензином!.. Вот тебе и раз!..
Он обиженно молчал.
– Снаружи чистенький, а зад драный... Не хочешь? Сдрейфил? – подыграл Андрей Палыч.
Еще в штурманских классах чабан Зуфар прозвал Андрея Палыча волкопсом. Водится в пустыне такое неприятное животное – помесь собаки с волком.
А Андрей Палыч вскинул свои неимоверные брови – лисьи хвосты – и еще игривее съязвил:
– Финтишь! А с чего тебя в штурманы (он произнес по-речному – "в штурманы") произвели, юноша? Выдвиженец! Сидел бы в матросах, что ли, или клопов в бараньих шубах давил...
Хотя клопы в бараньих шубах не водятся, Зуфар мучительно оскорбился. Зачем Андрей Палыч лезет? Чабаны тоже люди. Волкопес ты, Андрей Палыч, вредный волкопес, помесь собаки с волком!
Зуфар покраснел, как девочка. Стыдливый краснеет – бес стыдный бледнеет. Старый речной капитан презирал его. "Ничего из тебя, пастуха, не получилось", – твердили под лисьими хвостами волчьи глаза...
– За что... сразу по мозгам... Погода... Трудно... – выдавливал из себя Зуфар и краснел все больше.
– Вон оно что. Кошка любит молоко, да рыло коротко. Река, брат, не песочек в твоей степи-пустыне. Река, она, брат, когда ласковая, а когда чертом царапает... Мы вот волком травленные, а тоже знаем: на реке все трудно.
Зуфар мял в руках рейсовый лист, щеки пылали.
– Жаль, хвоста у тебя нет, – подбавил вежливо Андрей Палыч.
– Что, что?
– А то, что, когда щенкам хвосты отрубают, злее делаются.
Андрей Палыч запнулся. Он подбирал, чем бы уязвить побольнее.
Зуфар понял и выскочил в коридор.
Самолюбие у Зуфара хлестало через край. Он имел привычку взрываться порохом. Но со старым речным капитаном не повзрываешься.
Зуфар был упрям. Пошел на пристань и принял бензовоз.
Молодому штурману с романтикой в сердце и стихами на губах мечтается стоять за штурвалом парохода – белого лебедя, слушать с трепетом восторга эхо пароходных гудков в просторах реки. А здесь вонючая неповоротливая посудина, железный казан проржавевший. "Эх, черная как смола завеса мрака простерлась над головой несчастного..." Это тоже слова какого-то поэта. И несчастный, конечно, он, Зуфар, – молодой, красивый, в красивой фуражке штурмана с золотым таким красивым шитьем. "Отрубили ему голову безжалостным мечом зла". По молодости лет Зуфар вечно барахтался в пучине восточной вычурности и напыщенной красивости. "Стеная в душе и проклиная", он решительно вскарабкался по мазутным сходням на баржу и зло стукнул ногой в начищенном сапоге по палубе. Палуба угрожающе загудела. Потянуло бензином. Мечта о красивой жизни на реке столкнулась с... необходимостью возить бензин по реке. Бензовоз!..
Искал Зуфар утешения в стихах:
Что же случилось? Что же случилось?
Ветер пронизывает тело, стынет душа, снег и песок лезут в глаза, в рот, в уши, а он, молодой степняк Зуфар, лишь недавно назначенный штурманом Аму-Дарьинского речного пароходства, распевает под свист северного ветра нежные, горестные строфы поэта средневековья, нежного лирика Атаи:
Сердце горит... В этой горести лютой
Я об одном лишь молю: расскажи мне
Мир ты несла: что ж идешь ты войною?
Что же случилось? Что же случилось?
На Востоке каждый – поэт, плохой или хороший, но поэт...
Вопль своей души Зуфар обращал не к какой-то определенной красавице. Он вздыхал о красавице вообще. Возникала, правда, одна, нечто вроде розового облака с невозможными голубыми глазами, но только в мечте... Нет, сейчас Зуфар вообще бы предпочел, чтобы горело не сердце, а самая обыкновенная печка. Сидеть вплотную к раскаленной докрасна буржуйке, ощущать волшебство тепла, по глоточку пропускать в себя огненный чай, испытывать живительный ток по всем жилам...
Рай!
Да, если для мусульманина рай – прохладные источники в тени дерев, то для речного штурмана, плывущего по зимней Аму, рай умещается в тесной каютке с буржуйкой и чайником кипятка...
Но чая не было и не предвиделось. И Зуфару оставалось согревать себя поэзией.
На бензовозе нельзя разводить огонь, нельзя курить, готовить пищу, нельзя даже чиркнуть спичкой. Все это Зуфар знал. Еще с тех пор знал, когда плавал по реке простым матросом. Законы на бензовозе железные. Такие же железные, как ледяное железо палубы...
Зуфар злился.
Обычно, когда команде бензовоза делается невмоготу, можно причалить к берегу, отойти в глубь тугая, развести огонь, – погреться чайком. Но так поступали обычно, а сейчас совсем не обычные времена.
Зуфар оборвал на полуноте песню, совсем не поэтично выругался, вскочил и пошел по скользкой, дышащей холодом и бензином палубе проверить якорь. Уже сутки баржа стояла на якоре. Буксир ушел еще вчера искать фарватер и исчез.
Если плывешь уже семнадцатый день? Если ежечасно застреваешь на перекатах? Если холод забрался внутрь костей? Если тошнит от вяленой баранины? Если мутная вода обжигает внутренности морозом?
Терпи!
Матросы осатанели. Слабые они люди. Отказываются работать и плачут. В самом деле плачут... Капитан свалился – не то в лихорадке, не то от старости – и лежит на койке, укутавшись во все, во что можно укутаться. Стар капитан Непес. Много, бесконечно много ему лет. Отличный, прославленный капитан Непес. Он водил каимэ – парусные корабли – по реке, когда еще о русских не было ни слуху ни духу, когда амударьинцы-речники и в воображении представить не могли, что это такое – пароход. Мудрый, опытный капитан Непес, крепкий телом, неутомимый духом, но и он свалился, не выдержал. А вдруг и Зуфар не выдержит? А вдруг и он свалится? Временами ему казалось, что нож холода дошел до сердца.
Надо пристать к берегу...
Нельзя приставать...
Они стоят сейчас на якоре на траверсе Хазараспа. Какие в Хазараспе шашлыки! Какая шашлычная у шашлычника Тюлегена Поэта! Какой горячий чай! Как тепло в шашлычной, даже когда с Арала тянет холодом. Зуфару ли не знать про хазарапский шашлык и чай, когда он, Зуфар, много раз бывал в чудесном древнем хорезмском городе Хазараспе!
После стольких дней плавания в туманах и сидения на перекатах не грех и пристать к берегу, поесть горячего, погреться у очага.
Зуфар потянул носом воздух и даже зажмурил глаза. Чего только не делает холод. Нос ощутил запах дыма и... шашлыка, бараньего шашлыка, подрумяненного, с хрустящей корочкой, с острым лучком, с уксусом, с красным перцем... Райский запах шашлыка! Тюлегена, наверное, и Поэтом прозвали за то, что его шашлык совсем как стихи.
Но в воздухе стоял запах лишь бензина и железа. И Зуфар снова выругался. С трудом разгибая и сгибая одеревенелые ноги, он поплелся в штурвальную.
Рай лежал где-то за стеной снежно-песчаного бурана. Рай с шашлыком, с Тюлегеном Поэтом, с крепким чаем, с теплом жилья...
Но нельзя и думать о высадке на берег... Неспокойно в песках... Говорят, калтаманы* Джунаид-хана вновь прорвались из-за рубежа в Советскую страну. Снова Джунаид-хан на границе Хорезма, снова вылез из Черных песков.
_______________
* К а л т а м а н – разбойник, бандит.
Кулаки у Зуфара сжимаются. И не потому, что он с малых лет ненавидит самое имя Джунаид-хана, отравившего на полвека жизнь каждой семье в Хорезме. Нет, когда так холодно, когда ты весь закоченел, ты ненавидишь не вообще... И Зуфар сейчас мысленно клянет Джунаид-хана и его свору калтаманов за то, что они мешают ему вкусить от хазараспского рая, мешают погреть душу и тело, мешают поесть горячего и напиться чаю досыта...
В штурвальной лоцман Салиджан непослушными закоченевшими руками держался за штурвал. Держался по привычке, хоть и знал, что все равно, пока не вернется пароход и не возьмет баржу на буксир, лоцману у штурвала делать нечего.
Сухопарый, жилистый Салиджан совсем сник. Вцепившись руками в штурвал, он подпрыгивал на месте, пытаясь согреться. Салиджан кашлял, на всю баржу кашлял. Всегда лихо торчавшие стрелками усы его беспомощно обвисли и мотались мышиными хвостиками. А опрятная обычно белая с синими полосами тельняшка потемнела. Не разберешь, где синее, где белое. И руки Салиджана прыгали странно на рукоятках штурвала. Малярия, что ли, забрала лоцмана? На реке у многих малярия.
– Отдохнули бы, – сказал Зуфар.
– Что ты! Сейчас большой перекат, – задребезжал голос Салиджана.
Зуфару сделалось еще холоднее. Неужели Салиджан ума решился? Какой перекат? Баржа стоит на якоре, тихо ворочаясь на месте в каше из битого льда.
Глаза у Салиджана покраснели. Последние дни он плохо видел и вел судно больше наугад. Ничего не мог Салиджан разглядеть слезящимися глазами. Не различал, где светлые, где темные струи, по которым лоцманы угадывают фарватер, где прозрачная вода, чуть прикрывающая опасные отмели, где густая, кофейная на глубине стремнины...
От стыда Салиджан даже взмок. Понадобилось этому желторотому штурману притащиться. Салиджан злился на Зуфара, на реку, на свою внезапную слепоту.
– Воды совсем мало, – засипел он, высвободив рот из тряпок, которыми он обвернул шею. – Куда вода подевалась? И где буксир?.. Я не вижу буксира.
Испуг у Зуфара прошел. Просто Салиджан заболел. Жалкая истрепанная стеганка лоцмана щерилась клочьями ваты. Из-под потертой корсачьей шапки смешно торчал большой мокрый нос и шевелились тощие усики, заблудившиеся в щетине давно не бритого подбородка. Совсем Салиджан не был похож сейчас на прославленного лоцмана, имя которого с уважением произносили от Кипчака до Бурдалыка. О Салиджане почтительно говорил даже брюзгливый Андрей Палыч, капитан, гроза лоцманов. Салиджан кашлял и сморкался. Он смахивал на облезшего щенка, запутавшегося в камышах, а не на лоцмана. Но Зуфар и не подумал сказать это, а только – и притом не без робости – отцепил осторожно руки Салиджана от штурвала и уложил его, накрыв тулупом, тут же на скамье в рубке.
На что уж привычен был Зуфар, но, едва он переступил порог капитанской каюты, его качнуло. В ней бензиновая вонь стояла колом.
– Надо вас вытащить отсюда, – сказал он, обращаясь к груде одеял на койке. – Надо вам глотнуть чистого воздуха.
Но одеяла молчали. Зуфар осторожно заглянул под них. Капитан Непес то ли спал, то ли впал в забытье. В лицо Зуфару пахнуло жаркой кислятиной. Непес заболел вскоре после отплытия из Чарджоу. Он поскользнулся на обледеневшей палубе и разбередил старую рану. Добрых полвека, еще со времен речных пиратов, у него в животе сидела круглая пуля от мултука. Во времена эмирата ни один каюк безнаказанно не мог пройти мимо Чакыра и Пальварта. Из камышей выплывали на бурдюках эрсаринцы в своих рыжих папахах и бросались грабить купцов, везших товары из Афганистана в Чарджоу.