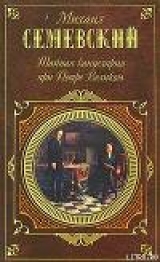
Текст книги "Тайная канцелярия при Петре Великом"
Автор книги: Михаил Семевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)
По стенам висели разные аллегории. Тело охраняли двенадцать капитанов в черных кафтанах, длинных мантиях, с черным флером на шляпах и с вызолоченными алебардами; на длинных концах флера, обвязанного вокруг них, висели маленькие щиты с вензелем и гербом царицы. У дверей стояли гренадеры, со штыков их ружей также спускался флер. Над телом поочередно отчитывали двое священников… Все делалось как нельзя более чинно, стройно и хорошо. Порядок не был нарушен плакальщиками, стонами и воплями толпы челядинцев, приживалок покойной, так как подобные завывания и причитывания над умершими строжайше были запрещены Петром в 1716 году, при погребении царицы Марфы, вдовствовавшей супруги Федора Алексеевича.
Прежнее распоряжение везти тело водой было почему-то отменено государем в самый день погребения. Процессия началась в три часа пополудни 22 октября. Когда в передней комнате в доме покойной собралась вся знать и приехала царская фамилия, разнесли всем глинтвейн; после чего все перешли в большую траурную залу, где и отслушали панихиду; ее служило все знатнейшее духовенство. Било четыре часа, когда вынесли тело из дому и длинная процессия медленно потянулась по оледеневшей, до такой степени скользкой грязи, что все с трудом передвигали ноги, ежеминутно рискуя упасть и вывихнуть ногу либо свернуть шею. Ни ружейной, ни пушечной пальбы не было, но колокола всех церквей столицы загудели по сигналу спущенных ракет.
Шествие открывал гвардии поручик с восемнадцатью унтер-офицерами; они держали на плечах тесаки, с которых спускался длинный флер. За ними шел первый маршал Румянцев во главе всех гражданских и военных чиновников; все они шли по старшинству, по трое и четверо в ряд. За ними должны были идти иностранные министры, но они, во избежание споров о местах, не явились; герцог Голштинский шел со всем своим двором, принцами Гессен-Гомбургскими, с двумя вице-адмиралами и генерал-лейтенантами Ягужинским и Минихом. Далее двигался большой хор императорских певчих и духовенство с зажженными свечами; за другим маршалом, Мамоновым, выступал Матвеев с царской короной на подушке; прочих регалий и знаков не было; двенадцать полковников шли в качестве носильщиков, однако тело не несли, а везли на открытой черной колеснице, на которой для большего парада гроб был поставлен очень высоко; с него спускался до земли черный бархатный покров, обшитый серебряными галунами. В колесницу впряжена была шестерка больших, как следует завешанных лошадей; шесть майоров несли фиолетовый бархатный балдахин, вокруг шло двенадцать капитанов-алебардистов и столько же поручиков с большими свечами.
Маршал Аллар с громадным жезлом открывал третье отделение шествия: его составляли траурные. То были: император, ведомый Апраксиным и Меншиковым, герцогиня Мекленбургская Катерина Ивановна в глубочайшем трауре, с совершенно закрытым лицом; ее вели под руки обер-полицмейстер и Андрей Иванович Ушаков, шлейф несли четыре прапорщика гвардии; в таком же трауре шла Прасковья Ивановна, поддерживаемая контр-адмиралом Сенявиным и генерал-адъютантом Нарышкиным, шлейф несли унтер-офицеры. Императрица также была в трауре, с закрытым лицом, равно как и остальные дамы ее свиты. До полутораста унтер-офицеров и солдат с зажженными факелами вытягивались по сторонам; воинская же команда замыкала шествие.
Оно подвигалось крайне медленно. Царевна Прасковья, за ней императрица, герцогиня и все дамы сели в кареты; мужчины шли пешком, скользили, выступали, кок гуси по льду, и страшно мерзли. Более двух часов двигалась процессия. Ее встретили у ворот обители все монахи и духовенство; полковники торжественно внесли гроб в церковь. Здесь молодой священник почти целый час говорил проповедь; это, вероятно, был панегирик умершей царице и, во всяком случае, нельзя не пожалеть, что интересное для биографии царицы Прасковьи слово не сохранилось для потомства. По обыкновенном служении архиепископ Новгородский, а за ним и все духовенство облобызали руку покойной; к ней же подвели царевен, они громко рыдали; государыня поцеловала невестушку в губы; затем начались прощания всех предстоявших; за целованием государя положили на лицо покойной портрет ее супруга, зашитый в белую объярь, заколотили гроб и опустили его в могилу пред алтарем, в Благовещенской церкви.[44]44
Царице Прасковье судьба привела почивать в общем склепе со «свет-Ка-тюшкой» (умерла 24 июня 1733 г.) и ненаглядной внучкой Аннушкой, которой суждено было так много выстрадать в злополучной и кратковременной жизни (погреб. 1 марта 1746 г.); в той же церкви могила сестры царицы, княгини Настасьи Ромодановской (ум. 2 сент. 1736 г.). (Прим. автора.)
[Закрыть]
В доме покойной совершены были по обычаю поминки; государь просидел за столом до 11 часов ночи. Дня два спустя была страшная попойка у герцога Голштинского; на дворе императорского дома начались пытки, несколько знатных персон рассажены были под стражею за какие-то «государственные противности»; их ежедневно водили в цепях в присутствие Сената… все, одним словом, пошло обычной колеей.
«Свет-Катюшка», как и надо было ожидать по ее характеру, скоро очень развеселилась; она уверяла, что причина ее веселости заключается в добрых вестях о благоверном супруге: дела его будто бы поправлялись, в Данциге с ним вели переговоры уполномоченные австрийского императора и английского двора; Петр также отправил туда курьера.
Братец покойной, Василий Федорович Салтыков, хлопотал о раздаче монастырям и нищей братии, на помин о душе Прасковьи, милостыни, а государь приказал все дела царицы привести в надлежащий порядок, представить смету долгов, удовлетворить кредиторов, положить штаты царевнам, позаботиться об оставшихся больных, увечных и престарелых ее служителях.
Долгов у старушки оказалось немало. Прасковья до такой степени не умела заправлять своими достатками, что, постоянно нуждаясь в деньгах, закладывала даже вещи; император приказал Федору Воейкову позаботиться о выкупе этих закладов. Выкуп продолжался еще и в 1724 году; так, от 3 апреля сего года мы находим указ государя Дмитриеву-Мамонову о заплате денег строителю Бурнашеву за заложенные у него царицей каменья и жемчуг.
На погребение царицы употреблено было 624 свечи, всего сожжено воску 6 пудов 11 фунтов, по разным ценам на 73 руб. Берг-коллегия потребовала этих денег от наследниц Прасковьи; но управитель их отвечал, «что денежной казны в присылке из вотчин их высочеств не имеется, а понеже те восковые заводы заведены из кабинета его величества, и чтоб тех денег на комнате их высочеств не спрашивать, ибо те свечи употреблены на погребение ее величества государыни царицы».
Государь повелел поставить свечи на кабинетский счет. В Кабинет его поступило, по случаю распорядка дел Прасковьи, много челобитень разных лиц об удовлетворении их следуемыми им деньгами, получки которых они никак не могли добиться от царицы. В числе челобитчиков был и воспитатель дочерей Прасковьи Стефан Рамбурх. «В прошлом 1703 году, – писал между прочим француз, – зачал я по указу со всякою прилежностью танц учить их высочествам государыням царевнам, племянницам в. и. величества, которым служил до 1708 году и того пять лет. А за оные мои труды обещано мне жалованья по 300 рублев на год, к чему представляю во свидетели господ Гуйзена и Остермана, которые тогда их высочествам и немецкой язык учили. Однако ж принужден после десятилетних моих докук в Москве, дом мой оставить. И приехав в Петербург, непрестанно просил о выдаче моих денег ее величество блаженной памяти государыню царицу, которая изволила ото дня до дня отлагать. А после смерти ее величества бил я челом ее высочеству, государыне царевне герцогине Мекленбургской, которая не изволила ж мне никакое удовольствование учинить…»
Вследствие чего Рамбурх просил государя выдать заслуженные им 1500 рублей, чтоб верные труды вотще не остались, и ему, Рамбурху, «при глубокой его старости, с великою фамилиею возможно было пропитаться, непрестанно Бога моля о здравии государя и всего августейшего дома».
Государь внял мольбам. Француз получил следуемые деньги, кроме того, годовой оклад и, обрадованный милостями, не замедлил ударить новой челобитной. Как истый француз, он жаждал – чина! С упреком ставил он на вид то обстоятельство, что «францужанин не возмог от царевен никакой уплаты трудам своим получить», а, между тем, ему принадлежит честь «обучения их высочества зачалу или основанию французского языка». Учитель просил какого-нибудь чина, который, по его уверению, нужен был для упрочения и вящего обучения двух его сыновей во Франции «таким наукам и художествам, какие его величество повелит, чтобы с своим возвращением в Россию возмогли бы достойно явиться в службу и с пользою могли бы быть употреблены».
Неизвестно, получил ли желаемый чин докучливый француз, но, во всяком случае, справедливый упрек его Катерине Ивановне теряет силу, когда знаешь расстроенное положение ее финансов. Она сменила казначея Тихменева, старинного врага Деревнина, но дела от этого не улучшились. Секретарь Арцыбашев, которому государь вместе с другими поручил рассмотреть приходо-расходные сметы комнаты их величеств, никак не мог добиться толку, куда делась та или другая сумма, выданная покойной царице из Кабинета и не введенная в расход.
Оклад царевен Катерины и Прасковьи в 1723–1724 годах был следующий: в год на две комнаты отпускалось 9000 руб; на четыре комнаты, за конские кормы, за дрова и за починку карет – 3203 руб. 84 к.; чиновным, боярыням, казначеям, постельницам, девицам, истопникам, сторожам, крестовым дьякам, портомоям и портомоянным сторожам – 953 руб. 60 к. Дворовым, конюшенным и верховым людям – 1740 руб. 73 1/2 к., итого на оба двора царевен в год шло – 14 898 руб. 17 1/2 коп.
В смете на 1725 год последовали некоторые перемены, но не к увеличению, а, напротив, к уменьшению оклада; на две комнаты царевен отпущено было на год на конские кормы, на дрова и починку карет – 1601 руб. 92 коп.; чиновным служительницам и крестовым дьякам – 476 руб. 80 коп., дворовым и конюшенного чина людям – 870 руб. 36 1/2 коп.; да на рожь и овес – 3380 руб.; итого 6329 руб 8 1/2 коп.
Единственный и любимый брат царицы Василий Салтыков не присутствовал на похоронах сестры и, получив известие об ее кончине, сильно опечалился. Обе племянницы написали ему в один и тот же день – 19 ноября 1723 года – утешительные и буквально одинаковые письма:
«Василий Федорович! Уведомились мы, что вы от болезни своей нетокмо (не) выздоровели, но и еще болезнь вам прибавилась; а к тому ж зело печалитесь о кончине государыни нашей матушки. Правда, что ее печаль зело чувственна нам всем: однако ж тому уже помочь невозможно, только что здоровье свое можете повредить. К тому ж, как мы слышим, что вы намерены ехать сюда к нам, и то свое намерение, конечно, извольте отложить и сюда не ездите, ибо мы надеемся, что сами в Москве будем. Пожалуй для Бога не печальтеся, хотя для нас. Царевна Прасковья».
Катерина Ивановна в своем письме несколько изменила только последнюю фразу: «Пожалуй, дорогой мой, не печалься. Ц. Екатерина».
Сама же герцогиня, хотя писала, что «сия печаль зело чувственна нам всем», но, по свидетельству ее любимца камергера Берхгольца, скоро утешилась.
Все хлопоты по разделу имущества и имений царицы Прасковьи пали на одну младшую дочь ее, Прасковью Ивановну. Царевна, как и все русские того времени, не представляла себе (и не без основания), что возможно хлопотать о каком-либо деле, не раздавая направо и налево взяток, начиная с высших лиц и кончая последним подьячим. Она прежде всего стала давать взятки приближенным императрицы, как это оказалось впоследствии из ее собственных показаний в процессе Виллима Монса. Сестру его, Матрену Ивановну Балк, она жаловала полотном и запасами; Виллима Монса, кроме посылки съестных припасов, наградила псковскими деревнями «для того, – объясняла царевна, – што все в нем искали штобы (был) добр». Награждала она и Столетова, секретаря Монса, за то, «чтоб он приводил Монса, а тот государыню императрицу, чтоб та ее содержать в милости своей изволила и домашнее бы им (царевнам) определение учинила». Просила также Прасковья Ивановна о себе и сестре князя Меншикова и его жену, писала почтительные родственные письма во дворец и т. п.
Что-то робкое и загнанное проявляется в действиях царевны Прасковьи и проглядывает в ее письмах. Таков даже тон указов царевны управителю Осеченской волости Калмыкову и старосте ее новгородских волостей Петру Фирсову о присылке живности, припасов и денег. Во всем этом оказывался постоянный недочет. Никто не чувствовал почтения к бедной царевне. Даже покойная царица Прасковья Федоровна относилась с пренебрежением к хворой безличной дочери и этим еще более обезличивала ее. Оставаясь долгие годы неразлучно при крутой и суровой матери, царевна мало-помалу привыкла к рабскому подчинению ее воле и утратила всякую самостоятельность. Гнет прекратился со смертью матери; герцогиня Мекленбургская не была способна притеснять кого бы то ни было; теперь Прасковья Ивановна могла говорить и поступать как угодно; но уже было слишком поздно – царевне пошел 30-й год; в этом возрасте уже не изменяются люди.
Мы видели, как скоро утешилась Катерина Ивановна, не долго тосковала по матери и сестра ее, Прасковья. Иноземные писатели свидетельствуют, что она тайно обвенчалась с Иваном Ильичем Дмитриевым-Мамоновым, генералом и сенатором. Тайный супруг царевны Прасковьи был одним из главных действователей при составлении того акта, которым герцогиня Курляндская Анна Ивановна призывалась на всероссийский престол с ограничением самодержавной власти, но ради жены своей не только не подвергся опале, но снискал милости новой государыни. Он недолго пользовался ими: Мамонов умер скоропостижно в 1730 году. Прасковья немногим пережила любезного ей супруга; она скончалась на руках сестер в 1731 году.
Нелюбимая дочь царицы Прасковьи Федоровны, Анна Ивановна, в 1723 году находилась в Курляндии. Ей не удалось проститься с матерью; она даже не тотчас узнала об ее смерти, потому что еще в письме своем от 18 октября того же года просила императрицу о дозволении приехать в Петербург для свидания с матерью, когда последней уже не было на свете.
Анна Ивановна приехала в Россию с небольшой свитой в марте 1724 года на коронацию императрицы Екатерины Алексеевны и опять вернулась в Курляндию в конце августа. Но прошло еще шесть лет; много перемен произошло в России: скончались Петр Великий, Екатерина I, похоронили в Московском Архангельском соборе Петра II, и герцогиня Курляндская, помимо других наследников, провозглашена была императрицей Всероссийской.
15 февраля 1730 года совершился торжественный въезд императрицы Анны Ивановны в Москву.
Прощаясь с героями и героинями нашего рассказа, забудем ли Василия Федоровича Деревнина, благодаря жжению которого мы познакомились с некоторыми особенностями характера благоверной старушки? К сожалению, сведения наши об окончательной судьбе копченого стряпчего крайне неудовлетворительны: 24 сентября 1724 года, т. е. два года спустя после объяснения Прасковьи со стряпчим-казначеем, государь, удосужившись прочесть экстракт его дела, приказал генеральному суду либо принять Деревнина под свой караул, либо отослать его в Юстиц-коллегию. Надо думать, что в октябре того же года состоялось о нем какое-либо распоряжение, так как дело сдано было (24 октября) на хранение в Тайную канцелярию, в картонах которой оно находится и в настоящее время.
Получил ли Деревнин свободу или отправлен для отвращения дальнейших проволочек (что случалось зачастую) в Сибирь «на государеву службу» – неизвестно.
В заключение нашего историко-биографического очерка выскажем уверенность, что личность блаженной памяти благовернейшей государыни царицы Параскевы Феодоровны обрисовалась пред нашими читателями. До сих пор мы встречали эту женщину в наших печатных источниках в списках лиц, участвовавших в той либо другой процессии, либо читали два-три слова о внимании и расположении к ней Петра Великого. Затем она все-таки оставалась каким-то бесплотным, бесцветным существом, с именем которого мы не соединяли ни малейшего понятия: Прасковья представлялась нам такою же безличною тенью, какою до сих пор остаются в истории Петра большая часть его сподвижников и сподвижниц.
Мы убеждены, что для полной истории того времени, для ясного, отчетливого знакомства с обществом, с духом той эпохи, с обстановкою Петра, необходимо более или менее близкое знакомство не только с государственными деятелями, сподручниками, «птенцами» Петра, но и с теми мужскими и женскими знатными и незнатными персонами, которым выдалась заметная роль в общественной жизни, которые, наконец, могут служить типическими представителями и представительницами своего времени и тогдашнего общества.
Царица Прасковья – именно одна из таких личностей. В ней мы видим женщину допетровскую, с суевериями, предрассудками и ханжеством, и женщину петербургской преобразовательной эпохи, с уменьем применяться к обстоятельствам, к характерам влиятельных лиц, с известными уступками современному духу в обучении детей, в препровождении времени, в забавах, развлечениях; наконец – и это всего важнее, – личность царицы Прасковьи интересна для нас уже потому, что она мать императрицы Анны Ивановны. История Анны – в связи с подробностями всей ее жизни (если мы дождемся такового труда) – ни в коем случае не обойдет царицу Параскеву Феодоровну.
Прислушайтесь к отзывам современников об Анне Ивановне. Анна, по свидетельству одного из них, «не имела блистательного разума, но имела сей здравый рассудок, который тщетной блистательности в разуме предпочтителен. С природы нраву грубого… грубый природный обычай не смягчен был ни воспитанием, ни обычаями того века, ибо она родилась во время грубости России, а воспитана была и жила тогда, как многие строгости были оказуемы; и сие учинило, что она не щадила крови своих подданных и смертную мучительную казнь без содрогания подписывала… Не имела жадности к славе, и потому новых узаконений и учреждений мало вымышляла, но старалась старое учрежденное в порядке содержать… Не можно оправдать ее в любострастии, ибо подлинно, что бывший у нее гофмейстером Петр Михайлович Бестужев имел участие в ее милостях, а потом Бирон и явно любимцем ее был, но наконец при старости своих лет является, что она его более яко нужного друга себе имела, нежели как любовника».
Подобные отзывы об Анне Ивановне, рассказы о ее суеверии и проч., живо представляют нам сродство ее характера, привычек, даже взглядов на вещи с характером, достоинствами и недостатками ее матушки. Влияние царицы Прасковьи Федоровны не могло не отразиться на развитии ее дочери, императрицы Анны Ивановны.
«СЛОВО И ДЕЛО»
I. Тайная канцелярия при Петре Великом в 1720–1725 годах
1. ВведениеВершенные дела Розыскных дел тайной канцелярии (полное развитие которой, бесспорно, принадлежит Петру Великому) представляют неисчерпаемый, драгоценнейший материал для знакомства с духом времени, с законодательством его эпохи, со сподвижниками великого монарха, а главное, – с обществом, с русским людом того времени.
В самом деле, за громкими и славными победами Петра, за дивным основанием пышного города на тряских болотах, в пыли, поднявшейся при ломке всего старого, за пристройками и постройками нового здания, пышными декорациями всевозможных учреждений, пересаженных с иноземной почвы, мы решительно не видим того народа, ради которого делалось все это.
Где же он, со своим своеобразным взглядом на вещи? Что не слыхать его толков и рассуждений по поводу преобразований? Как принимает он тот либо другой указ, что толкует он об этом нововведении, о начатой войне, о заключенном мире, о казнях стрельцов, о заточении царицы Авдотьи, о казни царевича Алексея, о лютых истязаниях сотен людей, его явных и тайных сторонников и согласников? Как принимает этот народ указы о перемене одежд, нравов и обычаев, освященных давностью и духовными властями? Как принимает этот народ вести о неудачах царских, о его немощи; насколько он понимает его великие идеи, насколько сочувствует им?…
Находим ли мы ответы на нескончаемый ряд подобных вопросов хоть у кого-нибудь из длинной фаланги писателей о Петре и петровской эпохе? Заглянем в сочинения Крекшина, в дневники и записки Нащокина, Гордона, Гизена, Желябужского, Корба, Неплюева, в сочинения и записки Бергмана, Галема, Шотлея, Мовильона, Феофана Прокоповича, Рабенера, Туманского, Катифора, Феодози, Коха, Шелля, в достопамятные сказания Штелина, в толстые тома Голикова, Устрялова, в рассказы Вольтера, Леклерка, Левека, Полевого… Ну, да пересмотрите хотя все сочинения о Петре, какие только собраны (а их несколько шкафов) просвещенным начальством Императорской публичной библиотеки. Что ж? Много ли вы найдете в них ответов на наши вопросы? При вашем пересмотре вы найдете более или менее искусные рассказы о дипломатических сношениях дворов, о походах, битвах, осадах, о постройках крепостей, городов, о путешествиях, празднествах, увеселениях, нередко о всякого рода казнях, наконец, зачастую встретите длинные рассуждения авторов о нравах, об обществе того времени, о важности либо вреде того либо другого указа. Большинство этих творцов записок, рассуждений, историй, обзоров, повествований, взглядов и т. п. произведений падает в прах пред великим Преобразователем, с умилением лобызает его державную руку, дивится его гению, превозносит его величие… меньшинство же пускается в насмешки, доходящие до брани, нередко ни на чем не основанной.
За всем тем вы почти нигде не видите русского человека петровского времени. Мало того, вы не видите даже главных деятелей эпохи иначе, как либо поставленных на высокие ходули, так что шапка валится с головы при одном взгляде на «сии знатные персоны», либо персоны эти брошены в грязь, так что на них не видать лица человеческого…
Но оставимте великих людей. Для них есть историки искусные, патентованные… Нет, мы хотим ограничиться людьми «подлой породы»; мы хотим сойтись сколь возможно ближе с мелким людом того времени. Ведь эта мелочь, эта забытая историками толпа – основание картины, ведь без нее она мертва, она не имеет смысла!..
Ради этого знакомства мы поспешим зайти в келейку тогдашнего затворника, пройдем путем-дорогой со странником да странницей в дальнюю пустынь, побеседуем с отцом-монахом о грозных небесных знамениях, о тайных видениях, смущающих его и наяву и во сне… Пошепчемся «без утайки», тем не менее за затворенною дверью, с боязливою оглядкою, со стариком раскольником о немецком оборотне, о том, что пришел антихрист, что рушит и валит он все направо да налево – и близится, близится падение матушки-Руси, а с ней и всего грешного мира… А вот кабак – то «царское кружало». На многих из них мы видим портрет великого монарха; мы не пройдем мимо приюта радости и горя русского человека. Не побрезгаем. Сядемте да выпьем кружку хмельного пивца либо стаканчик винца… Не бойтесь, мы не потеряем время; вот этот мужичок сообщит нам «под утайкой» весьма важную новость: пришли, мол, тучи-тучей цесарские корабли, требуют-де они либо великого князя, либо изменников, погубивших царевича (см. далее 2-й рассказ); а то вот и хохол, простодушный малоросс, чокнемся с ним – он поговорит о новом титуле, принятом государем, об императоре Всероссийском, досконально объяснит свой взгляд на этот предмет (4-й рассказ).
Вот ссорятся пьяный муж с женой (6-й рассказ), бранится «вельми шумны» подьячий (7-й рассказ), орет подгулявший старец, отче Антоний (9-й рассказ); кричит «слово и дело!» солдатская женка Ирина (5-й рассказ); в тиши ночной, на нарах, ведут зазорный разговор «школяры», представители тогдашней учащейся молодежи (см. далее 16-й рассказ), и проч., и проч., и проч. Остановимтесь, послушаем. Они пьяны, говорят «вне ума»; но ведь недаром же сложилась на Руси пословица: «Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме». Недаром же ведут их за те речи «непотребные» в вертепы Розыскных дел тайной канцелярии… Если бы никто не находил в тех словах смысла и значения, зачем же вести болтунов на пытку, под кнут, на эшафот…
Кто же доставил нам знакомство со всем этим людом, до сих пор почти всегда забываемом исследователями петровской эпохи? Вершенные дела Розыскных дел тайной канцелярии.
Доносы, подметные письма, справки, отношения, промемории, частные письма, допросы, показания, очные ставки, застеночные документы, объявления, приговоры – что ни лист в них, что ни страница, то, будьте уверены, новая черта для обрисовки нашей картины. Здесь мы найдем целые биографии лиц самого разнообразного рода жизни, сословий, возрастов и пола; здесь мы отыщем рассказы об обычаях и поверьях этих людей, отсюда узнаем их задушевные мысли, их скорби о прошедшем, негодованье на настоящее, затаенные надежды на лучшее будущее…
А это что за люди, по другую сторону? Пред кем стоят наши новые знакомые, наши рассказчики?
Те люди – важные сановники, то сподвижники Преобразователя. Они передовые люди – им выпала слава и честь вести вперед дорогую Отчизну. Но здесь не подходите к ним, не мешайте – они заняты делами, по тогдашнему воззрению, первой важности… В этих мрачных и затхлых застенках они допрашивают, они записывают показания, они грозят подсудимым, они весело болтают меж собой, они разыскивают о государственных противностях…
Тс… Тише… Слышите эти вопли? Кого-то пытают… Выйдем поскорей на чистый воздух, да и, кстати, поговорим о допросах с пристрастием.
Последнее время в различных исторических разысканиях, с легкой руки академика Устрялова и с его тяжеловесного VI тома «Истории царствования Петра», мало-помалу начали обнажаться темные углы, мрачные стороны великого царствования. До сих пор, ослепленные блеском всего великого, гениального, смелого, героического в деяниях Петра Великого, мы (говорю о некоторых) с отвращением стали приглядываться к изнанке этих деяний и, не успев еще хорошенько приглядеться, испугались и закричали: к чему это, для чего, что пользы в том, что нам стали рассказывать да показывать! Вот, например, пытки – для чего нам знать, что они были, для чего рассказами об этих зверствах класть пятно на великое имя, на славное время? Разве в других государствах было лучше?… Разве… И т. д.
О пользе исследований, не обходящих темные углы истории, мы не станем трактовать; это увлекло бы нас слишком далеко, да и мы, по обыкновению обегая голословные рассуждения, спешим перейти к фактам – к цели и содержанию настоящих очерков; но не можем обойти последней заметки: мы не понимаем, почему именно в пытках находят какой-то упрек времени, лицам, обществу, а прежде всего – упрек Петру? Для чего отворачиваться от страшных подробностей и упрекать тех, кто по мере сил и возможности решается приподнять доселе опущенную над ними завесу? Ведь рано или поздно надо же будет узнать истину; ведь из того, что действительно было, – ничего не выкинешь. Для чего же только внукам да правнукам нашим предоставить право знать историческую истину петровской эпохи во всей ее наготе, а самим закрыть глаза и наивно повторять высокопарные, надутые фразы историков? Неужели же полтораста протекших лет мало, чтобы дерзнуть наконец стряхнуть пыль с прошедшего?… Пытки… Пытки были неотъемлемою принадлежностью тогдашних судопроизводств; были они в России и еще утонченнее, если хотите, еще ужаснее были в Европе. Осуждать за них Петра Великого – все равно, что осуждать его за то, что он не имел того гуманного взгляда на человеческое достоинство, какое явил Александр I, обнародывая 27 сентярбя 1801 года знаменитый указ против пыток. Точно так же негодовать на сподвижников Петра – все равно, что желать, чтобы князья Федор Юрьевич и Иван Федорович Ромодановские, Петр Алексеевич Толстой, гг. Скорняков-Писарев, Андрей Иванович Ушаков с товарищи, деятели 1700-х годов, походили бы на Мордвинова, Сперанского, Строгановых, Воронцовых (Семена Михайловича и Михаила Семеновича), Кочубея, Н. Румянцева, Новосильцева, Витгенштейна, А. Шишкова и других доблестных сподвижников Александра I. Притом петровские пытки были игрушками против тех разнообразнейших истязаний, какие выработала цивилизованная Европа… Из следующего документа прошлого столетия совершенно ясно видно, как немногосложен был «обряд, како обвиненный пытается». Обряд этот был у нас во всей силе в продолжение всего XVIII века до времен Александра I.
Обряд, како обвиненный пытается
«Для пытки приличившихся в злодействах, зделано особливое место, называемое застенок, огорожен полисадником и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей подьечей; и, в силу указу 742-го году, велено, записав пыточные речи крепить судьям, невыходя иззастенка.
В застенке же для пытки зделана дыба, состоящая втрех столбах, некоторых два вкопаны вземлю, а третий сверху, поперег.
Икогда назначено будет для пытки время, то кат или палач явится должен взастенок с своими инструментами, а оные есть: хомут шерстяной, хкоторому пришита веревка долгая; кнутья, и ремень, которым пытаному ноги связывают.
По приходе судей взастенок и по разсуждении в чем подлежащего к пытке спрашивать должно, приводитца тот, которого пытать надлежит, и от караульного отдаетца палачу; который долгую веревку перекинет чрез поперечной в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их вхомут, чрез приставленных для того людей встягивается дабы пытаной на земле не стоял. У которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит; потом свяжет показанным выше ремнем ноги и привязывает к зделанному нарочно впереди дыбы к столбу; и растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивает о злодействах и все записывается, что таковой сказывать станет.
Есть ли ж не подлежащих к пытке такой случитца, которой изобличается во многом злодействе, а он запирается, и по делу обстоятельства доказывают его к подозрению, то для изыскания истины употребляются нарочно:
1-е тиски, зделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большия два из рук, а внизу ножныя два; и свинчиваются от палача до тех пор, пока или повинится, или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать.
2-е наложа на голову веревку и просунув кляп и вертят так, что оной изумленным бывает; потом простригают на голове волосы до тела, и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит.
3-е при пытке, во время таково ж запирательства и для изыскания истины, пытанному, когда висит на дыбе, кладут между ног на ремень, которым они связаны, бревно и на оное палач становится за тем, чтоб на виске потянуть ево, дабы более истязания чувствовал. Есть ли же и потому истины показывать не будет, снимая пытанного с дыбы правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того, что и чрез то боли бывает больше.







