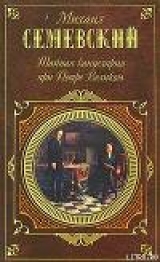
Текст книги "Тайная канцелярия при Петре Великом"
Автор книги: Михаил Семевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц)
Показания главнейших участников были очень длинны; их записали, скрепили по форме подписями допрошенных служителей (все они оказались грамотными) и затем продолжали опросы на другой день, 16 февраля 1723 года.
«Нес я государыню на скамейке, – показывал о своем участии в деле сторож и истопник Степан Пятилет, – кто силою отворил дверь в казенку, того я не усмотрел; когда же Бобровский стал не пускать Деревнина из казенки, в то число Маскин, Никита Иевлев и Тихменев провели Деревнина в дверь сильно, а били ль они урядника, того я не усмотрел, понеже нес государыню. Жег я Деревнина опосля, как обжигали его Моломахов, а по нем швед Карлус; во время ж жжения их я с другими служителями держал его, стряпчего. А как государыня соизволила приказать мне зажечь голову Деревнина и я ту голову своею свечою жечь поопасался – государыня толкнула мою руку со свечою, и я зажег, и водка на голове Деревнина вспыхнула».
В показаниях Пятилета оказались некоторые противоречия со словами Никиты Иевлева и Маскина. Всех трех немедленно свели на очную ставку.
– Пред государыней я не шел в казенку Деревнина, – утверждал Никита Иевлев, – а взошел туда после, да и из казенки-то шел назади носилок ее величества; а кто шел впереди и вел Деревнина, того я не усмотрел.
– Никиту Иевлева, – повинился Пятилет, – оговорил я, не опамятовавшись, кто же шел впереди или сзади и кто вел Деревнина – не запомню: служители в ту казенку входили и выходили многократно.
– Да и Маскин показывает на меня напрасно, – стоял на своем Никита Иевлев, – впереди я не шел и на казенку, где сидит Деревнин, царице я не указывал.
– Где шел Иевлев и кто был указчиком государыне-царице, – винился Маскин, – того я не упомню, для того, что имею на себе падучую болезнь от 15 лет.
За очной ставкой опять потянулись допросы.
– Я нес государыню, – показывал задворный конюх Моломахов, – на скамье вместе с другими служителями; кто отворил казенку, не ведаю. А как в передней палате изволила государыня гневаться и бить тростью Деревнина по лицу и по плоти многократно, а швед Карлус и Пятилет жгли его свечами, и в то число держал я Деревнина с прочими служителями; сам же свечою не жег.
Новая очная ставка.
– Как же ты показал, – спрашивали Пятилета, – что Моломахов жег Деревнина?
– Моломахов Деревнина суще свечою жег под нос, – стоял на прежнем Пятилет, – и Деревнин ту свечу задул.
– Нет! Свечою я Деревнина не жег, – упирался Моломахов, – Деревнин ее не задувал; а как жгли его Пятилет да Карлус, и я держал его за волосы, по указу царицы.
Паж Тимофей Воейков рассказал о своих разъездах за царевной Катериной Ивановной, объявил себя непричастным ни к жжению арестанта, ни в битии дежурных; брат его, паж Федор Воейков, свидетельствовал, что он ничего не видел, не слыхал, никого не бил, не жег, не толкал. Юноша, как кажется, более других непривычный к картинам истязаний, оставался все время на дворе, что, впрочем, не выгородило его из общей судьбы всех деятелей того вечера.
А приговор судьбы состоялся «немешкатно»; так что ответы свои Воейковы не успели еще скрепить подписями, а его величеству наскучили уже однообразные показания служителей царицы. Допрошено было всего семь; более половины царицыной свиты оставалась еще не допрошена; не терпя проволочек, государь просмотрел экстракт из снятых допросов Деревнина «и прочих о важных речах» и в тот же день сам явился на экзекуцию.
Она учинена 16 февраля 1723 года на генеральном дворе в Преображенском: Маскин, Никита Иевлев, Феоктист Иевлев, Карлус Фрихт, Пятилет, Тимофей Воейков, Федор Воейков, Василий Моломахов, подьячий Михайло Крупеников, все девять человек, опрошенные и неопрошенные, виновные и невиновные, останавливавшие государыню царицу и раболепно исполнявшие ее волю, все без разбору – «биты батоги нещадно и потом освобождены». Его величество сам изволил присутствовать на штрафовании.[40]40
Деятельный монарх в тот же день успел утвердить несколько государственных постановлений; в силу одного из них приказано было объявить архиереям и прочим духовным властям, дабы они в церквах во время служения никаких челобитен не принимали, «кроме государственных великих и коснения не терпящих дел», но упражнялись бы тогда в богомыслии и в молитвах и давался бы тем людям образ благоговейного в церквах стояния. В тот же день государь удосужился принять участие в публичном смехотворном маскараде, устроенном на московских улицах. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Достойно замечания, что Василий Алексеевич Юшков не был призван к допросу по поводу таинственного к нему послания старушки. Допросил ли государь сам, один, секретно, или не хотел компрометировать невестку генеральным опросом ее фаворита из боязни, чтоб тот не поведал каких-нибудь сердечных тайн старушки, как бы то ни было, только письменных показаний с Юшкова в деле не имеется и пред «генеральными судьями привожден он не был».
Но он не избег наказания; на другой же день после батожьей расправы со служителями невестки государь повелел сослать Юшкова в Нижний Новгород. Конвойный унтер-офицер получил следующий рескрипт императора для передачи нижегородскому начальнику.
«Господин вице-губернатор! (Ржевский), – писал Петр, – по нашему указу, послан в Нижний Василий Алексеевич, сын Юшкова, с ундер-офицером от гвардии Никитою Ржевским. И когда оный ундер-офицер с ним в Нижний приедет, тогда Юшкова от него примите и до указу нашего велите ему жить в Нижнем, не выезжая никуда».
Кабинет-секретарь Макаров сам выправил арестанта, причем дал унтер-офицеру инструкцию, в которой, вопреки обыкновению, не было ни малейшего напамятования о строгом обращении с арестантом; приказано было только взять у вице-губернатора расписку в получении Юшкова, паки возвратиться к Москве и явиться на генеральный двор. Из этого можно видеть, что если связи, сила и значение царственной старушки не могли спасти дорогого Юшкова, то все-таки наказание, его постигшее, ради ее влияния, было весьма смягчено: Юшкова поддерживала и укрепляла благодетельная рука немощной телом, но бодрой духом Прасковьи. С Василием Алексеевичем отняли у нее и исполнительных пажей: два брата Воейковы, по высочайшему повелению, были записаны в гвардию солдатами.
Несколько дней спустя государь с государыней отправились в Петербург, а две недели спустя (15 марта 1723 года) потянулась за ними из первопрестольной столицы партия «самонужнейших колодников», под охраною конвоя. В числе их отправлен был и Василий Деревнин.
«Дело о его битии и жжении, – писал Казаринов, заправлявший делами московско-тайной канцелярии, к А. И. Ушакову, петербургскому инквизитору, – дело Деревнина решено на генеральном дворе, но по письму (цифирному) следования еще не было. Сообщается оно при подлинном деле и запечатано в особом пакете, а на нем надпись А. В. Макарова: „Письмо, которое подал И. И. Бутурлин“. И то подлинное дело и письмо, по приказу кабинет-секретаря, препровождается к вам».
Дело «по письму» тянулось крайне медленно; либо оно никого не интересовало, либо – и последнее вернее – щекотливость содержания письма относительно царицы заставляла судей показывать к нему как можно меньше внимания. Только два месяца спустя (14 мая) Ушаков известил Казаринова о получении колодника и его дела, и затем Тайная канцелярия в лице Андрея Ивановича немедленно постановила: препроводить деревнинское дело о причинном письме в канцелярию «вышнего суда», понеже там начало сего дела и следование было, «да и нельзя того, – добавлял политичный Андрей Иванович, – чтоб многие канцелярские служителя о важностях (сего дела) сведомы были».
Таким образом, Ушаков с Толстым спустили Деревнина с причинным письмом царицы в ведение «вышнего суда». Но и от него скорого и прямого решения ожидать было нечего, так как члены суда большею частью были либо близкие приятели и знакомые царицы, либо даже свойственники; здесь заседали: граф Андрей Матвеев, Иван Дмитриев Мамонов, Семен Блеклый, Александр Бредихин, Иван Бахметев, секретарем был Петр Ижорский.
Вот почему они не сразу согласились даже принять Деревнина, не вдруг решились взять на себя следование и суд по цифирному посланию; так что только после двухнедельной переписки с Тайной канцелярией «вышний суд» дал свое согласие (27 мая), чтобы «дело Деревнина к нам прислать, но неиначе как с подьячим, у которого то дело было, понеже к тому важному делу от других дел подьячего определять не надлежит».
Опять пошла переписка: подьячий тот в Москве, итак, на чей кошт его выписать? Это затруднение дало «вышнему суду» предлог сдать дело (18 июня) в Кабинет. Но там кабинет-секретарь его не принял и приказал войти экстрактом для доклада его величеству. И вот в течение целого месяца пишутся два экстракта. Только 19 июля явился с ними в Кабинет секретарь Тайной канцелярии Топильский, который и представил тут же запечатанное в пакет цифирное послание – с достойным решпектом.
В Кабинете дело засело. Надо думать, что обязательный Алексей Васильевич Макаров, которому так наивно писала царица, «что будет ему платить», не спешил входить к государю с всеподданнейшим докладом. Резолюции не было, а стряпчий продолжал томиться в каземате. Так при дворе сурового и, по-видимому, столь ревнивого к правде монарха находили себе убежище взяточничество и лицеприятие; связи и протекция и здесь оказывали свое влияние; вся разница с последующими царствованиями состояла в том, что при Петре это делалось несравненно скрытнее, «опасливее».
Что же это было за письмо, от которого так скоро отшатывались следователи и судьи, к которому так старательно не допускали канцелярских служителей, наконец, для сбережения которого даже Тайная канцелярия не находила у себя тайного места, чтоб чины ее «важности сего письма сведомы не были»?
Что в этом письме не было ничего государственного, «противного», в смысле политической тайны, в этом нечего и сомневаться; в противном случае судьба Юшкова была бы решена иначе, не избегла бы суда и осуждения сама Прасковья; но куда делось таинственное послание после долгих странствий из Тайной в Кабинет, из Кабинета в Тайную, оттуда в «вышний суд», из суда в Кабинет, из Кабинета опять в Тайную – неизвестно; только ни при делах последней, ни в бумагах кабинетских письма этого не сохранилось. Между тем уцелела следующая пояснительная записка руки Прасковьи – записка азбуки:
1 2 3 4,5 6,7 8 9 10
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, и т. д.
0, 5, 3, 7, 6 i, a 2, я, 8, и, п, в, и, н, 9, п, з, и т. д.
Явно, что это та цифирная азбука, по которой написано было таинственное послание. Тут же сделан и перевод – к сожалению, только первой фразы: «Радость мой свет…»
Для кого и для чего приготовлена была эта записка? Весьма вероятно, что Петр, еще в бытность свою в Астрахани, получив из Тайной канцелярии письмо, доставленное Деревниным, потребовал от невестки ключа к цифири, и приведенная записка есть черновая подлинника.
Таинственное письмо старушки царицы, без сомнения, касалось либо ее сердечных, интимных отношений к своему главноуправляющему Юшкову, либо трактовало о семейных, секретных делах, трактовало притом не совсем скромно? Все это предположения и догадки, которые могут подтвердиться или опровергнуться открытием интимной цидулки.
X. Смерть царицы Прасковьи Федоровны
Мы оставили царицу в родном Измайлове. Государь распорядился о даче подвод невестке и ее дочерям от города до города; хворая старушка поднялась в путь в начале 1723 года. Собственные тяжкие недуги, болезнь младшей дочери, наконец, скверные дороги мешали ей ехать скоро и, дотащившись до Новгорода, старушка решилась отдохнуть и оправиться.
С дороги она несколько раз посылала грамотки к «государыне своей милостивой, дорогой невестушке и матушке, императрице Екатерине Алексеевне», которой непрестанно желала «здравия свету моему, купно с государем, нашим общим дорогим батюшком, императором великим, Петром Алексеевичем и с дорогими вашего величества детками, с государынями цесаревнами на множество лет!»
Несмотря на эти длинные пожелания, письма Прасковьи «к свет-благодетелям» были как-то суше, холоднее: может быть, ссылка бесценного Юшкова потрясла старушку, и она только по нужде относилась к невестке.
А нужда настояла немалая. Дочка ее, Прасковья, «весьма расхворалась»: «…пожалуй, государыня моя невестушка и матушка, – диктовала старушка секретарю 4 апреля 1723 года, – прикажи уведомить нас о общем здравии в. и. в., чего от сердца слышать желаем; при сем вашему величеству доношу: дочь моя, царевна Прасковья, гораздо больна, и я прошу у вашего величества – пожалуй, государыня моя невестушка и матушка, прикажи прислать к нам доктора или лекаря с лекарством; а признаваем в ней болезнь лихорадку с горячкою…
Благодарствую, государыня моя милостивая невестушка, за милостивейшее вашего величества писание…»
Вспомнила старушка, что скоро день рожденья императрицы, и спешит исполнить формальность: «5 апреля 1723 г. Новгород… Поздравляем вам государыне, дражайшим днем рождения вашего величества и желаем от сердца нашего, дабы Всевышний благославил впредь вашему величеству достигнуть много таких дней, во всякой радости и благополучии, и за сим здравие ваше предаю Всемогущему в сохранение и остаюсь невестка ваша – Прасковья».
С такими же поздравлениями приветствовала она государя и государыню по поводу наступающего праздника Христова Воскресения: «…желаем от сердца нашего вашему величеству оный препроводить во всякой радости, и в предыдущих летах да благославит Бог много таких торжественных дней достигнуть в добром здравии и благополучии…»
Императрица, со своей стороны, отвечала вниманием на предупредительность и вежливость старушки. Екатерина послала в Новгород доктора и письменно просила Прасковью обрадовать ее скорым приездом.
«Благодарствую, государыня моя невестушка, – отвечала царица (11 апреля, Новгород), – что изволили прислать к нам доктора. А дочери моей от болезни есть свободнее, только внучка (Аннушка) п…м не может. А в С.-Петербург поедем на завтрее праздника, и как могу, так спешить буду».
Государь также показывал заботливость о Прасковье Федоровне и ее семейке, разумеется, по-своему, своеобразно. Он хлопотал об окончательном, более надежном закреплении Курляндии за Россией и всячески подыскивал жениха для вдовствующей, сетующей без мужа Анны Ивановны. Государь писал по этому поводу в Митаву к Петру Бестужеву, приказывая ему стараться об этом деле, прочил Анну за герцога Вейсенфельского, но это сватовство почему-то не состоялось.
Царица прибыла между тем в Петербург в начале мая 1723 года, совершив это путешествие более спокойно, водою на судах, присланных в Новгород по высочайшему повелению.
Оставив хворых маменьку и сестрицу в постели, «свет-Катюшка» вместо их объездила всех с визитами и приняла участие в обычных увеселениях двора. Мы не останавливаемся на них потому, что они очень хорошо известны – по крайней мере, характер их – из предыдущих глав нашего исторического и нравоописательного очерка.
Нельзя не заметить, однако, что от участия в некоторых из потех сего года не решалась отказываться сама царица Прасковья Федоровна, стоявшая одной из отнявшихся у ней ног в гробу.
Так, на празднествах при спуске кораблей, празднествах, особенно любезных монарху, старушка, из внимания к нему, подъезжала к новорожденному кораблю на барке; не будучи в состоянии выйти из нее, больная обыкновенно оттуда поздравляла государя и всех пирующих. При спуске корабля «Михаил Архангел» 26 мая 1723 года она отпустила со своей барки на корабль «свет-Катюшку» и ей поручила принять участие в пире. Пир был на весь мир! Гости и гостьи ели и пили с четырех часов пополудни до двух часов утра; сам государь, предупредив, что он в этот день намерен хорошенько напиться, выдержал обещанье настолько, что едва мог стоять на ногах; герцог Голштинский доведен был угощением, по собственному выражению Петра, до состояния пьяного немца (Kerel d'Allemagne), то есть его величество лежал в бесчувственном положении. Дамы, и нет сомнения – и наша герцогиня, были напоены настолько, что к ним не пускали мужчин…
Такой же характер имело пиршество при спуске другого корабля, «Крейсер», 23 июля 1723 года. И это торжество почтила своим присутствием вдовствующая царица. Несмотря на всю свою немощь, она подъезжала с маленькою внучкою Аннушкою (впоследствии – правительница Российской империи, в 17401741 годах) к кораблю; по-прежнему не выходила из барки и, высадив герцогиню Катерину Ивановну, отправилась домой, где оставалась ее царевна Прасковья в постели, с распухшими на обеих руках пальцами.
Государь был очень любезен и внимателен к веселой «Катюшке» и советовал, между прочим, от слишком большой полноты, которая ей немало досаждала, меньше спать и меньше есть. Слепо веруя, вслед за маменькой, в медицинские познания дядюшки, «свет-Катюшка» серьезно начала лечиться: целые сутки не ела, не пила и не смыкала очей; затем разрешила себе постный стол. Но, разумеется, всякий, знавший Катерину Ивановну и ее страсть поспать хорошенько и поесть сколь можно положительнее, был наперед убежден, что и пост, и бдение не долго продолжатся.
Весь июль и начало августа 1723 года старушка провела на яхте, участвуя в морском путешествии всего двора в Ревель и Ригу; морское путешествие не доставило ей удовольствия; здоровье ее нисколько не поправлялось; старушка, видимо, разрушалась и с каждым днем быстро приближалась к могиле; на яхте ей сделалось особенно дурно, так что некоторое время царевна Катерина не отходила от постели матери; болезнь Прасковьи не мешала, впрочем, веселиться другим, и в день возвращенья в столицу – день, ознаменовавшийся встречею знаменитого ботика – дедушки русского флота, – все от мала до велика, от последнего денщика до великого монарха, пировали десять часов сряду. По свидетельству одного из участников пира, император был особенно расположен пить; несколько раз говорил, что тот бездельник, кто в этот день не напьется с ним пьян, и все, соревнуясь друг перед другом, так страшно пили, как не запомнит ни один заезжий немец – во все пребывание свое в России. Не было пощады и дамам, т. е. императрице, герцогине Катерине Ивановне и прочим членам царского семейства с их свитами. Их отпустили после шестичасового угощенья. Оно особенно размягчило сердце Петра. С ним случился решительный припадок самой страстной, нежной чувствительности. Он беспрестанно целовал милого герцога Голштинского, оказавшего необыкновенные успехи в российском служении Бахусу; государь, в припадке нежности, беспрестанно трепал его, несколько раз срывал с головы парик, целовал то в затылок, то в маковку, то в лоб, даже оттягивал ему нижнюю губу и целовал в рот между зубами и губами… То же сентиментальное чувство овладело многими знатными персонами: они плакали, целовались, обнимались, – зато другие от нежных поцелуев круто перешли к резким объяснениям: так, адмирал Крюйс дал контр-адмиралу Зандеру такую затрещину, что контр-адмирал покатился под стол, потерял парик и волею-неволею остался в положении бесчувственного немца.
Достойно замечания, что, говоря о подобных пиршествах, нельзя сказать, чтобы прекрасный пол особенно тяготился усиленным угощением. Привычка делала чудеса, даже «небесно-прекрасные царевны», как называет Берхгольц Анну Петровну и Елисавету Петровну, с поразительною приветливостью подносили пирующим стаканы крепчайшего венгерского вина и с неподражаемою грациею сами осушали стаканы. Толстенькая герцогиня Катерина Ивановна уступала им в грации, но по опытности своей и значительно большему возрасту превосходила в искусстве самоугощения. Но, кто знает, быть может, именно на подобных пирах цесаревна Елисавета Петровна усвоила себе ту несчастную привычку к неумеренному употреблению крепких напитков, которая впоследствии низвела ее с престола в могилу (25 декабря 1761 года).
Начало сентября 1723 года ознаменовалось восьмидневным маскарадом в честь годовщины Ништадтского мира; все были обязаны подпискою явиться на это празднество. В течение восьми дней по улицам Петербурга выдвигались торжественные процессии, были самые разнообразные костюмы – халдейские, аббатские; государь Петр Алексеевич являлся то католическим кардиналом, то матросом-барабанщиком; костюмы польские, старинно-немецкие, иезуитские, французские, итальянские, китайские, жидовские, капуцинские, индейские, японские, татарские и другие пестрели на площадях и улицах Петербурга. Тут же среди замаскированных, как видно из печатной росписи, красовалась «неусыпаемая обитель». Ее составляли: архимандрит в странном уборе, от гвардии фендрих Афанасий Татищев, князь Ярославский, от гвардии фендрих Нелюбохтин со своею княгинею и со всею своею фамилиею и синклитом; обитель сопровождала большая свита в разных духовных, арлекинских, нищенских и прочих странных уборах – мужчины и женщины. Далее по машкарадной росписи следовали: известный шут Семен Тургенев в роли Нептуна, пропойца-певчий Карпов – Бахусом; далее архиереи: Наникандр… митрополит С.-Петербургский, Морай… митрополит Кроншлоцкий и Котлинский, Тарай… митрополит великого Нова… и великих… Никон Прыткой… митрополит Дербенский и Мидский, Гнил… митрополит Сибирский и Тобольский, Бибабр, митрополит реки Охтинской и Седмимелницкой, М… митрополит Псковский и Изборский, Феофан Красной… митрополит Смоленский и Дорогобужский, архидьякон Иди на… Строев. Ключарь Формосов… Протасьев. Всего 10 человек.
Государыня, вслед за кесаршей Ромодановской, шла в фрижланском уборе; 55-е отделение вела государыня царевна Катерина Ивановна; она, также княгиня Меншикова, девица Юшкова и другие семь персон дамских были в гишпанских костюмах. В следующем отделении была царевна Прасковья Ивановна с тринадцатью дамами и девицами в платьях «шкармуцких».
Удовольствий была бездна. Какой-то толстяк представлял солнце. Он нес большую, сделанную из холста и раскрашенную машину, которая была так устроена, что лицо его как раз приходилось в самой середине светила, где прорезана была дыра. Беспокойная братия «собор всепьянейшего и всешумнейшего князь-папы» несколько раз с песнями проходила со светилом по саду, а под конец шутник влез на лестницу, обратился лицом к солнцу и говорил ему длинное смехотворное слово. Для народа выкачены были бадьи с пивом и вином. Потехи прекращались по барабанному бою императора.
Только известный уже нам характер беззаботной, смешливой герцогини Мекленбургской давал ей возможность всецело предаваться удовольствиям двора; в сущности, ей было о чем побеспокоиться, было о чем призадуматься: с одной стороны, должны были вызывать эти думы страдания больной, умирающей матери, с другой – самые безотрадные вести о благоверном супруге. Она жаловалась своим знакомым, что герцог решительно не хочет приехать в Россию, а между тем доходили до нее слухи, что римский император намерен поручить управление Мекленбургии брату Карла-Леопольда Христиану-Людвигу, если первый не угомонится и не изъявит покорности.
Вместе со «свет-Катюшкой» заявляла свое сожаление об упрямстве зятя царица Прасковья; она удивлялась, как герцог, хорошо знающий об отличном обращении государя с голштинским и гессен-гомбургскими принцами, не внемлет неоднократным приглашениям приехать в Россию. Так, в мае 1723 года Петр по просьбе племянницы и невестки еще раз сделал попытку вызвать из Мекленбурга герцога Карла-Леопольда. Это поручение возложено было на генерала Бонна, хорошего знакомого, даже приятеля взбалмошного герцога. Несмотря на этот выбор посланного, Катерина Ивановна очень опасалась, что супруг ее все-таки не даст убедить себя, несмотря на то, что приезд в Россию был единственным исходом из плохого положения. Но герцог нимало о нем не задумывался и, к огорчению супруги своей, велел, между прочим, отрубить в Демице голову тайному советнику Вольфрату. Сетования на мужа не настолько были, однако, велики у герцогини Катерины Ивановны, чтоб мешать ее задушевным беседам с камер-юнкером герцога Голштинского. Она продолжала зазывать его к себе, просиживала с ним целые часы в самой задушевной болтовне о всевозможных пустяках, делала ему подарки, не пускала домой и проч.
Петербургская осень 1723 года была крайне непогодливая. 2 октября (годовщина мщения старушки Прасковьи) случилось одно из сильнейших наводнений: порывистый ветер с моря дул долго, с необыкновенной силой, и бурливая Нева, затопив ночью все улицы, поднялась на 7 футов и 7 дюймов. Жители были в страхе и ежеминутной опасности погибнуть в водяной пучине; но в каменном, недавно отстроенном на Васильевском острове, доме нашей старушки, где, по приезде из Москвы, она и водворилась с дочерьми, было и другое беспокойство, другие опасения: приближался роковой час – вдова царя Ивана V Алексеевича, царица Прасковья Федоровна, расставалась с жизнью.
Еще 24 сентября она была настолько бодра, что принимала у себя императрицу, цесаревен и большое общество знати. Старушка в последний раз в жизни праздновала один из праздников своего семейства – день рождения царевны Прасковьи Ивановны, которой пошел 30-й год.
С этого времени с каждым днем царице становилось хуже и хуже, с часу на час ждали ее кончины. 8 октября навестил ее государь и пробыл у невестушки более двух часов. В палатах умирающей толпились челядинцы, рабы и рабыни царицы-помещицы; они тревожно ждали ее кончины в неведении, что последует с ними после ее смерти; тут же были высшие духовные иерархи, робко теснилось и низшее духовенство, попы, разные церковники, штатные и нештатные пророки, вещуньи, юродивые и другие темные лица, призреваемые милосердной монархиней. Но эти лица могли показываться не иначе, как с большими опасениями наткнуться на государя; а эта встреча значила просто-напросто попасть под батоги; им известно было, как бесцеремонно поступил Петр Алексеевич с ихней же братьей при кончине царевны Марии Алексеевны 20 марта 1723 года. Он застал в покоях умирающей целую толпу попов, которые, по заведенному исстари обычаю, принесли ей яств, напитков и спрашивали: не нужно ли ей чего-нибудь, всего ли она имела вдоволь? Его величество немедленно всех их выгнал вон и строго-настрого наказал, чтоб впредь не повторялись подобные вещи. Следовательно, немудрено, что при настоящем случае многое не повторилось из старинных обычаев, сопровождавших проводы на тот свет…
В доме умирающей распоряжалась герцогиня Катерина Ивановна. Императрица ободряла и утешала ее и часто проведывала больную. Между прочим, зная, что умирающая всегда была крайне немилостива к средней своей дочери, мало того – почти ее прокляла, Екатерина Алексеевна напомнила о необходимости полного прощенья и примиренья. Старушка согласилась и закрепила это подписью на письме к государыне: в этой грамотке она прощала нелюбезную ей Анну. Мало того, 11 октября 1723 года, для успокоения дочери и в угоду государыне-невестке, старушка продиктовала следующее письмо:
«Любезнейшая моя царевна Анна Ивановна! Понеже ныне болезни во мне отчасу умножились, и тако от оных стражду, что уже весьма и жизнь свою отчаяла, того для, сим моим письмом напоминаю вам, чтоб вы молились обо мне Господу Богу, а ежели его, Творца моего, воля придет, что я от сего света отъиду, то не забывайте меня в поминовении.
Также слышала я от моей вселюбезнейшей невестушки, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, что ты в великом сумнении и яко бы под запрещением – или паче рещи, проклятием – от меня пребываешь, и в том ныне не сумневайся; все вам для вышеупомянутой ее величества, моей вселюбезнейшей государыни невестушки, отпускаю и прощаю вас во всем, хотя в чем вы предо мною и погрешили. Впротчем, предав вас в сохранение и милость Божию, остаюся мать ваша ц. Прасковья».
На другой день в городе пронесся слух, что царица не проживет и нескольких часов; но она промучилась еще сутки. Государыня была у ней утром и потом провела день в большом обществе: во дворце был большой обед с пушечной пальбой с невских судов, с танцами и проч. Императора не было: он еще несколько дней тому назад уехал с небольшой свитой осматривать Ладожский канал, при прорытии которого оказалось множество злоупотреблений.
Таким образом, император Петр Алексеевич, вопреки Голикову, не присутствовал при последних днях жизни Прасковьи.
На рассвете 13 октября 1723 года старушка, чувствуя приближение кончины, поручила своих дочерей «Катюшку и больную Парашу» материнскому попечению императрицы, настоятельно просила, чтоб с ней в гроб положили портрет ее мужа; наконец, потребовала зеркало, долго в него смотрелась, как бы прощаясь сама с собой, и испустила дух.
Капитан Бергер известил двор и объехал сановников с вестью о кончине благовернейшей государыни-царицы Прасковьи Феодоровны.
Немедленно дали знать государю; отменили спектакль, имевший быть в тот день во вновь построенном для труппы доме, и стали толковать о том, на сколько времени будет наложен траур; думали, что он протянется не менее полугода; на другой же день двор и весь почти город облекся в траур.
16 числа государь вернулся в столицу и начались распоряжения о пышных похоронах. Они были назначены 22 октября 1723 года. Накануне гвардии майор Александр Иванович Румянцев в качестве маршала погребения объехал именитых лиц с приглашениями от имени дочерей покойной пожаловать на другой день к двенадцати часам на похороны царицы. Толковали (зная страсть государя к катаньям), что тело царицы повезут водой в Невскую лавру, но что оно останется там только до тех пор, пока в Петропавловском крепостном соборе не отделают императорский склеп, и что траур продолжится не более шести недель.
Государь, страстный охотник до устройства всякого рода торжественных и курьезных зрелищ, сам озаботился об украшении и обстановке смертного одра царицы, по проекту графа Санти. Ему было очень приятно любопытство многочисленных посетителей, приходивших не для одного поклона умершей, но и для того, чтоб поглазеть на убранство. Посетителей принимали генералы Аллар и Ласси, первые маршалы погребения. Вслед за голштинским герцогом протолкаемся и мы к парадному гробу царицы Прасковьи.
Открытый гроб с ее телом стоял на катафалке, устроенном как парадная постель. Над ней возвышался большой балдахин из фиолетового бархата, украшенный галунами и бахромой, а над гробом, на той части балдахина, которая спускается в головах, вышит был золотой двуглавый орел на фоне, состоящем как бы из горностаевого меха. На внутренней ее стороне стоял вышитый же именной шифр покойной с императорской короной, скипетром и державою наверху. С правой стороны, на красной бархатной подушке, лежала царская корона, украшенная довольно богато драгоценными камнями и сделанная, сколько позволяла краткость времени, довольно изящно. Возле нее стояло желтое государственное знамя. Гроб был на возвышении о нескольких ступенях, обит фиолетовым бархатом и широким галуном; крышка украшена крестом из белой объяри.[41]41
Белая объяр (обоярь) – вид художественной ткани: иранские плотные шелковые и т. н. «золотые» (с золотой или серебряной нитью).
[Закрыть] Из той же объяри было платье на Прасковье и покров, спускавшийся до катафалка, обтянутого бархатом. По обеим сторонам гроба стояло двенадцать больших свечей; кроме того, в комнате висели три люстры и множество стенных подсвечников; во всех горели восковые свечи. Вся комната была обита кругом черной байкой, а вверху по карнизу шла фалбала,[42]42
Фалбала (фалбора, фалборка) – т. е. всякая подвесная кайма, опушка, украшение (например, оборка у кровати, по подолу платья, на окнах).
[Закрыть] эффектно собранная из белого и черного флера…[43]43
Флёр – прозрачная, преимущественно шелковая ткань.
[Закрыть]







