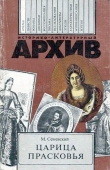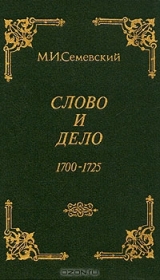
Текст книги "Слово и дело!"
Автор книги: Михаил Семевский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
„Великий государь указал: в Москве и в других городах при церквах, у которых пристойно, при оградах сделать гошпитали, в Москве мазанки, а в других городах деревянныя, також, как о таких же делах боготщательное и душеспасительное осмотрение преосвященный Иов, митрополит новгородский, учинил в великом Новгороде. И избрать искусных жен для сохранения зазорных младенцов, которых жены и девки рождают беззаконно, и стыда ради отметывают в разныя места, от чего оные младенцы безгодно помирают, а иные от тех же, кои рождают, и умерщвляются. И для того объявить указ, чтоб таких младенцов в непристойныя места не отметывали, но приносили бы к вышеозначенным гошпиталям и клали тайно в окно, через какое закрытие, дабы приносящих лица было не видно. А ежели такия незаконнорождающия явятся в умерщвлении тех младенцов, и оныя за такия злодейственныя дела сами казнены будут смертью; и те гошпитали построить и кормить из губерний из неокладных прибылых доходов, а имянно давать приставленным (женщинам) на год денег по 3 рубли да хлеба по полуосмине на месяц, а младенцам по 3 деньги на день“.
Указ этот в высшей степени замечателен: в нем государь прямо шел против векового народного предубеждения; до него „зазорные младенцы“ оставались без всякого призрения, умерщвлялись родителями, умирали от голода и холода, заброшенные в непристойные места; либо их подбрасывали другим, причем ребенок делался рабом, холопом, крепостным и, таким образом, обрекался на жизнь, полную страданий. Первая мысль об устройстве домов для приема незаконнорожденных принадлежит, как свидетельствуют слова указа, митрополиту Иову. В 1706 году он основал пристанище несчастным детям в трех верстах от Новгорода в упраздненном Колмовом монастыре. Митрополит отделил часть своих доходов на наем кормилиц и повелел принимать в Колмове всех приносимых младенцев и их воспитывать. Тот же преосвященный основал три другие больницы для инвалидов и проч. Государь был очень доволен столь полезною деятельностью преосвященного; в 1712 году он повелел определить в пособие ему на содержание призреваемых половину доходов с монастырских вотчин, находившихся в Олонецком уезде. Царская фамилия и многие бояре часто присылали денежные подаяния. В 1713 году во всех заведениях Иова содержалось „зазорных младенцев“, нищих и сирот 170 человек.
До митрополита Иова и царя Петра законы русские предписывали ужасные казни матерям-убийцам „зазорных детей“, но в то же самое время не предлагали никаких о них попечений. В Уложении была только одна статья, относящаяся до незаконнорожденных; но, в силу ее, несчастные лишались всех прав на свободу и гражданство: их запрещено было считать наравне с законнорожденными и отчин им не давать.
Как относились к „зазорным детям“, можно видеть из рассказа современника. „А у которых бояр, и думных людей, и у иных чинов людей, будут прижиты дети от наложниц, от вдов или от девок, а после того на тех своих наложницах поженятся, или неженаты помрут, а после их смерти останутся дети, которые прижиты по закону, а другая дети выблядки, или после смерти их останутся одни те выблядки: и по их смерти даются поместья, и вотчины, и животы, сыновьям их и дочерям тем, которые по закону прижиты; а которые прижиты до закону, и тем поместий и вотчин, и животов никаких не делят и не дают ничего, и честными людьми тех выблядков не ставят, чей бы ни был, и в службу царскую ни в какую не принимают. А кому выблядку дадут поместье и вотчину, не ведая, что он выблядок, а другие люди учнут на него бити челом, что он выблядок, и ему то доведут: и то что дано будет выблядку, отдадут тому человеку, кто на него доведет; а того выблядка, бив кнутом, сошлют в ссылку в Сибирь, для того: не вылыгай и не стався честным человеком“.
Такой взгляд на «зазорных детей» и такое презрение было к ним доколе Петр, вслед за Иовом, положил начало более человеколюбивым мерам. Не остановившись на указе 4 ноября 1715 года и на устройстве небольших госпиталей, государь, по смерти любимой сестры Натальи, в 1716 году, основал подобное учреждение в больших размерах. При дворе этой царевны была богодельня для призрения старух; царь обратил это заведение в дом для приема незаконнорожденных. С улицы приделан был чулан; в нем очередная старуха должна была принимать младенца, отнюдь не спрашивая имени матери. И детям, и старухам отпускалась хлебная и денежная дача.
Все эти меры должны были быть известны камер-фрейлине Гамильтон; но, преследуемая стыдом, желая сохранить за собой имя честной девушки, с другой стороны, не доверяя новому учреждению о «зазорных младенцах» и тому, что можно в совершенной тайне отдавать туда детей, она предпочла сделаться преступницей… Но не станем опережать события. Пока Гамильтон все еще имела значение, могла гордиться расположением своих господ; наконец, в Иване Орлове любила грубого, необразованного, полудикого, но страстного любовника. Судьба не разлучала их, и 27 января 1716 года в свите государя и государыни они отправились за границу.
2
Штат государыни, сопровождавший ее, был довольно велик, тем более что при ней была еще царевна Екатерина Ивановна с прислугой. 11 февраля державная чета была в Либаве, 18 – в Данциге. Государь был занят осмотром галер, заключением союзных договоров, распоряжениями, относящимися до продолжения шведской войны; государыня, с дамами, осматривала все замечательное, каталась, гуляла, посещала ассамблеи, которые давались магнатами и владетельными особами в честь ее приезда. Государыню особенно часто посещал герцог Мекленбургский, нареченный женихом Екатерины Ивановны.
8 апреля 1716 года совершено было бракосочетание его с русской царевной, в присутствии царя, царицы, короля польского, множества знатнейших дам и именитейших вельмож. Целый ряд празднеств сопровождал брачное торжество; нечего и говорить, что Гамильтон, так или иначе, но принимала участие в общем веселье, в ассамблеях, пирах, гулянках; за границей они делались еще веселее, все как-то свободнее двигались вдали от солдат, разносивших на петербургских пирах водку и опаивавших ею всех и каждого; вдали от шутов, придворных дураков, доносчиков, палачей.
Для увеселения их величеств даже мещане города Гданьска, как гласит поденная записка, устраивали разные потехи.
4 мая государь был в Штетине, куда вслед за ним со свитою явилась государыня. В то время, когда Екатерина занята была обедами и увеселениями, устраиваемыми для нее королем прусским, Петр ездил в другие города, осматривал войска, делал экзерциции, составлял военный артикул. Встречаемый везде с почетом, царь держал себя совершенно свободно, не изменяя своим привычкам. Так, в одном из германских городов, он вошел с бурмистром в кирку, во время проповеди, сел на первое место и с большим вниманием слушал проповедника. Вдруг почувствовал, что голове его холодно; не отрывая глаз от проповедника, он хладнокровно снял с головы бурмистра большой парик и надел на свою голову. Проповедь кончилась, и Петр возвратил парик хозяину. Дело в том, что Петр у себя, в столице, каждый раз, как случалось голове его холодно, снимал либо с Меншикова, либо с Толстого парик и надевал на себя.
12 июля государыня, не торопясь, приехала в Копенгаген, была встречена мужем, королем датским и множеством знатных особ. Король, ради именитых гостей, устроил празднества и угощал великолепными обедами…
В Копенгагене Екатерина гостила довольно долго. Петр заключал конвенции, писал указы в Россию, вел громадную переписку, воевал со шведами – государыня с дамами веселилась. Но невесело было Марье Даниловне Гамильтон. Она не могла поладить с грубым и ревнивым Орловым, который при каждом веселом часе, то есть после каждой попойки – а пил он часто, по обязанности царского приближенного, – оскорблял любовницу упреками, бранью, нередко поносил ее самыми пошлыми ругательствами. Между тем Гамильтон любила его искренно. Страсть к царскому денщику была так велика, что, не имея возможности давать ему подарки и удовлетворять настойчивым просьбам о деньгах, она, как сама впоследствии признавалась, «будучи при государыне царице Екатерине Алексеевне, вещи и золотые (червонцы) крала, а что чего порознь – не упомнит… а золотых червонных у ней, государыни царицы, украла же, а сколько – не упомнит; и из тех червонцев денщику Ивану Орлову дала она триста червонных, будучи в Копенгагене; да перстень с руки, да рубахи, а то все (то есть перстень и рубахи) давала она из своего, а не из краденого, а иным никому из тех вещей не давала».
Государыне было не до червонных, не до надзору за влюбленною камер-фрейлиною: она вся отдавалась сначала удовольствиям заграничной жизни, потом, будучи беременна, сделалась очень слаба, а наконец занята была возникавшим важным для нее делом.
26 августа отправился из Копенгагена в Петербург курьер Сафонов. Он вез царевичу Алексею строгий приказ отца: либо ехать за границу, либо немедля идти в монастырь!
10 ноября государыня приехала в Шверин, была беременна в последнем периоде и боялась, что переезды из города в город гибельно подействуют на ее здоровье. Между тем царь, с немногими из денщиков, между прочими с Иваном Орловым, ездил по прусским городам, был в Гамбурге. Здесь магистрат города, из особого уважения к его величеству, выдал Войнаровского, племянника Мазепы. Войнаровский был человек весьма образованный, превосходно знал иностранные языки, отличался жаркою любовью к родине и свободе. Петр с обыкновенною настойчивостью готов был силою оружия вырвать Войнаровского, если б гамбургский магистрат не поспешил схватить несчастного. Если верить историкам Петра, Войнаровский, ради добровольного во всем признания (?), без наказания отослан был в Якутск.
6 декабря государь с немногими из людей своих приехал в Амстердам; среди работ монарх отдыхал с денщиками и голландскими матросами за кружкой пива и вина; вел дружескую переписку с разными королями и владетельными особами; делал им недорогие для себя подарки. В чем они состояли – можно видеть из письма царского в Архангельск, к вице-губернатору: «По получении сего указу, сыщите двух человек самоедов, летами от 15 до 18, в их платьях и уборах, как они ходят по своему обыкновению; их надобно послать в подарок гран-дюку флоренскому (тосканскому); и как их сыщете, то немедленно отдайте их тому, кто вам сие наше письмо объявит».
Тем временем государыня с фрейлинами медленно ехала из Шверина в Везель, куда и прибыла 30 декабря.
3 января прискакал к государю паж Маврин с известием: царица разрешилась от бремени царевичем Павлом Петровичем.
«Объявляю вам, что сего 2-го января, – писал обрадованный государь ко многим из вельмож в Россию, – хозяйка моя, не поехав сюда, в Везеле родила солдатченка Павла… рекомендую его офицерам под команду, а солдатам в братство».
Но переезды, гулянья, пиры имели пагубное влияние на здоровье хозяйки, и новый солдатченок вышел до того слаб и хвор, что на другой день скончался. Петр был опечален этим известием. Хозяйка оставалась в весьма слабом состоянии в Везеле, и не ранее 2 февраля 1717 года могла приехать в Амстердам.
В продолжение ее болезни Петр, «ради телесной крепости и горячности своей крови», не мог не отдаваться в досужие часы «любострастию». Если верить иноземным писателям, то ему чрезвычайно полюбилась дочь одного пастора, который, однако, не иначе соглашался уступить русскому владыке дочь, как на основании законного брака. Царь, будто бы, дал слово, и Шафиров, будто бы, закрепил его контрактом. Но едва «высокий путешественник» в «телесном удовольствии» удовлетворил телесную крепость свою – обещание было забыто… Девушка возвращена отцу с подарком в 1000 дукатов.
В Петербурге толковали об отсутствующих господах, ходили разные о них слухи, и дядька царевичев, Афанасьев, приехав из Мекленбургии, сказывал Воронову, гофмейстеру царевича: «Слышал я от своего толмача Фридриха, который слышал от хозяйки, где мы стояли, что „у царского величества есть матреса, взята она из Гамбурга“. „Здесь не слышно“, – отвечал Воронов. Несколько дней спустя Афанасьев был у Воронова в гостях. „Слышал и я, – стал говорить хозяин, – что есть у государя матреса, и царица про это ведает; как приехала в Голландию (2 февраля?), стала пред государем плакать, и государь спросил ее: „Кто тебе сказывал?“ – „Мне сказала полковница, а к ней писал Платон“. И Платона государь за это бил“.
У Петра, впрочем, была не одна „матреса“: Авдотья Ивановна Чернышева, „Авдотья – бой-баба“, по выражению Петра, во время болезни Екатерины пользовалась его расположением.
Но как ни часты были отмены пылкого Петра в пользу той либо другой красавицы, все-таки они были и гораздо реже и несравненно скромнее, нежели как повествуют о том иностранные писатели, алчные до всякого курьезного анекдота…
Справедлив или несправедлив этот рассказ, но верно то, что Петр не находил преград своим вожделениям плотским, не находил телесных удовольствий в постоянном общении с одной и той же красавицей. Часто доводилось плакать и горевать хозяйке, много хитрости и ума надо было иметь с ее стороны, чтоб подогревать холодеющую любовь хозяина. В таком положении находились отношения господ между собой. Взглянем на отношения слуг – денщика с камер-фрейлиной.
Марья Даниловна, подобно Екатерине Алексеевне, должна была употребить все способности своего женского ума и влюбленного сердца, чтоб удерживать непостоянного Ивана Орлова от поступков ветреных. Она ревновала его к Авдотье Чернышевой, дарила его государыниными деньгами, одаривала собственными вещами – и все-таки возникали ссоры. Любовники зачастую вздорили. Петр Алексеевич бивал тех, которые не умели молчать о его интересах, но не трогал своей хозяйки. Иван Михайлович был гораздо проще, не был так деликатен и зачастую бивал свою хозяюшку. Любовники зачастую вздорили. Причинами ссор и драк, без сомнения, были со стороны Гамильтон – негодование на беспутство и пьянство Орлова, со стороны Орлова – ревность.
„В Голландии был я у Бранта в саду пьян, – каялся впоследствии в собственноручном письме Орлов, – и побранился с Марьею, и называл ее б…, и к тому слову сказал Петр Балк, „что взбесился ты, какая она б…?“ – „Чаю, что уже троих родила“, – отвечал я и более того нигде ее, Марью, не попрекал“.
„После того я еще ее бранил и пьяной поехал в тот же день в Амстердам, с Питером-инженером, и, приедучи в Амстердам, ввечеру бранил ее при Филиппе Пальчикове, при Александре подьячем и называл ее б…, а робятами не попрекал“.
„А на другой день сказал Петр-инженер: „Ты ее попрекал“. И я к ней писал грамотку и просил прощения у нее; и она в том просила у государыни-царицы милости на меня, чтоб я ее уличил, ведая то, что я не ведал (про робят); и она мне нигде не сказывала про робят никогда, и я ее нигде больше не попрекал робятами“.
„Когда (бывало) и осержусь в ревности, то ее бранивал и называл к…, и бивал, а робятами не попрекивал и в том шлюсь на нее“.
Такие неприятности отличали внутренний домашний быт путешествующего двора. Внешняя же сторона этой жизни была блестяща: торжественные приемы, всевозможные „увеселения для потехи их величеств“, подарки, осмотр всех достопримечательностей, ассамблеи при дворах, частые переезды – все это наполняло время, и оно летело быстро.
19 марта мы видим их величества в Роттердаме. Отсюда государь отправился во Францию, а Екатерина возвратилась в Гаагу. Петр не взял жены во избежание тех скучных церемоний, с которыми блестящий двор версальский готов был встретить русскую государыню. Свита царя состояла из следующих лиц: Толстой, князь Куракин (он был свойственник Петра по своей жене, Аксинье Федоровне Лопухиной, родилась в 1678 году, умерла в 1699 году, третья сестра царицы Авдотьи), Шафиров, князь В. Долгорукий, Бутурлин, Ягужинский, Макаров, Черкасов, Арескин, духовник, несколько придворных служителей, между которыми был Иван Орлов, и небольшая команда гренадер.
8 апреля 1717 года государь пешком осматривал город Остенде, в сопровождении своих приближенных. В то время вели на казнь нескольких преступников; один из них, увидав иноземного государя, закричал: „Помилуй, государь!“ Этого крика достаточно было, чтоб возбудить жалость Петра, и он был тронут, испросил жизнь преступнику. Факт любопытный. Крик иноземного солдата-преступника склонил его к милости, а вопли и стоны страдальцев – сына, сестер, жены, родственников, ведомых на лютейшие муки и истязания, не могли вызвать милости.
В то время, когда Петр любовался всеми достопримечательностями, какие представляла ему роскошная столица Франции, Екатерина довольно однообразно проводила время сначала в Гааге, потом в Амстердаме. Здесь и дождалась своего хозяина. Петр приехал 22 июля и первое время после четырехмесячной разлуки ни на час не расставался с женой. Целая неделя прошла в осмотре флота, стоявшего на якоре в пяти милях от Амстердама, и все это время они ночевали на яхте. С ними ли были Гамильтон и Орлов или оставались в городе – неизвестно; надо думать, как необходимая прислуга они сопровождали господ своих и в этих поездках.
В начале сентября государь с государыней были в Берлине. После ряда празднеств 14-го числа Петр поскакал на почтовых в Данциг. За ним поехал Иван Орлов; поехала часть женской прислуги императрицы. Так как государыня сама сбиралась в обратный путь, то, чтоб не иметь, вероятно, задержки в экипажах и лошадях, отправила свой штат партиями.
3 октября царь прибыл в Ревель, с ним вместе были и сопровождавшие его сановники, денщики, между ними Иван Орлов; приехали и дамы из свиты государыни. Кажется, нет сомнения, что между ними была Марья Даниловна Гамильтон, хотя нам достоверно известно из поденной записки Петра, что „ея величество путь свой имела от Риги к Нарве прямо на Дерпт, не въезжая в Пернов и Ревель“.
Гамильтон была в это время беременна в третий раз, притом в последнем периоде, и, вероятно, опасаясь подозрения со стороны государыни либо придворных дам, которые пытливым оком следили за поведением друг друга, отпросилась ехать через Ревель, где, в страстных объятиях Орлова, старалась забыть и свою болезнь, и свою тоску, и тягостное предчувствие о предстоявших ей страданиях…
Надо думать, что Иван Орлов был очень прост и его легко можно было обманывать: по крайней мере, проводя по нескольку часов с Марьей Даниловной, Орлов не догадывался, в каком состоянии его возлюбленная.
«Когда, в Ревеле, – писал он потом при допросах, – я у нея (Гамильтон) шупал и ее спрашивал: «Что, не брюхата ль ты?» И она сказала: «Нет». И я ее опять спросил, и она сказала: «От тебя б я не потаила». «А для чего брюхо туго?» – спросил я потом. «Да ведь ты ведаешь, – отвечала Марья, – что я нездорова. Брюхо у меня туго от запору».
Из того же показания видно, что при отъезде государя из Ревеля Орлов не последовал за ним, а по нездоровью остался в городе. Что же касается до Гамильтон, то она отправилась с другими в Петербург.
3
В полдень 10 октября 1717 года Петр въехал в столицу.
«Сия новая его столица, – восклицает Голиков, – прибытием обожаемого государя своего обрадована была несказанно. Все жители оной вышли во сретение его величеству и изъявили чувство радости своей слезами!»
Не примешивалось ли к этой слезливой радости чувство страха? Гроза-сиверка вновь нагрянула. Государь по приезде немедленно занялся своим обширным хозяйством: обходом и осмотром всех построек, посещением вельмож, беседами с иноземными мастерами, чинением застенков… Несколько дней спустя приехала государыня – и жизнь двора пошла обычным чередом.
Но далеко необычным чередом шла она для Марьи Вилимовны, или, как ее переименовали по-русски, – Даниловны: разлука с любовником, оставшимся еще в Ревеле, беременность в последнем периоде, страх быть узнанной в своем положении, боязнь сплетен, пересудов, насмешек придворных дам и кавалеров, начиная от князей и княжен до денщиков и горничных, – все это делало ее положение невыносимым. Она жила в летнем доме государевом, заперлась в своих комнатках, сказывалась больною, никого к себе не допускала и так искусно умела скрывать свое положение, что ее прислужницы Катерина Терновская да Варвара Дмитриева и казначейша девка Анна (Крамер) долго не подозревали настоящей причины ее болезни. Либо не успев вытравить дитя лекарствами, либо не решившись вновь совершить это преступление, Марья Даниловна с ужасом ждала рокового часа, и злополучный ребенок, плод страстной любви, уже заранее, во чреве матери, был обречен на смерть.
Между тем приехал из Ревеля Иван Орлов и посетил раз, как рассказывает служанка, свою любовницу на летнем дворе, днем, при людях; после чего вскоре уехал по какому-то новому поручению, вероятно, царскому.
В это время, около 15 ноября 1717 года, совершено было задуманное преступление. Приведем рассказ свидетельницы злодейства, служанки камер-фрейлины Гамильтон; рассказ этот, при всей безыскусственности и простоте, прямо переносит на место преступления и ставит лицом к лицу с убийцей.
«Месяц спустя, – показывала впоследствии Катерина Екимовна Терновская, – после приходу из Ревеля, Марья Гамонтова родила ребенка; про то я ведала, а именно таким образом то делалось: сперва пришла Марья в свою палату, где она жила, ввечеру, и притворила себя больною, и сперва легла на кровать, а потом вскоре велела мне запереть двери и стала к родинам мучиться; и вскоре, встав с кровати, села на судно и, сидя, младенца опустила в судно. А я тогда стояла близ нее и услышала, что в судно стукнуло и младенец вскричал; тогда я, Катерина, охнула и стала ей, Марье, говорить:
– Что ты, Марья Даниловна, сделала?
– Я и сама не знаю, – отвечала та, – что делать?
Потом, став и оборотясь к судну, Марья младенца в том же судне руками своими, засунув тому младенцу палец в рот, стала давить, и приподняла младенца, и придавила.
Тогда я, Катерина, заплакав, паки стала ей говорить:
– Что ты, Марья Даниловна, делаешь?
– Молчи, – отвечала она, – дьявол ли где тебя спрашивает?
Придавив ребенка, Марья вынула и обернула его в полотенце.
– Возьми, Катерина, – сказала она мне, – отнеси куда-нибудь и брось.
– Не смею я этого сделать, – отвечала я.
– Когда ты не возьмешь, – сказала Марья, – то призови своего мужа».
Был уже поздний час ночи; родильница, в изнеможении от телесной боли и душевной муки, опустилась на постель. Легла спать и встревоженная служанка. На другой день, по прежнему приказу Марьи Даниловны, Катерина пошла и прислала к ней мужа своего, первого конюха Василия Семенова.
«Марья Даниловна велела мне, – свидетельствует Катерина, – поднесть конюху водки, а потом просила его, Семенова, при мне, Катерине:
– Пожалуй, сего мертвого младенца брось куда-нибудь. Семенов взял и, положа в кулек, понес вон. А тот кулек дала мужу своему я, Катерина. И то делали мы с мужем, и молчали ни для чего иного, только ища в ней милости, а иное ее и бояся, для того, что часто Марья меня, Катерину, бранивала и упрекала:
– Я вас, как нищих, взыскала, и вы меня не хотите слушать».
Мы не думаем, чтоб только одна боязнь удержала служителей Марьи Даниловны от доноса на нее. Напротив, боязнь допроса в застенке скорей должна была вызвать с их стороны донос на убийцу: Катерина и Семенов хорошо знали, какому нещадному истязанию подвергались ведавшие да недонесшие на преступление: их карали одинаково с преступниками. [23]23
Страх наказаний, награда за доносы в такой степени развили у нас шпионство в ту эпоху, что Великий Петр ведал о самых сокровенных событиях; ему препровождали доносы из самых отдаленных мест России, даже за границу, в бытность его там… (Прим. автора.)
[Закрыть]
Итак, не боязнь Гамильтон (она ничего им не могла сделать), а любовь и преданность к доброй госпоже удерживали прислугу от извета. Марья Даниловна, действительно, была очень добра и, по своему времени, щедра для прислуги. Так, например, сама служанка Катерина говорила, что получила от нее в подарок: «серьги с бурмицкими небольшими зернами, чепчик парчевой, маленьких обломков камешков пять или шесть яхонтов, косяк камки, две юбки коломянковые с быстрогами; наконец, пред отъездом в поход (т. е. за границу в 1716 году), Марья Даниловна оставила мне в Петербурге 10 рублев». Из боязни ли или из преданности, как бы то ни было, только ни Катерина, ни муж ее не сделали доноса на учиненное преступление. Дело должно было открыться гораздо позже…
Иван Орлов скоро возвратился в Петербург из командировки. Он посетил Марью Даниловну ночью, на зимнем дворе (т. е. во дворце). Сидел с нею вдвоем, наедине; беседовали долго… Иван Михайлович говорил, между прочим: «Слышал я, по приезде от Кобылякова, что ты чуть было не умерла. Что с тобой сделалось?» – спрашивал он.
«Бок у меня болел, – отвечала камер-фрейлина пытливому любовнику, – также и м пришло».
Марья Даниловна послала Катерину варить кофе и кофеем угощала Ивана Михайловича.
Напившись кофе, Орлов не остался, однако, ночевать, боясь, вероятно, чтоб не хватились его господа и не открыли бы его шашней.
Несколько дней спустя камер-фрейлина прислала за денщиком мальчика с приглашением навестить ее. Тот явился.
– Что с тобой сделалось? – спросил Орлов, вероятно, заметив страдания и слабость любовницы.
– Малехонько было не уходилась, – отвечала больная, – вдруг схватило; сидела я у девок (т. е. фрейлин), и после насилу привели меня в палату, и месяшное вдруг хлынуло из меня ведром.
Орлов поверил.
Между тем, при дворе, между денщиками, фрейлинами, служанками, дамами придворными ходили разные слухи и сплетни, которые тревожили страдалицу, волновали и самого Орлова. Красавец денщик был любимцем нескольких дам придворных и девиц-фрейлин; все они негодовали за то, что предмет их склонности ухаживает за Гамильтон. С другой стороны, у Гамильтон было несколько поклонников между денщиками, пажами и камер-юнкерами; они, из ревности, хотели рассорить ее с Орловым. Те и другие, желая сделать зло – первые Марье Даниловне, вторые Ивану Михайловичу, – сплетнями, рассказами, насмешками смущали любовников.
Таким образом услыхал Орлов от услужливого передатчика сплетен Алексея Юрова, что будто бы тот слышал разговор и шутки насчет Гамильтон Родиона Кошелева с Семеном Алабердеевым.
– Она со мною брюхо сделала, – смеясь, говорил Кошелев. Юров уверял, что Алабердеев выдал хвастливого товарища Марье Даниловне, и убеждал ее жаловаться на обидчика.
– Не знаю только, – говорил Юров, – била ли челом Марья или нет?
Ходили слухи, что у фонтана нашли мертвого подкидыша; говорили, что это дитя Гамильтон; другие указывали на прочих фрейлин и дам: это, мол, их дело. Все эти сплетни и толки до такой степени взбесили Орлова, что он решился лично допросить любовницу.
– Как это на тебя говорят, – спросил он, явясь к фрейлине, – что ты родила ребенка и убила?
Та стала плакать и клясться.
– Разве бы тебе я не сказала (о родах и убийствах), – говорила она, заливаясь слезами, – ведаешь ты и сам, какая (большая охотница) я до робят; разве не могла я содержать в тайне ребенка? Ведь, ты ведаешь, меня здесь никто не любит.
Денщик-любовник, напротив, подозревал (впрочем, напрасно), что Гамильтон была любима слишком многими, более, чем нужно для нее, и тем более для него; что Александр-подьячий и Семен Маврин жили с нею в такой же любовной связи, как и он, и что ребят у нее действительно не могло быть не от убийств, а от множества возлюбленных.
Как ни сильна была уверенность у Орлова, что у камер-фрейлины от множества сотрудников не могло быть детей, однако, после новых сплетен придворных, он опять явился к ней с допросом.
– Как же это, – спрашивал он, – другие-то говорят, что ребенок, найденный у фонтана, твой?
Марья Даниловна вновь стала плакать и божиться.
– Я, ведь, не одна была, – говорила она, – как у меня месяшное появилось.
Орлов вновь поверил. Чтобы окончательно рассеять его подозрения и прервать сплетни, камер-фрейлина, по убеждению Алабердеева, жаловалась на Родиона Кошелева и его неуместные шутки.
Кошелев повинился:
– Посмеялся я с шутки, а не из знания. Из ревности я хотел, чтоб она, постыдившись этих слов, более дружбы с Орловым не имела.
Жертва толков, пересудов, мучимая недугом, угрызениями совести и страхом наказания, Марья Даниловна Гамильтон грустно встретила 1718 год.
Он ничего не обещал ей радостного; грозные тучи скоплялись на горизонте…
Составитель петербургского календаря, уступая общественному предрассудку, а может быть, и сам разделяя его, что по звездам можно предугадывать события «о войне и мирских делех», пророчил, что в наступающем 1718 году случится очень много необыкновенного и более нехорошего, чем хорошего.
«Наипаче дело удивительно, – гласил календарь, – что в августе месяце четыре планеты, а именно Солнце, Иовит, Марс и Меркурий во знак Льва, то есть в дом солнца, весьма близко сойдут, и оное важнее, нежели обычайные Аспекты, ибо во сто лет и больше едва случается, и токмо нет Сатурна и Венеры притом, ибо они на соединение сие гораздо косо смотрят, то есть Сатурн с левой, а Венера с правой стороны в неправом квадрате стоят. Я о сем особливо не могу и не хощу изъяснения чинить, но токмо объявляю, что оное нечто особливое и важное покажет; не мыслю, чтоб оное вскоре в августе учинилось, токмо может действо свое во весь год пространить, ибо оное есть Солнечное дело, того ради окончания имеет с терпеньем ожидать… Сей же год болше к болезням, нежели ко здравию склонен, а особливо зима и весна… Того ради во многих местах слышно будет:
Многая врата аду стерти
Избави нас от внезапный смерти;
И даждь в мире поживши вечно,
Во славе твоей быти безконечно!» [24]24
Это был первый из ежегодных календарей в России; он был уже отпечатан в сентябре 1717 года, и Меншиков, при письме, послал его к царю Петру за границу. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Оставим, однако, календарь, который, на этот раз, совершенно случайно не солгал, предсказав болезни (много переболело от пыток), смерть, общие моления о ниспослании помощи от всех напастей, и последуем за Великим Петром.
15 декабря 1717 года, государь, расписав во все коллегии президентов, поспешил в Москву, чтоб все приготовить для приема первенца сына. За ним поскакали его приближенные, его денщики (между ними Иван Орлов). На другой день, со своею свитою и фрейлинами (между ними была Гамильтон), выехала из Петербурга Екатерина Алексеевна. 23 декабря державные супруги были в Белокаменной.
Петр, по словам его поденной записки, по приезде в Москву, «стал упражняться в гражданских делах».
Эти «гражданские» дела состояли в следствии и суде над сыном, первой женой, сестрами, десятками вельмож, именитых духовных, именитых женщин и проч.
В нескольких словах, но прекрасно характеризует это страшное время М. П. Погодин: «Свозятся со всех сторон свидетели, участники; допросы за допросами, пытки за пытками, очные ставки, улики, и пошел гулять топор, пилить пила и хлестать веревка!
Запамятованное, пропущенное, скрытое одним – воспоминается другим, третьим лицом на дыбе, на огне, под учащенными ударами и вменяется в вину первому, дает повод к новым встряскам и подъемам. Слышатся еще имена… Подайте всех сюда, в Преображенское!