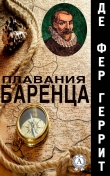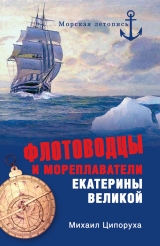
Текст книги "Флотоводцы и мореплаватели Екатерины Великой"
Автор книги: Михаил Ципоруха
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Тойон собрал отряд в 100 байдар, чтобы отбиться при нападении племен полуострова Аляска. Но до Креницына добрались лишь две байдарки, остальные воины либо погибли в сражениях, либо отстали. На о. Уналашка тойон возвратился в сопровождении 22 байдар. Но свой военный поход этот тойон посчитал удачным, так как получил солидные подарки от командиров обоих судов.
В доставленном Левашову письме Креницын сообщал, что выйти в плавание не может из‑за малочисленности людей и их болезни. Естественно, Левашов повел гукор на соединение с начальником экспедиции. Оно и состоялось 6 июня 1769 г.
Моряки гукора помогли экипажу галиота привести последний в готовность к плаванию, часть из них вошла в состав экипажа галиота взамен погибших. 23 июня 1769 г. оба судна снялись с якорей и вышли в море. На берегу о. Унимак начальник экспедиции П. К. Креницын поставил у покинутых моряками жилищ «деревянный крест и на оном же медный. В том кресте, в скважине» осталась записка о пребывании на острове экспедиции и сообщение о «зверских нравах и злых обычаях тутошних жителей». Остались на острове 36 крестов над могилами умерших моряков галиота.
23 июня галиот и гукор покинули бухту Св. Екатерины и направились в обратный путь к Камчатке. В течение трех дней Креницын и Левашов описывали все острова группы Креницына,
26 нюня суда вновь разлучились из‑за непогоды. Креницын пришел в устье р. Камчатки 30 июля.
Левашов с 27 июня по 2 июля плавал в районе южнее Уналашки и Умнака. Затем он повернул на запад и описал Четырехсопочные острова, лежащие между Умнаком и Амухтой. 8–9 июля он прошел проливом между островами Амухта и Амля в Берингово море и после тяжелого двадцатидневного плавания достиг о. Медного. Затем за 11 дней он обогнул о. Беринга и после двухнедельного плавания добрался до Нижне–Камчатска, куда он прибыл 24 августа 1769 г.
Провианта у экспедиции не было. Моряки из‑за слабости и болезни не могли выполнять необходимые парусные и такелажные работы по подготовке к дальнейшему плаванию к Охотску. Креницын решил остаться зимовать в Нижне–Камчатске.
Зиму 1769–1770 гг. экипажи галиота и гукора провели в Нижне–Камчатске, испытывая крайнюю нужду. На оставшиеся в судовой казне деньги они вынуждены были для питания моряков покупать у местных жителей рыбу по цене, в 5 раз превышавшую казенную. Пришлось командирам организовать собственный «рыболовный промысел», который дал возможность и дожить до лета и даже засолить ко времени выхода судов 19 бочек рыбы.
Уже на Камчатке Креницын узнал, что ему 4 июня 1769 г. было присвоено звание капитана 1-го ранга.
27 нюня 1770 г. галиот «Св. Екатерина» и гукор «Св. Павел» были полностью готовы к отплытию в Охотск. Ждали лишь попутного ветра. Но тут экспедицию постигло большое несчастье. 4 июля утонул начальник экспедиции капитан 1-го ранга П. К. Креницын. Он в небольшой лодке перебирался на другой берег р. Камчатки. Набежавшая внезапно волна перевернула небольшую лодку. Вместе с ним утонул и гребец–казак Иван Черепанов.
Команду над экспедицией принял капитан–лейтенант Михаил Дмитриевич Левашов. Он совместно с штурманом Дудиным меньшим сосчитал на галиоте казну. Денег оказалось 1541 рубль 27 копеек. Деньги, а также все секретные инструкции, переписку и морские журналы Левашов перенес на гукор.
9 июля гукор иод командой Левашова и галиот иод командой штурмана Дудина–меньшего вышли из устья р. Камчатки в море. И 3 августа благополучно прибыли в Охотск.
Оттуда Левашов с частью команды и с молодыми алеутами–толмачами направился в Якутск, сперва на лошадях до Юдомского креста, а затем на лодках по рекам Юдоме, Мае и Алдану до Поторской переправы, оттуда до Якутска опять на лошадях. В Якутск экспедиция прибыла 4 октября 1770 г.
По прибытии в Якутск Левашов отправил нарочного в Тобольск к сибирскому губернатору Чичерину. В рапорте на имя Адмиралтейств–коллегии он сообщал о смерти П. К. Креницына.
Чичерин отправил рапорт Левашова в Адмиралтейств–коллегию. Известие о гибели Креницына чрезвычайно взволновало камергера Екатерины II генерал–поручика графа И. Г. Чернышева. 12 января 1771 г. он обратился к Чичерину с особым личным письмом, прося в нем сообщить подробности гибели Креницына и представить материалы экспедиции. Ответ на это письмо Чичерин направил 2 апреля 1771 г. В нем он сообщал о приезде Левашова с командой в Тобольск и о том, что в связи с разделением Сибири на две губернии – Тобольскую и Иркутскую – он не сможет далее оказывать Адмиралтейств–коллегии содействие в организации дальнейших исследований в Восточном океане, по видимому, намечавшихся Чернышевым.
В Петербург Левашов с командой экспедиции прибыли 22 октября 1771 г., т. е. через 7 лет и 4 месяца со дня выезда. В ноябре 1771 г. он представил Адмиралтейств–коллегии неполный список участников экспедиции, озаглавленный «Наряды». Вероятнее всего, это был список участников экспедиции, представленный к наградам и поощрениям. Сам М. Д. Левашов еще 12 марта 1771 г. был произведен в капитаны 2-го ранга, а ровно через месяц после возвращения – в капитаны 1-го ранга. Молодые алеуты–толмачи были отправлены обратно в Нижне–Камчатск.
Такое быстрое продвижение Левашова в чинах, вероятнее всего, свидетельствовало о том, что ни императрица, ни Адмиралтейств–коллегия не считали экспедицию Креницына – Левашова неудачной, несмотря на значительные расходы, гибель начальника экспедиции, большого числа ее участников и двух судов, а также незначительные результаты сбора ясака.
Сам М. Д. Левашов после возвращения из экспедиции в 1772 г. был назначен командиром нового линейного корабля «Борис и Глеб» и совершил на нем переход из Архангельска в Кронштадт. Известный отечественный географ и статистик, многолетний глава Русского географического общества П. Семенов–Тяньшанский в статье о М. Д. Левашове сообщил: «Расстроенное продолжительной экспедицией в северных водах здоровье побудило его в 1773 г. выйти в отставку, а в следующем году он скончался» [7, с. 123].
Вскоре по прибытии в Петербург Левашов представил Адмиралтейств–коллегии «Экстракт из журналов морской секретной экспедиции под командою флота капитана Креницына и капитан– лейтенанта (что ныне капитан) Левашова разных годов в бытность их в той экспедиции, с 1764 по 1771 год». В нем он сжато и сухо изложил историю плавания экспедиции, а в конце дал отдельные записки «Описание острова Уналашки», «О жителях того острова», «О ясаке», «О промысле Российских людей на острове Уналашке разных родов лисиц».
Особую ценность для науки представляли записки «О жителях того острова». Они содержали крайне интересные сведения о быте и культуре алеутов, народа, в то время еще не подвергшегося европейскому влиянию. Приведем отрывки из этих записок, приведенные в 7, с. 118–120.
«Оной народ росту не малого; волосы имеют на головах черные, жесткие; лицо смуглое, русаковато, а телом черноваты». Жилища алеутов – «земляные юрты, в которых сделаны подставки из выкидного лесу», – Левашов описывает очень кратко. В частности, он не отмечает у алеутов крупных жилищ, вмещающих большое число людей, о чем сообщали русские промышленники, промышлявшие в то же время на Алеутских островах. Эти промышленники отмечали наличие у алеутов жилищ как больших, так и малых.
По поводу пищи алеутов и их способа добывания огня он писал, что для варки пищи алеуты употребляют выкидной лес. Варили они мало, больше питались сырой рыбой, ракушками, морской капустой и т. п. Из съедобных растений он упоминал о «камчатской лилии»(саране) , в луковицах которой содержится много крахмала и сахара, и о «гречихе живородящей»(макарше).
«По надобности своей вырубают огонь: на какой ни есть камень положат сухой травы и птичьего пуху, которые осыплют мелкою горячею серою, и ударят о тот камень другим, от чего сделаются искры, и положенная на камень сера, с травою и птичьим пухом загорится; а некоторые достают огонь и деревом, наподобие как сверлом вертят».
Выяснил он, что алеуты, по крайней мере, те, которых он встречал, не отапливали своих жилищ. «А во время студеные погоды оные жители, в юртах и в проезде, выходят на берег согреваться: ставят между ног с китовым жиром плошки; и зажигают тот жир, положа на него сухую траву, от чего и нагреваются». Но так делали не все алеуты; некоторая – весьма незначительная – часть разводила огонь непосредственно в юртах.
В своих записках Левашов подробно описал орудия лова и оружие алеутов: «Рыбу промышляют костяными крючками, привязывая на длинную морскую капусту, которую делают сперва, напаяют китовым или другим жиром, а потом просушивают. Зверей и птиц бьют стрелами костяными, вкладывая их в деревянные тонкие штоки, бросая правою рукою с дощечки; а лисиц для себя не промышляют, анив какое платье их не употребляют. А имеют же они и каменные стрелы, которые вкладываются в деревянные же штоки; а употребляют их во время бою с людьми, потому что от сильного ударения, по тонкости стрел камень ломается и остается в человеке».
Особо внимательно он описывает конструкцию легких алеутских лодок – одноместных, обшитых кожей (на деревянном остове) байдарок. «У них сделаны байдарки наподобие челноков, из тонких деревянных трещин [28] 28
реек. – Авт .
[Закрыть] , обтянуты опареною китовою или нерпичьею кожею как дно, так и крышка; длиною же байдарки от 16 до 18 футов [29] 29
от 4,88 до 5,5 м. – Авт.
[Закрыть] , шириною по верху 1 ½ фута [30] 30
0,46 м. – Авт
[Закрыть] , и другие несколько более, глубиною 14 дюйм [31] 31
35,6 см. – Авт.
[Закрыть] ; и на середине круглое отверстие, в которое садится человек на дно той байдарки, в руках одно веселко, у которого на обеих концах сделаны лопаточки, и гребет им на обе стороны; а во время волнения обтягивают около того отверстия и около себя выделанною широкою китовою кишкою, чтобы не могла в байдарку попасть вода».
Описал Левашов одежду, украшения и прически алеутов, их нравы и обычаи. «Платье носят – мужчины из разных птичьих кож с перьями, называемые парки, длиною до пят. Сверх оных парок, во время езды на байдарках пли в дождливое время, надевают шитья из китовых тонких кишок, называемые камлеи. На головах носят шапки деревянные, утыканные перьями и сиучьими [32] 32
теперь говорят сивучьими. – Авт.
[Закрыть] усами, тако ж укладены разных цветов корольками [33] 33
бусами. – Авт.
[Закрыть] и маленькими, сделанными из кости или мягкого белого камня, статуйками. В нижнюю губу вставливают сделанные из такого ж камня, а другие из кости, наподобие больших зубов; и между ноздрей, в хряще, в проколотую нарочно дырочку, кладут какую‑то черную траву пли кость, наподобие нагелька [34] 34
гвоздика. – Авт.
[Закрыть] . А в хорошее время, или во время веселья, в ушах, да и между вставленных зубов в нижней губе, навешивают бисер и янтарики, которые достают с острова Аляксы, меною на стрелы и камлеи, а более войною… У мужчин волосы на переди подрезаны по самые глаза, а назади просто, и по большей части поверх головы, на теме, выстрижено наподобие гуменца…
Женщины платье носят длиною такое ж, как и у мужчин, токмо шито из морских котов; а шьют иглами костяными, нитки делают из китовых жил. На головах ничего не имеют, волосы на переди подрезывают так, как и мужчины, а назади завязывают пучком высоко. Щеки поперек ряда в два пли три вытыканы и натерты из синя краскою. В носу ж, как и у мужчин, в хряще продета костяная спица, дюйма три с половиною [35] 35
8,89 см. – Авт.
[Закрыть] , а на концах оной, вокруг рта и на ушах, навешены корольки и янтарики. Около ушей навешен бисер, который выменивают у российских промышленных людей на бобры и лисицы. На руках и на ногах обшиты узкие, из нерпичьей или китовой кожи, нагавочки [36] 36
короткие чулки. – Авт.
[Закрыть] ».
Основываясь на данные записок, академик П. Паллас приводил некоторые данные об организации алеутского общества: «Каждое селение, по описанию Креницына, имеет особливого начальника, которого они называют – туку (тойон) и который пред прочими ни саном, ни почестями не отменит [37] 37
не отличается. – Авт.
[Закрыть] . Он решит споры с общего согласия соседей и ежели выезжает на судне в море, то имеет при себе служителя, который называется хате и гребет вместо него. В сем заключается его приметное преимущество; в прочим же работает он так, как и другие. Сие звание не наследственное, но дается тем, которые отличают себя отменными качествами, или имеют у себя много друзей. И потому весьма часто бывает избираем в тойоны тот, кто самое большое имеет семейство».
Левашов отмечает, что алеуты, совершая набеги на «остров Аляксу», увозят оттуда «баб, девок и ребят себе в холопы, а про их названию в калги», что алеутское общество не однородно, а расслаивается «по достатку», степень которого определяется числом жен, причем алеут «на сколько жен может сделать парок, столько и жен имеет».
Описал Левашов культы алеутов, их праздники («веселости»), которые были тесно связаны с магическими обрядами. «Оной народ бога не исповедует. А имеет таких людей, которые сказывают им будущее, кто об чем загадает, а называют их шаманы или колдуны, которые объявляют, будто им обо всем сказывает дьявол. А во время их веселостей, в плясании надевают на себя сделанные из дерева и выкрашенные разными красками маски, а лучше назвать хари, которые сделаны по их объявлению, наподобие казавшихся им во время шаманства дьяволов, а по ихнему названию кучах. И во время той пляски бьют в бубны, сделанные обычайно, наподобие обруча с рукояткою, и обтянутые китовою тонкой кожею; и кричат все как мужчины, так и женщины, песни. Мужчины сидят особливою толпою, тож и женщины. И пляшут по одному человеку, начиная с малых ребят, а женщины по одной и по две, имея в руках по пузырю надутому. И оная веселость начинается у них по прошествии китового промыслу, т. е. с
половины декабря и продолжается до апреля месяца».
Безусловно, велики научные результаты, полученные в ходе экспедиции. Ведь ценой больших усилий и немалых жертв российские моряки положили начало систематической съемке, «математическому определению» грандиозной Алеутской гряды, протянувшейся на 940 миль. Правда, определение широт, а в особенности долгот было сделано недостаточно верно – сказались отсутствие точных приборов и трудности определения координат астрономическим способом из‑за частых туманов и густой облачности. Академик П. С. Паллас в связи с этим отметил: «Туманы бывали так часты, что посреди лета редко пять дней сряду продолжалась ясная и хорошая погода»[7, с. 124]. Но зато планы островов и бухт были сделаны исключительно добротно. По материалам экспедиции в 1777 г. в чертежной Адмиралтейств–коллегии была составлена карта, озаглавленная так: «Карта новообысканным российскими промышленниками на Тихом океане дальним островам, на которых 1768 года флота капитан Креницын (по разлучении от великого шторма) с капитаном–лейтенантом Левашовым (и не зная кто, где находится первый – на «Св. Екатерине», гальоте, в Аляскинском проливе, подле острова Унимак; второй на гукоре «Св. Павел», острове Уналашка, с северной стороны, в губе Игунок) зимовали. А 1769 года через жителей острова Уналакши гальот «Св. Екатерина» сыскан и гукор «Св. Павел» в той Аляскинской проливе паки соединился»[2, с. 447].
Ясно одно, именно эта экспедиция стимулировала интерес российских властей к дальнейшему изучению и освоению Алеутских островов и западного побережья Аляски.
Интересна дальнейшая судьба материалов секретной экспедиции Креницына – Левашова. Известный шотландский историк В. Робертсон, работая над книгой «История Америки», через своего земляка Роджерсона, являвшегося первым врачом императрицы Екатерины II, попросил императрицу дать ему возможность получить информацию о русских открытиях во время плавания от Камчатки к американским берегам., чтобы проверить сведения о кратчайшем пути из Азин в Америку. Робертсону необходимы были именно сведения о последних экспедициях, так как о плавании Беринга и Чирикова в 1741 г. был опубликован подробный отчет. Врач Роджерсон уверял императрицу, что многие иностранные ученые считают, что русское правительство замалчивает успехи, достигнутые русскими моряками. Но ученый Робертсон, говорил врач англичанин, не поддерживает этого мнения. Такое поведение русского правительства кажется Робертсону «несовместимым с благородными чувствами, величием души и покровительством науки, которые отличают нынешнюю русскую государыню».
Но после этого императрица приказала немедленно перевести для Робертсона журнал Креницына (т. е. отчет Левашова) и скопировать подлинную карту плавания. «Благодаря этим материалам, – писал Робертсон в предисловии к первому изданию своей «Истории Америки», вышедшей в свет в Лондоне в 1777 г., – у меня сложилось высокое мнение о прогрессе в этом направлении и о размахе русских открытий» [7, с. 123].
Робертсон передал полученные материалы по русской экспедиции спутнику Джеймса Кука, священнику Вильяму Коксу, который включил материалы об экспедиции Креницына в виде специального приложения в свой «Отчет о русских открытиях между Азией и Америкой», опубликованный в 1780 г. В следующем году книга Кокса была переведена на французский язык.
В том же 1781 г. академик Петр Симон Паллас опубликовал почти те же материалы на русском и немецком языках в «Месяцеслове историческом и географическом» за 1781 г. (с картой). В 8090 гг. XVIII в. вышло, по крайней мере, 6 изданий материалов экспедиции Креницына и Левашова на четырех языках, причем особенным интересом читателей пользовалось этнографическое описание алеутов, написанное М. Д. Левашовым.
В память о капитане 1-го ранга П. К. Креницыне в 1805 г. знаменитый мореплаватель И. Ф. Крузенштерн назвал мыс и гору на острове Онекотан (Курильские острова) и пролив в Курильской гряде, а также открытые экспедицией П. К. Креницына – М. Д. Левашова в 1769 г. острова у побережья Северной Америки. И, наконец, отечественный мореплаватель М. И. Станюкович в 1828 г. назвал в честь П. К. Креницына мыс в Бристольском заливе на побережье Аляски.
А в память о М. Д. Левашове названы мыс на Охотском побережье Камчатки, гора и мыс на о. Парамушпр (Курильские острова), а также пролив в Курильской гряде, открытый И. Ф. Крузенштерном в 1805 г. и тогда же получивший свое название. Глава 3 Исследования русских путешественников по трассе Северного морского пути в эпоху Екатерины Великой
В моей послушности крутятся
Там Лена, Обь и Енисей,
Где многие народы тщатся
Драгих мне в дар ловить зверей;
Едва покров себе имея,
Смеются лютости Борея,
Чудовищам дерзают в след,
Где верьх до облак простирает,
Угрюмы тучи раздирает
Поднявшись с дна морского лед.
Михаил Ломоносов
В 1760 г. сибирский губернатор Ф. И. Соймонов поручил начальнику над Охотским и Камчатским краем полковнику Ф. X. Плениснеру «стараться о проведывании земель, лежащих как к северу от устья Колымы, так и против всего Чукотского побережья». Для выполнения приказания Плениснер отправил в 1763 г. из Анадыря два отряда: под начальством крещеного чукчи казака Николая Дауркина – на Чукотский полуостров, и под начальством сержанта Степана Андреева на Медвежьи острова, впервые посещенные русским промышленником Иваном Вилегиным в 1720 г. Эти острова расположены к северу от устья Колымы. Причем при открытии этих островов И. Вилегин заявил, что он «нашел землю, токмо не мог знать – остров ли или матерая земля» [8, с. 246].
Дауркин перебрался из Анадыря на Чукотский полуостров, собрал от местных жителей сведения об их стране и о землях, лежащих к востоку и северу от полуострова, сам в октябре 1763 г. перешел на оленях на о. Ратманова в Беринговом проливе. Возвратившись в Анадырь в 1765 г., он сообщил, что по собранным от чукчей сведениям, в «Колымском море», т. е. в море, лежащем к северу от устья Колымы и Чукотского полуострова, лежит большая земля, на которой живут люди. Причем будто бы эта земля даже якобы перемещается при сильных ветрах на одну версту дальше в море, а при тихой погоде возвращается на старое место. Видимо, это были фантастические данные, почерпнутые из чукотских сказаний.
А Андреев в 1763 г. переехал по льду на Медвежьи острова и впервые описал их. Вследствие недостатка корма для собак он не смог добраться «на имеющуюся впереди к северной стороне большую землю» и возвратился назад на материк.
По доставленным Андреевым материалам Плениснер составил первую карту Медвежьих островов. Он и дал островам название: «понеже как по журналу и рапорту Андреева [видно], что на тех островах очень довольно медвежьих следов, да и живых медведей несколько видели, а иных убили». Плениснер был убежден, что к северу от Чукотки и Колымского края существует «Американская земля со стоячим лесом», которая соединяется с материком Северная Америка. Поэтому в следующем,
1764 г. он вновь послал Андреева на Медвежьи острова с целью достичь лежащую севернее «большую землю». 3 мая во время второй поездки Андреев увидел к северо–востоку от Медвежьих островов «вновь найденный шестой остров [38] 38
до этого им было описано 5 Медвежьих островов. – Авт.
[Закрыть] , весьма не мал, в длину, например, верст 80 и более»[8, с. 247]. На пути к этому острову, в расстоянии от него около 20 верст, Андреев «наехал незнаемых людей свежие следы на восьми санках оленьми, только перед нами проехали; ивто время пришли в немалый страх»[8, с. 248]. Так как в это же время сопровождавший Андреева юкагир Е. Коновалов тяжело заболел, то Андреев вернулся в Нижне-Колымск.
Усмотренный Андреевым остров больше никто никогда не видел, так и не ясно, он умышленно донес о несуществующем острове, зная о взглядах Плениснера по поводу наличия большой земли к северу от Медвежьих островов, либо был введен в заблуждение сильной рефракцией и торосистыми льдами. Но гипотетическую «Землю Андреева» впоследствии еще долго даже иногда изображали на картах.
В это же время были проведены выдающиеся плавания Никиты Шалаурова, одного из первых мореходов, стремившихся к освоению Северного морского пути.
Никита Шалауров и Иван Бахов, мореходы из устюжских купцов, в 50-х гг. XVIII в. подали правительству прошение о дозволении сыскать Северный морской путь из устья р. Лены в Тихий океан. Известный историк российского флота полковник Корпуса флотских штурманов Василий Николаевич Берх (1781–1834) в своей работе «Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны» отмечает, что И. Бахову была известна «часть науки кораблевождения». В 1748 г. И. Бахов совершил плавание из Анадыря на Камчатку, потерпел кораблекрушение у о. Беринга, где зазимовал. В 1749 г. он на построенной из остатков судна Беринга шлюпке возвратился на Камчатку.
В 1755 г. Сенат издал указ, по которому «Ивану Бахову и Никите Шалаурову для своего промысла, ко изысканию от устья Лены реки, по Северному морю, до Колымы и Чукотского Носа отпуск им учинить»[8, с. 248].
На выстроенном на Лене небольшом судне – галиоте или шитике, который по некоторым данным назывался «Вера, Надежда, Любовь», с партией промышленников из ссыльных и беглых солдат Шалауров и Бахов вышли в 1760 г. в море, но из‑за тяжелой ледовой обстановки дошли только до устья р. Яны. Перезимовав там, на следующий год при более благоприятной ледовой обстановке вышли в море и добрались до устья Колымы, где за поздним временем года вновь зазимовали. Там во время зимовки от цинги скончался Бахов.
Летом 1762 г. Шалауров на том же судне продолжил плавание на восток, но у мыса Шелагского вследствие неблагоприятных условий погоды повернул обратно. На пути он обследовал Чаунскую губу, которую до того не посещал ни один путешественник. Шалауров нанес на карту берег от устья Колымы до Чаунской губы.
После вторичной зимовки в устье Колымы Шалауров хотел в 1763 г. повторить попытку пройти вдоль чукотского побережья в Тихий океан, но его команда, уставшая от тяжелой жизни в плаваниях и на зимовках, взбунтовалась и разбежалась.
Но Шалауров не отступил, не пал духом. Он, побывав в Москве, добился правительственной субсидии для продолжения начатых исследований. В 1764 г. он опять вышел из устья Колымы в море и не вернулся. Вероятнее всего, его судно было раздавлено льдами и он со всей командой погиб.
Обстоятельства гибели экспедиции так и остались неизвестны.
В 1792 г. чаунские чукчи рассказали капитану 1-го ранга И. Биллингсу, путешествовавшему по Чукотке, что за несколько лет до того они нашли «палатку, покрытую парусами, и в ней много человеческих трупов, съеденных песцами». Это был, по видимому, последний лагерь Шалаурова. В 1823 г. помощник лейтенанта Ф. П. Врангеля, мичман Ф. Ф. Матюшкин (оба впоследствии адмиралы) при обследовании побережья Восточно–Сибирского моря обнаружил этот лагерь, где отважный Шалауров жил со своими спутниками после гибели судна. Лагерь находился к востоку от устья р. Веркона, в месте, которое на современных картах называется «мыс Шалаурова Изба». Чукчи рассказали Матюшкину, что много лет назад они нашли здесь хижину и в ней несколько человеческих скелетов, обглоданных волками, немного провианта и табаку, а также большие паруса, которыми вся хижина была обтянута. Матюшкин обследовал все зимовье, но ему не удалось найти каких‑либо признаков, безусловно подтверждавших, что в хижине жил Шалауров. Позже эту хижину посетил и Врангель, который заключил, что «все обстоятельства заставляют полагать, что здесь именно встретил смерть свою смелый Шалауров, единственный мореплаватель, посещавший в означенный период времени сию часть Ледовитого моря. Кажется, не подлежит сомнению, что Шалауров, обогнув Шелагский мыс, потерпел кораблекрушение у пустынных берегов, где ужасная кончина прекратила жизнь его, полную неутомимой деятельности и редкой предприимчивости».
Результатом плаваний Шалаурова в 1761–1762 гг. было создание им карты от устья Лены до Шелагского мыса, на которой, по словам Врангеля, берег был «изображен с геодезической верностью, делающею немалую честь сочинителю»[8, с. 249]. Шалауров произвел также наблюдения над магнитным склонением и морскими течениями.
Фамилия отважного исследователя осталась на географической карте. По его фамилии названа гора на побережье Восточно–Сибирского моря, к востоку от Чаунской губы, мыс на о. Большой Ляховский, Восточно–Сибирское море (назван в 1906 г. отечественным полярным исследователем К. А. Воллосовичем). Остров Шалаурова в Восточно–Сибирском море к востоку от Чаунской губы был открыт и обследован в 1823 г. лейтенантом Ф. П. Врангелем, им же назван по фамилии Шалаурова. А о мысе Шалаурова Изба мы уже упоминали. Этот мыс назван так экспедицией Ф. П. Врангеля в 1823 г. в связи с тем, что там были найдены остатки зимовья Шалаурова. И, наконец, по фамилии Шалаурова назван остров Шалауровский в Восточно–Сибирском море в устье р. Колыма. Неотъемлемой частью Северного морского пути являются проливы архипелага Новая Земля. Вообще– то русские люди побывали на Новой Земле в незапамятные времена – еще в XIII‑XIV вв., а может быть, и раньше. Бесспорно, что поморы – жители Беломорья – вели промысел на Новой Земле (по– поморски Матица или Матка) с конца XV в., а наиболее активно в XVII‑XVIII вв.
Первое известное историкам географических открытий плавание вдоль всего (около 1 тыс. км) восточного берега Новой Земли совершил в начале 60-х гг. XVIII в. кормщик (мореход – глава поморской промысловой артели) Савва Феофанович Лошкин. Он занимался промыслом в югозападной части Карского моря. В ходе промысла Лошкин с артелью продвигался постепенно на север и дважды зимовал на восточном берегу архипелага. Вторая зимовка, вероятнее всего, была вынужденной: до самого северного мыса архипелага ему оставалось пройти буквально несколько километров, но тяжелые льды наглухо перекрыли путь. А на третий год он все же обогнул Северный остров и прошел Баренцевым морем на юг вдоль западного берега архипелага. Рассказ Лошкина об этом длительном плавании вокруг архипелага записан в 1788 г. Василием Васильевичем Крестининым, сыном архангельского купца, коренного помора, со слов известного кормщика Ф. И. Рахманина.
В. В. Крестинин записывал рассказы опытных кормщиков о «полунощных странах». Эти записи включают первые сравнительно детальные географические сведения о Большеземельской тундре, собранные около 1785 г., об о. Колгуеве и архипелаге Новая Земля. «Большеземельский хребет» – безлесный район с высотой холмов до 200 м, начинается примерно в 40 км от р. Печоры и простирается до Урала. В. Крестинин первым сообщил о р. Усе (притоке Печоры) и ее многочисленных притоках.
По сведениям, полученным в 1786 г. от помора – мезенца Никифора Рахманина, Крестинин дал первую характеристику «округлого острова» Колгуева: длина его «по окружности» 380 км (преувеличено); на юге его только одна губа – Промойная; на нем четыре реки (их больше) и много озер. «Поверхность острова, составляющая равнину, покрывается мохом, частью белым и сухим». Первый постоянный поселок был основан там около 1767 г., когда 40 раскольников поставили в устье одной реки скит и прожили на острове около четырех лет, почти все они погибли, лишь двое возвратились в Архангельск.
В 1787–1788 гг. В. В. Крестинин записал рассказы некоторых промышленников, в основном кормщика Ивана Шукобова, о «великом острове» Северного океана – «Новой Земле полунощного края», о западных берегах о. Южного и о. Северного – основных двух островов этого архипелага и о рельефе их внутренних районов. На юге архипелага поморы–промышленники открыли и обследовали губу Безымянную, полуостров Гусиная Земля и о. «Костинская Земля» (о. Междушарский), отделенный от о. Южного дугообразным длинным (более 100 км) проливом Костин Шар. У о. Северный они открыли губы Митюшиха (немного севернее западного входа в пролив Маточкин Шар) и Машигина (далее на север на западном берегу о. Северный), а также острова Горбовы (еще севернее у 75°55' с. ш.) Все опрошенные считали архипелаг Новая Земля продолжением уральского хребта, но сильно преувеличивали ее длину, считая ее до 2500 верст, т. е. по крайней мере в два раза.
Наиболее полные сведения о рельефе архипелага Крестинин получил от кормщика Федора Заозерского. Тот сообщил, что вдоль всего западного побережья простирается беспрерывная цепь голых каменных гор, цветом серых или темных, которые подходят большей частью к берегу. Некоторые из них обрываются в море утесами, стоят, «аки стена, неприступны». Кормщик отметил лишь три района, где горы отсупают от берега: близ южного входа в Костин Шар, весь полуостров Гусиная Земля и участок к югу от пролива Маточкин Шар – все это низкие каменистые «равнины». На о. Северный за 75°40' с. ш. «высочайшие ледяные горы простираются. к северу и в некоторых местах самый берег Новой Земли скрывается от глаз».
Сумел В. В. Крестинин опросить зимовавшего на о. Южный 26 раз помора–кормщика Федота Ипполитивича Рахманина. Тот сообщил, что низкие равнины составляют всю «Костинскую Землю» (о. Междушарский) и южную часть о. Южный. Далее начинается хребет, повышающийся к северу. «От восточного устья Маточкина Шара бесперерывный кряж гор высоких идет до северной оконечности Новой Земли». А береговая полоса к югу от Маточкина Шара до Карских Ворот (пролив между архипелагом и о. Вайгач) – «земля низкая, мокрая, покрытая мохом сухим и болотным»[9, с. 16–17]. Как видим, поморы–промышленники к этому времени уже немало знали о таинственном северном архипелаге.