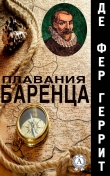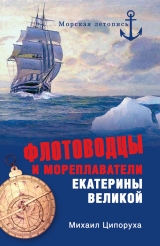
Текст книги "Флотоводцы и мореплаватели Екатерины Великой"
Автор книги: Михаил Ципоруха
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В Охотске строившиеся для экспедиции два судна еще не были готовы. Местные судостроители сумели только положить кили и установить несколько шпангоутов. Затем строительство судов прекратили из‑за недостатка лесных материалов. Креницыну пришлось вмешаться и взять дело строительства судов в свои руки. Суда были спущены на воду 25 августа следующего, 1766 г.
Для экспедиции построили бригантину «Св. Екатерина» длиною по килю 60 футов, шириною 12 футов (18 и 3,6 м соответственно), ею командовал сам Креницын. Это был небольшой бриг, легкое двухмачтовое судно с прямыми и косыми (на гротмачте) парусами.
Вторым вновь построенным судном был гукор «Св. Павел» длиною по килю 55 футов, шириною 18 футов (16,5 и 5,4 м), им командовал Левашов. Гукор являлся промысловым двухмачтовым судном с широким носом и круглой кормой. Кроме того, для участия в экспедиции отремонтировали два старых судна, находившиеся в Охотском порту: галиот «Св. Павел», торговое двухмачтовое судно, командир штурман Дудин–меньший, и бот «Св. Гавриил», небольшое гребно–парусное судно, командир Дудин–больший.
Команда бригантины состояла из 72 человек, в том числе 2 штурмана, один подштурман, 3 штурманскихученика, подлекарь, канцелярист, «сын боярский один» (служилый из обедневшего боярского рода), 2 боцмана, кузнец, токарь, 46 казаков, зачисленных как матросы, 3 промышленника и др. На гукоре в команду включили 52 человека, в том числе 37 казаков в качестве матросов, 2 промышленника; команда галиота состояла из 43 человек, из них 32 казака в качестве матросов и двое промышленников; на боте команда составилась из 21 человека, среди них 19 казаков в качестве матросов.
На все суда был погружен годичный запас провианта, пушки, ружья, порох и промысловое снаряжение. Но выйти из Охотска на Камчатку судам удалось только довольно поздно – 10 октября 1766 г., а это время характерно для Охотского моря частыми сильными штормами.
На третий день плавания пасмурная погода и сильный шторм разлучили суда, которые продолжили плавание самостоятельно. Моряки бригантины «Св. Екатерина» впервые увидели западное побережье Камчатки 17 октября, но подойти к нему сразу не удалось. В корпусе бригантины открылась сильная течь. Морякам проходилось постоянно отливать воду ведрами. Следуя вдоль берега на юг, Креницын подошел к устью р. Большая., но шторм не позволил пройти в устье реки. Через 2 дня сильный шквал выбросил бригантину на прибрежную мель в 25 верстах севернее Большерецка и в двух верстах к югу от р. Утки. Команда с трудом добралась до берега, вынеся на берег денежную казну и секретные документы. Провиант и снаряжение было залито водой.
Гукор «Св. Павел» под командой Левашова подошел к берегу Камчатки 18 октября. «За стужею, снегом и дождем, а более для великого волнения» не удавалось отойти от берега в море, и 25 октября недалеко от устья р. Большая гукор потерял руль и его вынесло на прибрежную мель. Команда сумела сойти на берег.
Бот «Св. Гавриил» под командой штурмана Дудина–большего сумел зайти в устье р. Большая, но и там штормовая волна залила судно водой и выбросила на берег. Команда вся спаслась.
А галиот «Св. Павел», где команду возглавлял штурман Дудин–меньший, штормом вынесло Первым Курильским проливом в Тихий океан. 21 ноября штурману Дудину–меньшему все же удалось подвести галиот к Авачинской губе на юго–восточном побережье Камчатки, но из‑за скопления льда войти в нее не смог. Через 3 дня льдины перетерли якорные канаты и внезапный шторм опять отнес галиот в море. На судне сломались мачты, изорвались паруса, был израсходован вес запас воды и дров. Только 8 января 1767 г., через три месяца после выхода из Охотска, моряки галиота увидели в тумане землю. И тут налетевший шквал бросил судно на каменные утесы и разбил корпус вдребезги. До берега добрались только 13 моряков, в том числе и Дудин–меньший, остальные 30 погибли.
«Отставшие от потопу люди на той земле зимовали; кои после узнали, что Курильской седьмой остров, называется Сияф–Кута [25] 25
о. Шиашкотан. – Авт.
[Закрыть] . Курильцы, на то время зазимовавшие, содержали их в своих юртах. И давали в пищу китовой жир, морскую капусту, дягильное коренье. А после питались и одними ракушками». Спасшиеся моряки находились на острове до конца июля 1767 г.
После трагической высадки команд трех судов экспедиции на побережье Камчатки Креницын энергично принялся за возможное восстановление судов и сбору потерянного имущества. С р. Утки он послал в Большерецкий острог сообщение с просьбой о помощи людьми и транспортными средствами. 30 октября ему стало известно, что Левашову удалось снять гукор «Св. Павел» с мели и отвести в защищенное место стоянки. Креницын понял, что зимовка экспедиции на Камчатке стала неизбежной. Он поспешил в Большерецк для организации зимовки. Вскоре туда же прибыл и Левашов.
У места крушения судов экспедиции были сделаны землянки, в которых разместился караул из казаков–матросов. Всю зиму команды судов собирали по берегу и перевозили на собаках в Большерецк имущество и припасы с потерпевших крушение судов. Бригантину «Св. Елизавета» штормовые волны разбили полностью и ремонтировать ее было невозможно. Для дальнейшего плавания старый бот «Св. Гавриил», который удалось снять с мели, также следовало заменить более прочным судном. И гукор «Св. Павел» требовал ремонта.
В декабре Креницын направился к устью р. Колы, возле которого разбилось одно купеческое судно, чтобы выяснить его состояние. Но и этот галиот «разбило до основания, и много людей потонуло». Поэтому для надобностей ремонта и оснастки судов Креницын организовал заготовку леса, варку из морской воды соли, изготовление байдар. 36 моряков были отправлены нм 26 декабря в Машурской острог в 360 верстах от Большерецка для выгонки смолы.
Именно на Камчатке после аварии Креницын вскрыл конверт с «Секретным прибавлением» к инструкции Адмиралтейств–коллегии, с которой его ознакомили в Тобольске. 16 ноября 1766 г. он в присутствии всего командного состава экспедиции допросил престарелого казака Савина Пономарева. Его показания были записаны на совещании в виде именной «скаски». К сожалению, выяснилось, что Пономарев ничего не мог сообщить про остров лесной и про населяющий его народ, что он «не токмо морского счисления, но и по компасу мореплавания… содержать вовсе не знает. А был впервы пассажиром. И за тем до означенных островов не только нынешней экспедиции довести и показать ей оный [не] может, но ежели к тем островам он, Пономарев, привезен будет, за старостию лет тех островов опознать и указать не может. А могут обо всем оном, и всегда в тонкость, доказать объявленные мореходы Глотов и Соловьев».
Глотов в это время находился в Нижне–Камчатске. За ним был послан с особым «ордером» – вызовом казак. Степан Гаврилович Глотов явился в Большерецк 20 января 1767 г. Вместе с ним был прислан мореход Иван Михайлович Соловьев. Последний в 1764 г. плавал передовщиком с 55 промышленниками на судне «Святых апостолов Петра и Павла» к Лисьим Алеутским островам на промыслы и для сбора ясака. Он провел 2 года на Уналашке, обследовав остров на байдарах. Потеряв от болезни 28 промышленников, вернулся в 1766 г. на Камчатку. Представленный им по возвращении «репорт» содержал отчет о плавании и описание быта местных алеутов.
Промышленники прибыли по «ордеру», вероятнее всего под конвоем казака. Их показания Креницын записал в тот же день. Они полностью подтвердили сообщения рапорта Большерецкой канцелярии сибирскому губернатору от 12 сентября 1764 г. Более того, они сообщили и о своих новых географических открытиях. Глотов сообщил о своем посещении о. Кадьяк, сведения о которых он ранее давал со слов алеутов о. Умнак. «Будучи де ныне, – показал он, – в вояже на судне «Св. Андриан», промысел имел от преждеобысканных Умнака и Уналашки чрез восемь на девятом острове Кадьяке».
Креницын при этом убедился, что пункты инструкции Адмиралтейств–коллегии о маршрутах экспедиции и поиску неизвестных островов вполне обоснованны. Он включил самих промышленников в состав экспедиции и доложил об этом Адмиралтейств–коллегии: «Оные мореходы в вояж для опознания и указания тех знаемых ими островов мною увезены быть имеют».
К августу 1767 г. гукор «Св. Павел» и бот «Св. Гавриил» были отремонтированы и подготовлены к плаванию. Креницын решил обогнуть Камчатку и зайти в Нижне–Камчатск в надежде найти там лучшие суда для продолжения экспедиции к Алеутским островам. Перед самым отплытием 3 августа в Большерецк на двух байдарках с о. Шиашкотан приплыл штурман Дудин–меньший со своими моряками. «Курильцы на своих деревянных байдарах или лодках привезли [их] с того острова к Большерецкому устью». Дудин– меньший с уцелевшими моряками из команды галиота «Св. Павел» вошли в состав экипажа бота «Св. Гавриил», командование которым на переходе в Нижне–Камчатск принял сам Креницын.
14 августа экспедиция на двух судах вышла из устья р. Большая и 6 сентября благополучно прибыла в устье р. Камчатки. В Нижне–Камчатском остроге Креницын собрал всех промышленников, оказавшихся там в то время, и опросил их по условиям плавания в Восточном океане в осеннее время. Советы промышленников он записал и изложил их позднее в особом рапорте Адмиралтейств–коллегии от 27 июня 1768 г. Судя по записи, эти промышленники– мореходы были выходцами из Яренска, Великого Устюга, Соли–Вычегодской, Курска и других в большинстве северных городов России. Проанализировав советы промышленников, Креницын решил остаться на зимовку в Нижне–Камчатске.
В Нижне–Камчатском порту Креницын не нашел судов, пригодных для участия в экспедиции. В январе 1768 г. он поехал на собаках «к устью реки Морошеной, впадающей в Пенжинское море» (теперь р. Морошечная, а море Охотское). Вблизи устья этой реки, как ему сообщили, затонула у берега бригантина «Св. Елизавета», отправленная из Охотска с грузом провизии для Тагильской крепости. Но в указанном месте Креницын затонувшее судно не нашел и в феврале возвратился в Нижне–Камчатск.
А остальные участники экспедиции «в зимнее время в Нижне–Камчатском остроге варили у моря из морской воды соль, выгнали довольно лиственничной смолы, сделали еще на каждое судно по байдарке и на воду бочки; весною ловили в реке Камчатке рыбу».
Экспедиция зафиксировала несколько землетрясений на Камчатке. Так, «1 марта 1768 г. пополудни в половине первого часа было великое трясение земли. Не менее пяти минут продолжалось. От которого на колокольне и колокола звонили. Також и в покоях людям от колебания и тряску быть не можно».
1 апреля вскрылась р. Камчатка. В устье реки с осени стоял галиот «Св. Екатерина» под командой лейтенанта Ивана Синдта, который еще гардемарином плавал в 1741 г. на пакетботе «Св. Петр» под командой капитан–командора В. Беринга. В 1763 г. по распоряжению сибирского губернатора Ф. И. Соймонова он был назначен начальником секретной экспедиции на галиоте «Св. Екатерина» для описи северо–западных берегов Америки и островов в Восточном океане. Берегов Северной Америки Синдт не достиг и в 1768 г. представил карту северной части Тихого океана, показав на ней ряд несуществующих островов, будто бы открытых им. Несомненно открыт им только о. Св. Матвея в центральной части Берингова моря.
Креницын осмотрел галиот «Св. Екатерина» и признал его более пригодным для дальнейшего плавания, чем бот «Св. Гавриил». Он передал Синдту бот «Св. Гавриил», на котором Синдт со своей командой ушел 25 июля в Охотск. Креницын приступил к ремонту галиота, который удалось завершить только к 1 июля 1768 г.
Новую команду галиота возглавил сам Креницын. В нее включили 3-х штурманов, подштурмана, 3-х штурманских учеников, боцмана, боцманмата, подлекаря, канцеляриста, 2-х квартирмейстеров, капрала, ученика ботового и шлюпочного дела, парусного ученика, «кузнешного десятника», «плотнишного десятника», солдата, 41 «за матроз казаков», 9 промышленников– «вольных людей на жалованье», 2 алеутов–переводчиков (толмачей).
Характерен для того времени набор продуктов, погруженных на галиот: сухарей 50 пудов 38 фунтов (815 кг), муки ржаной 476 пудов 13 ¾ фунта (7652 кг), круп ячневых 46 пудов 39 фунтов (751 кг), соли 52 пуда (832 кг), масла коровьего 134 пуда 14 фунтов (2160 кг), мяса 12 пудов 26 фунтов (202 кг), рыбы сушеной 287 ½ вязок, в каждой по 50 рыб, рыбы соленой 20 бочек, водки 27 ведер, 3 кружки, 9 ½ чарок, а также 47 бочек с пресной водой и 8 сажен дров.
Безусловно, принятых на суда запасов провианта было недостаточно для проведения длительной экспедиции. Предполагалось их пополнение за счет ловли рыбы, добычи морских зверей в районах плавания и охоты на обследуемых островах, для чего было взято промысловое снаряжение.
На галиот погрузили 4 пуда 8 фунтов (67 кг) пушечного пороху, 14 пудов 1 ½ фунта (225 кг) ружейного пороха, 2 фальконета, 2 медные полуфунтовые пушки, 8 небольших единорогов для байдар, чугунную пушку, 39 ружей и 13 мушкетонов. Были взяты различные товары (ножи, иглы, бусы и др.) для подарков местным жителям островов.
Под команду Левашова на гукор «Св. Павел» перешли 64 человека: 4 штурмана, 4 штурманских ученика, подлекарь, «сын боярской», 4 квартирмейстера, «плотничий комендор», токарь, слесарь, солдат, казачий капрал, 38 казаков, 5 промышленников, 2 алеута–толмача.
На гукор погрузили примерно такое же количество провианта, как на галиот, пресной воды 34 бочки, дров 6 сажен, 17 пудов 7 фунтов пороху и немного оружия.
В качестве опытных промышленников–мореходов в состав экспедиции вошли ряд видных участников открытия и освоения Алеутских островов и Аляски Степан Гаврилович Глотов, Алексей Иванович Дружинин, Дмитрий Афанасьевич Панков, Василий Данилович Штинников и др.
Толмачами в экспедиции были взяты молодые алеуты, которых промышленники вывезли ранее на Камчатку и там крестили, усыновили и определили в Нижне–Камчатск для обучения русскому языку и грамоте. Это Иван Степанов Глотов, Алексей Иванов Соловьев, Алексей Иванов Попов, Андрей Яковлев Шарапов – все подростки.
21 июля 1768 г. галиот и гукор вышли из устья р. Камчатки и через 5 дней подошли к о. Беринга. На остров были посланы моряки на байдарах для наполнения бочек пресной водой. Любопытно, что моряки на берегу видели много птиц–ар, урил и морских коров. Наверное, увиденные морские коровы были уже последними представителями этого вида морских млекопитающих. Уж больно привлекательной была охота на них для русских промышленников из‑за вкусного мяса. Н вскоре этот вид животных был полностью уничтожен людьми.
В проливе между островами Беринга и Медным экспедиция встретила промышленное судно под командой штурманского ученика Софьина, которое зимовало на о. Медном с 1766 г.
Крепкий ветер от юго–юго–запада и пасмурная погода разлучили суда экспедиции на северной шпроте 54°33', не 11 августа они продолжили плавание раздельно.
14 августа Креницын подошел на расстояние видимости островов Алеутской гряды. Он правильно решил, что это о. Сигуам – самый восточный из Андреяновской группы островов, и о. Амухта – самый западный из Четырехсопочных островов. На этих островах уже побывал Глотов и его промышленники на боте «Св. Иулиан» в 1759–1762 гг.
20 августа Креницын ввел галиот в пролив между Умнаком и Уналашкой. Именно в этом проливе Креницын впервые встретился с алеутами, обитавшими на островах. Один из них подошел к галиоту на байдарке и закричал русское «Здорово!». Других русских слов он не знал. Через толмача на галиоте он стал расспрашивать о целях прихода судна. Креницын заверил через толмача: «Не только жить будем мирно, но и подарков… всяких дадим». Алеуты были удовлетворены и подарили Креницыну каклюмет – высокий шест с головой и крыльями совы.
Левашов, как об этом можно судить по составленной нм карте плавания гукора «Св. Павел»,14 августа увидел на юге неизвестный остров, названия которому он не дал, но нанес на карту, как «впервые открытый остров». На следующий день Левашов увидел еще два небольших острова, а к югу от них – третий. От них он повел гукор на северо–восток. 16–18 августа он увидел на юго– востоке несколько мелких островов и один крупный. 19 августа гукор достиг о. Амухта. Таким образом, Левашов видел и нанес на карту восточную часть Андреяновских островов, но какие именно острова он открыл, точно установить крайне затруднительно из‑за значительных ошибок в определении долготы.
20 августа гукор прошел мимо большой скалы (позднее названной Корабельной), окруженной несколькими небольшими скалами, которые он обозначил на своей карте крестиками (в конце XVIII в. на этом месте поднялся со дна моря вулканический остров Старый Богослов, а в последней четверти XIX в. – о. Новый Богослов). 21 августа Левашов повернул на восток, к северной оконечности о. Уналашка и там встретился с Креницыным. По пути к о. Уналашка Левашов видел о. Акутан, наиболее крупный из группы островов, названной в XIX в. островами Креницына. (По крайней мере за год до этого на Акутане побывали русские промышленники.)
22 августа в пролив между Умнаком и Уналашкой пришел и гукор «Св. Павел». Оба судна зашли в залив на северной стороне о. Уналашка и стали наливать бочки водой. Вскоре приплыли на байдарке 2 алеута. Они привезли в пузыре с полведра воды и получили небольшой подарок.
23 августа на галиот к Креницыну явился один алеут и заявил, что он хочет дружить с моряками. Он сообщил, что в этом году на о. Умнак зимовали русские промышленники с бота купца Ивана Лапина. Они отправились на промысел на острова Акутан и Кугалга, и там местные жители напали на них и 15 человек из партии убили.
23 августа суда снялись с якоря и через два дня подошли к северному берегу о. Унимак (самого восточного острова собственно Алеутской гряды) и, обогнув весь остров, описали его. Как считают многие историки географических открытий, именно 30 августа суда проходили проливом между Унимаком и, как считали Креницын и Левашов, островом «Алякса», где есть «стоячий лес», а фактически оконечностью полуострова Аляска, и именно там гукор сел на мель, но был стащен на другой день. 1 и 2 сентября моряки осматривали аляскинский берег, а потом суда отправились искать место зимовки.
Совместный осмотр Креницыным и Левашовым «Аляксы» был первым исторически доказанным плаванием европейцев вдоль северного берега полуострова Аляска. Как далеко продвинулись моряки на северо–восток от о. Унимак, точно не известно, но, по видимому, недалеко, так как «Алякса» на карте Левашова показана островом, несколько уступающим по размерам Унимаку.
Решение Креницына обследовать пролив между Унимаком и «Аляксой» подкреплялось тем, что на гукоре находился квартирмейстер Гавриил Пушкарев, который еще в конце 50-х гг. XVIII в. промышлял на Алеутских островах. Летом 1760 г. на судне «Св. Гавриил» он перешел к полуострову Аляска, принятому им за остров. Там он зимовал на юго–западном берегу полуострова Аляска в 1760–1761 гг. Это была первая исторически доказанная зимовка русских на полуострове. Пушкарев был включен в состав экспедиции уже на Камчатке.
При проходе проливом между Унимаком и «Аляксой» моряки внимательно осматривали берега неизвестной земли, простиравшиеся на значительном протяжении. Бывалые промышленники признали в земле остров «Алякса». Креницын несколько раз направлял группы моряков на байдарках для ознакомления с неизвестной землей «на Аляскинской пустой берег, содержа там для опасности вооруженной караул». Заодно моряки искали удобное для зимовки место.
Не найдя его, 2 сентября оба судна снялись с якоря и направились для дальнейшего поиска места зимовки на о. Кадьяк или в другом районе «острова» Аляска. В пути в сильный шторм суда разлучились. Креницын направился к о. Уналашка. Сильные штормы не прекращались. С большим трудом удалось вновь пройти в пролив между о. Унимак и полуостровом Аляска. Моряки в байдарах осматривали оба берега пролива. 18 сентября Креницын собрал совещание штурманов и квартирмейстеров и принял решение зимовать в заливе о. Унимак против материкового берега.
Кстати, по сообщениям священника Вильяма Кокса, спутника знаменитого английского мореплавателя капитана Джеймса Кука, и знаменитого путешественника и ученого, члена Петербургской Академии наук Петра Симона Далласа, галиот «Св. Екатерина» зимовал у о. «Аляксы». В то же время известный историк отечественного флота капитан 2-го ранга Александр Петрович Соколов (1816–1858) утверждал, что «Креницын 18 сентября зашел к Унимаку, у которого найдена удобная гавань»[7, с. 117]. Ну а другой исследователь Русской Америки вице–адмирал Михаил Дмитриевич Тебеньков, который в 1844–1855 гг. был ее главным правителем, точно установил место зимовки Креницына. Он доказал, что «Св. Екатерина» зимовала в заливе Креницына (на американских картах – бухта Св. Екатерины), вдающемся в восточное побережье Унимака, в узком проливе, отделяющем этот остров от полуострова Аляска.
Место для зимовки оказалось неудачным. Как указывал Паллас, «вход в морской пролив, за которым лежит этот остров [26] 26
полуостров Аляска тогда он тоже считал островом. – Авт.
[Закрыть]с северовосточной стороны весьма труден по причине сильного морского течения как во время прилива, так и отлива; да и воды там мало. С юго–восточной же стороны вход гораздо удобнее: ибо глубина оного простирается до 5,5 сажен». По мнению известного историка географических открытий Иосифа Петровича Магидовича, залив Креницына (бухту Св. Екатерины) вряд ли можно назвать «удобной гаванью», как назвал ее А. П. Соколов [7, с. 117–118].
На берегах пролива моряки стали заготавливать лес для строительства жилищ – юрт из плавника. Галиот был вытащен на берег, чтобы он не пострадал от зимних бурь. Дни становились холоднее. Шли дожди с градом.
Скоро к месту зимовки приплыли «на двух байдарах американцы». Они стали, объясняясь знаками, просить ножи и бусы, пытались через судового толмача выяснить, сколько человек зимует. Затем они стали уговаривать толмача бросить лагерь зимовщиков и перейти к ним. Креницын попытался изменить настроения «американцев», передав им подарки – шапки, рукавицы, бисер и бусы–корольки. Подарки были приняты, но, отойдя в сторону, они пустили в моряков несколько стрел. В ответ был открыт огонь из ружей и пушек. Но стреляли моряки умышленно вверх, чтобы только напугать туземцев.
Затем произошло еще несколько стычек с туземцами. Теперь при появлении моряков на берегу или в прибрежных лесах туземцы уплывали в море на байдарках или уходили в глубь полуострова. Морякам хотелось установить хорошие отношения с туземцами. Обследуя побережье Аляски, моряки «в пустых юртах находили сухую рыбу. Кою привезли с собою. А в то место оставлено в юртах игол 250, сукна красного 4 аршина, бисеру 2 фунта».
Плохие отношения с туземцами крайне затрудняли морякам проведение охоты на увиденных в походах по побережью полуострова «медведей, волков, оленей, лисиц, речных выдр, диких баранов, горностаев, евражек».
22 ноября туземцы подплыли к месту зимовки на двух байдарах. С ними вступили в беседу.
Они вновь уговаривали толмачей покинуть зимовку и перейти к ним. Молодые толмачи не согласились и сообщили Креницыну, что туземцы готовятся к нападению на зимовку с намерением сжечь галиот.
Погода стояла холодная, шли дожди, порой выпадал снег и донимали снежные метели. С декабря многие из моряков начали ослабевать, началась цинга. Первым умер казак, раненный туземцами. В январе 1769 г. число больных дошло до 22. В апреле здоровых моряков осталось только 12, но и они ослабели. В числе скончавшихся были штурманы Дудин больший, Крашенинников и Чиненой, подштурман Ларионов, промышленники Новоселов, Лебедев и Дружинин. 4 мая в возрасте всего 40 лет умер выдающийся мореход С. Г. Глотов. Всего за время зимовки скончались 36 моряков.
В декабре и январе туземцы не появлялись в районе зимовки. В феврале 1769 г. они появились снова. Но теперь положение моряков стало просто трагическим. Продукты заканчивались, землянки разрушались от талой воды, оставшиеся в живых изможденные моряки даже не смогли провести необходимый ремонт судна.
Наконец удалось у прибывшей к зимовке группы туземцев обменять на корольки (бусы), ножи и сукно немного тюленьего и китового жира и несколько кусков мяса кита, найденного туземцами мертвым на берегу. Теперь встречи с туземцами стали происходить «по многократной просьбе» моряков. Но моряки и туземцы не доверяли друг другу. Последние оставляли жир морских животных на берегу пролива, а затем скрывались. Далее к этому месту приходила небольшая группа моряков со спрятанным под платье оружием. Забрав куски жира и мяса морских животных, они оставляли на берегу ножи, корольки и другие предметы обмена. А для устрашения туземцев при каждом появлении их в большом числе моряки палили из пушек холостыми зарядами.
«Во все время бытия на острове Унимаке, при удобных временах, ловили служители неводами рыбу, которой попадалось весьма мало и редко, по неудобности к невожению мест, слабости людей и крепкими ветрами. Рыба лавливалась треска, камбала, быки и города Архангельска навага. А один раз изловили палтуса в 3 ½
пуда [27] 27
56 кг. – Авт.
[Закрыть] . В предосторожность частых подлазов и присмотров американцев во все время зимования по ночам делали из ружей неоднократные выстрелы, а иногда из пушки или фальконета».
Во время зимовки Креницын сделал первые в истории науки записи о сейсмических явлениях в районе Алеутских островов – о землетрясениях, происшедших 15 января, 20 февраля и 16 марта 1769 г.
10 мая в пролив к месту зимовки подошли две байдарки. Сидевшие в них туземцы «кричали: капитан Левашов! и поднимали шестик с белым холстинным платком». Они доставили письмо от Левашова, зазимовавшего в одном из заливов о. Уналашка. Прибывших посланцев щедро одарили ножами, сукном и бисером. Креницын с тремя из них пил чай, угощал хлебом и сластями. «Сахар ели охотно, а хлеба употребляли мало».
Принимая ответное письмо Креницына, прибывшие туземные старшины «при прощании просили еще сахару на своих домашних; коим Креницын дал по куску белого и леденцу. Означенные начальники около байдарок сами не работали, а убирали их слуги, по званию калги».
24 мая 1769 г. галиот был спущен на воду. Зимовка подходила к концу. 6 нюня 1769 г. в пролив между полуостровом Аляска и о. Унимак пришел гукор «Св. Павел», и Левашов доложил Креницыну о том, как прошла зимовка.
Разлучившись с начальником экспедиции, Левашов, согласно составленной нм карты, до 11 сентября продолжил поиски островов к западу от «Аляксы» и Унимака. До 16 сентября он плавал между Унимаком и Уналашкой. 16 сентября Левашов подошел к Уналашке и бросил якорь в расположенном на северном побережье острова заливе, названным им Макушинским. В этом заливе моряки встретились с камчатскими промышленниками, которые прибыли на остров задолго до подхода гукора и называли это место залив Игунок. До 5 октября Левашов плавал у берегов Унимака, возможно, пытаясь найти Креницына. Далее он возвратился к Уналашке и 6 октября стал на зимовку в бухте Св. Павла, названной им так в честь своего судна. Позже она была переименована в порт Левашова. Эта бухта находится в глубине Капитанского залива, считающейся одной из лучших гаваней на Алеутских островах.
Вскоре для обеспечения безопасности стоянки судна Левашов потребовал, чтобы промышленники передали ему «американских тоенских детей в аманаты 8 человек», т. е. чтобы промышленники передали ему часть детей алеутских племенных старшин, взятых ими в заложники, чтобы исключить враждебные действия туземцев и обеспечить выплату ясака. Вообще то Левашову удалось установить дружественные отношения с алеутами. Последние доставляли морякам рыбу, дрова и некоторые предметы своего хозяйственного обихода. За все это им дарили ножи, сукно, бисер и корольки.
1 октября 1768 г. к Левашову приехал штурманский ученик Очередин. Он сообщил, что зимует на о. Умнак, куда прибыл с промышленной партией из Большерецка от соликамского купца Ивана Лапина в августе 1766 г. Он рассказал, что нашел остатки сожженного алеутами судна купца Якова Протасова, экипаж которого туземцы перебили в 1763 г. То же случилось с экипажами судов Ивана Кулькова и Никифора Трапезникова. А Очередин, чтобы обезопасить себя и свою партию, «взял тоенских детей в аманаты». Зимовка у него протекала очень тяжело. От голода умерло 6 его промышленников. Туземцы с других островов часто нападали на людей его партии. И в стычках были жертвы с обеих сторон.
И команда гукора страдала от недостатка пищи и плохого жилья. Моряки для зимовки построили юрту из плавника – выкидного леса, с большим трудом набранного на берегу острова. Юрта протекала и разваливалась. А на гукоре все моряки не могли поместиться. К тому же на зимовке размещались забранные моряками у алеутов 33 аманата. От тесноты и скученности среди зимовщиков начались заболевания.
16 декабря сильный ветер сорвал верх юрты, «отчего служители перемокли перезябли, так что, потеряв рассудок, почти все единогласно говорили: «Что с нами делается? Истинно прогневали мы бога! Пищу худую имеем и малую, а от стужи и дождя нигде не можно сыскать покою»». Однажды из моря на берег острова вынесло труп небольшого кита. Алеуты спокойно употребляли такое китовое мясо, но моряки от такой пищи болели. По слова Левашова, «люди стали цынготною болезнью мереть, хотя и находились всегда в движении, рубя лес на дрова и справляя прочие работы». Число тяжелобольных цингою в мае 1769 г. достигло 27, но, к счастью, за всю зимовку скончались всего 3 моряка.
И тут моряки гукора узнали, что туземцы соседнего острова Акуна собираются перебить всех моряков. А ведь моряки знали от «промышленных и бывалых на островах людей, [что] хотя де оной народ и показывает с виду дружество тогда, когда он не в силах супротивлятца, а как ему удастца победить, он из русских людей в полону у себя живых не оставляет. А употребляет над ними варварство: вначале разрезывает брюхо и, вытаскивая кишки, мотает на палки. А потом отрежет голову; положа на огонь, сжигает. Тут у них и торжество бывает».
Был увеличен караул. А тут еще пропали без вести в феврале 1769 г. квартирмейстер Шарапов и казак Салманов. Они отправились на охоту и не вернулись. Их искали, но не нашли. Многие моряки были уверены, что они погибли в плену у алеутов, будучи подвергнуты жестокой казни.
Среди моряков начался ропот, многие настаивали на скорейшем уходе гукора на Камчатку. Но Левашов считал необходимым выяснить судьбу галиота. В марте ему удалось ласковым обращением и богатыми подарками уговорить одного тойона с о. Уналашка разведать, где зимует Креницын.