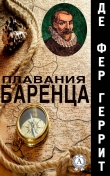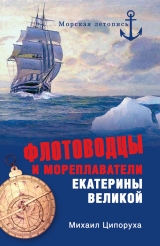
Текст книги "Флотоводцы и мореплаватели Екатерины Великой"
Автор книги: Михаил Ципоруха
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 2
К неведомым островам и берегам в Восточном океане
Там влажная стезя белеет
На веток пловущих кораблей:
Колумб Российский через воды
Спешит в неведомы народы.
Михаил Ломоносов
Командорские и Алеутские острова в Тихом океане были открыты капитан–командором Витусом Берингом и капитаном Алексеем Ильичом Чириковым во время обратного плавания от берегов Северной Америки к Камчатке в 1741 г. В результате моряки и ученые получили более или менее ясное представление о местонахождении Ближних Алеутских островов, т. е. ряда западных островов Алеутской островной гряды, а также Командорских островов, которые сперва также причисляли к Ближним Алеутским. В отношении остальных островов этой гряды достаточно точных данных об их местонахождении и размерах не было.
Участники экспедиции Беринга – Чирикова, возвратившись на Камчатку, рассказали о возможности богатых пушных промыслов на этих островах. В первую очередь это касалось добычи меха морского бобра или калана (так неправильно называли морскую выдру). Сообщили они и о возможности промысла песцов, красных лисиц, морских львов или сиучей и морских котиков. И в первую очередь «морской бобер» во многом определил стремление русских промышленников и купцов, а затем и правительства к освоению Командорских и Алеутских островов, а затем побережья Северной Америки и созданию «Русской Америки» – русских владений в этом регионе мира.
Начало продвижению русских промышленников к берегам вновь открытых островов положил сержант Емельян Софронович Басов. Услышав о богатых пушных промыслах на о. Беринга (Командорские острова), он организовал артель и на небольшом промысловом судне «Капитон» отправился туда, а после зимовки в 1743–1744 гг. возвратился на Камчатку. В 1745–1746 гг. он вновь зимовал на о. Беринга, плавал оттуда на восток, видел Ближние Алеутские острова, но не смог подойти к ним. Он возвратился на Камчатку с грузом 1600 морских бобров и 4000 голубых песцов и котиков. В 1747–1748 гг., зимуя на о. Медном (Командорские острова), он нашел там медь, как самородную, так и в руде. В 1749–1750 гг. он еще раз плавал на собственном шитике «Петр» (судно старинной поморской конструкции, где доски обшивки и набора корпуса сшиты вицей – прутьями можжевельника и ели) к Алеутским островам с зимовкой на о. Медном.
Участник экспедиции Беринга в 1741 г. родом из Великого Устюга мореход Михаил Неводчиков в сентябре 1745 г. на судне «Евдокия», снаряженном на средства сибирских купцов, отправился на поиски богатых пушным зверем островов. Он побывал на островах Атту, Агату и Семичи из группы Ближних Алеутских. Кроме мехов, добытых за зимовку, он вывез оттуда одного алеута, обучил его русскому языку, выучился сам говорить по–алеутски.
Из рассказов этого алеута стало известно о существовании других Алеутских островов, где также возможен богатый бобровый промысел. Неводчиков составил рукописную карту Ближних Алеутских островов, и в 1751 г. эта карта была отослана в Петербург, в Сенат.
Промышленники устремились на Алеутские острова. Для снаряжения орудиями промысла и судами и приобретения запасов продуктов большая часть промышленников прибегала к помощи купцов. Начала финансирование промысловых экспедиций и казна.
Из Селенгинска в Забайкалье, который расположен не так далеко от Кяхты, откуда бобровые шкуры с солидным барышом сбывались в Китай, до Камчатки добрался разорившийся купец Андреян Толстых. Судя по его жизни и устремлениям, он был не только промышленником, стремившимся к максимальной выгоде от своих промыслов, но и подлинным исследователем новых земель. Он неоднократно выходил в исследовательские плавания, стремясь открыть мифическую «Гаммовую землю» («Землю Жуана да Гамы»), которую искал Витус Беринг и о существовании которой утверждали известные западноевропейские географы.
В 1746 г. Толстых на шитике «Иоанн» отправился от берегов Камчатки в океан, перезимовал на о. Беринга и после безрезультатных поисков к югу от Командорских островов «Гаммовой земли» осенью 1748 г. возвратился к берегам Камчатки.
В 1749 г. Толстых снова перезимовал на о. Беринга и после этого отправился к о. Атту, где провел две зимы. Любопытно, что с Командорских островов он привез на Атту пару голубых песцов, которые там быстро размножились. Уже через 10 лет там было добыто около 1000 голубых песцов. Ему принадлежат первые, достаточно подробные сведения о быте алеутов.
За счет промысла морских бобров и песцов он сумел поправить свои денежные дела, приобрел и оснастил промысловое судно «Андреян и Наталия». В 1756–1757 гг. это судно с промысловой партией зимовало на о. Беринга. Затем Толстых два года промышлял на Ближних Алеутских островах и составил их описание, а в 1759 г. возвратился на Камчатку с богатой добычей, состоявшей из 5360 бобров и 1190 песцов.
В 1760 г. Андреян Толстых на том же судне перезимовал на о. Беринга, ав 1761 г. отправился на Алеутские острова и пробыл там до осени 1764 г. За это время он и его спутники казаки Максим Лазарев и Петр Васютинский, перебираясь с острова на остров, описали названные по имени Толстых Андреяновские острова.
Описание этих островов и «Карта вновь сочиненная от Камчатского на восток лежащего берега, с расстоянием по Тиховосточному океану положения островов, сысканных и приведенных в подданство селенгинским купцом Андреяном Толстых»были доставлены в Тобольск сибирскому губернатору Д. И. Чичерину, который представил их Екатерине II. Императрица наградила Толстых, а служивых Лазарева и Васютинского произвела в «тамошние дворяне».
В 1765 г. Андреян Толстых на боте «Петр» вышел из Охотска с командой из 63 моряков и промышленников. Он перезимовал на р. Большой и вновь отправился на поиски «Гаммовой земли». После двухмесячных безрезультатных поисков бот при возвращении в Петропавловск Камчатский был разбит штормом о прибрежные скалы. При этом Андреян Толстых погиб в числе многих членов экипажа. Спаслись лишь трое моряков, которые и рассказали о свершившейся трагедии.
Важную роль в исследовании Алеутских островов сыграл «передовщик» Степан Гаврилович Глотов, мещанин из города Яренска, расположенного при впадении Вычегды в Северную Двину. Сведения о новых открытиях в Алеутской островной дуге, сообщенные Г лотовым, в конце концов достигли Петербурга и побудили Екатерину II поручить Адмиралтейств–коллегии организовать особую экспедицию по описи Алеутских островов и Аляски.
В феврале 1757 г. в Нижне–Камчатске, расположенном в устье р. Камчатки, компания купцов решила на своем судне послать промышленников для промысла морских бобров. Компания приобрела у московского купца Ивана Никифорова старый бот «Св. Иулиан» и пригласила в качестве штурмана промышленника С. Г. Глотова.
Глотов составил артель. При регистрации в Большерецкой канцелярии отправления артели в плавание в состав ее был включен отставной казак Савин Пономарев. Дело в том, что канцелярия выдала купцам ссуду в сумме 6 тыс. рублей и поэтому считала возможным подстраховаться в части компенсации своих расходов. Пономареву было указано следовать с промышленниками «в морской вояж, на знаемые и незнаемые морские острова, для приводу тамошнего неясашного народа в подданство и в платеж ясака [17] 17
т. е. выплате местными жителями дани в виде ценных мехов. – Авт.
[Закрыть]». Ему, как представителю русских властей, была дана «за шнуром и за казенною Большерецкой канцелярии печатью книга». В нее следовало записывать собранный с жителей дальних островов ясак «без проронки и в платеже ясака давать квитанции».
Отставному казаку поручалось «брать у них [18] 18
местных жителей. – Авт.
[Закрыть] и аманатов лучших людей сколько пристойно [19] 19
т. е. брать заложников из числа племенных вождей и старших в роду, а также их детей для обеспечения своевременной выплаты ясака. – Авт.
[Закрыть] ; и притом наведываться, и сыскивать земных и морских куриозных, и иностранных вещей, и золотых и серебряных руд, жемчюгу, каменья, свинцу, железа, слюды, краски и прочих узорных вещей»[2, с. 268].
В артели было 42 промышленника. Не доверявшие промышленникам купцы назначили «правителем бота», т. е. «прикащиком», работника Петра Шишкина. Между промышленниками и купцами был составлен выгодный в первую очередь для последних «компанейский контракт», определявший условия дележа добытой на известных и вновь открытых островах пушнины.
2 сентября 1758 г. бот «Св. Иулиан», управляемый Глотовым, вышел из устья р. Камчатки в море. На девятые сутки плавания в штормовых условиях бот оказался у о. Медный, где артель вынуждена была зимовать. Находясь на острове, промышленникам удалось добыть на нем и у его берегов 83 морских бобра и 1263 голубых песца. Для пропитания во время зимовки и заготовки сушёного мяса в порядке подготовки к будущим походам они охотились на морских коров, нерп и морских львов или сиучей.
Так как во время шторма бот потерял оба якоря, то пришлось взять «от разбитого пакетбота бывшей Камчатской экспедиции» железа, из которого сделали «чрез немалый труд» новые якоря. 1 августа 1759 г. бот отплыл в море на восток, и 1 сентября артель добралась до неизвестного ранее острова, по мнению Глотова, в северо–восточной стороне от Камчатки, который местные жители называли Умнак.
На острове жило до 400 человек, промышленники называли их «американцами», так же как и людей из племен, проживавших на побережье Северной Америки, хотя первые были алеутами, а на побережье Аляски проживали индейцы и эскимосы.
Бот продолжил плавание, и был открыт второй остров, «обширностью больше первого, называемой «Уналакша» (Уналашка). На этом острове проживало, по оценке промышленников, около 300 человек.
В донесении о плавании Глотов отметил: «Оной народ, или жители объявляют, что от тех двух островов есть еще дальше лежащих к востоку, восемь островов, из которых на одном есть и лес стоячей». Впоследствии выяснилось, что последний остров со стоячим лесом являлся уже полуостровом Аляска, частью материка Северная Америка, протянувшегося далеко на запад в океан к Алеутской островной гряде Из расспросов местных жителей промышленники выяснили, что на этих неизвестных островах немало пушных зверей, ау их берегов – морского зверя, особенно бобра. «На всех же тех осми островах обитает незнаемой же народ», с которым жители Умнака и Уналашки «усобные имеют драки и беруту них пленников»[2, с. 270].
Промышленники также подверглись нападению жителей неизвестных островов, которые, «имея в шестиках укрепленные кости и каменья острые», мечут их с досок. «И учиняя приступ, усилились было всех перебить, и ранили нас, Пономарева в правое плечо, Глотова в грудь, да в левое плечо», а также убили одного промышленника и угнали байдару.
Промышленники проявили сдержанность. «Не видя от нас, – сообщал Глотов впоследствии, – отмщения против их нападения, кроме ласковости, пришли к нам к судну вторично без всякой уже ссоры и нападения». В обмен на принесенные мясо и сушеную рыбу они получили от промышленников иглы и шилья. Вскоре стало ясно, что нападение произведено самими жителями Умнака. Они вернули байдару.
На Умнаке и Уналашке промышленники бота «Св. Иулиан» прожили почти два года и 9 месяцев. За это время «русские люди тамошних двух островов народ ласкою привели в подданство и ясак».
Промышленники имели при себе всего 5 ружей, тем не менее алеуты безропотно приняли и подданство и обложение ясаком. Русских людей поражал хозяйственный быт местных жителей, которые жили в «земляных юртах», «огонь добывают камнем», с птиц «сдирая кожу с пухом, шьют себе парки», «лица красят».
Изучив алеутский язык, Глотов расспрашивал алеутов о природе других островов, в том числе и самом большом, на котором есть лес стоячий, «а какой именно, объявить на российском языке не знают».
26 мая 1762 г. промышленники отправились в обратный путь на Камчатку. «И быв в пути имели превеликие недостатки в воде и пище, так что и последнюю с ног обувь варили и в пищу употребляли; и хотя тем немало препятствовало однакож стараясь прибыли»31 августа, т. е. после трехмесячного плавания на Камчатку [2, с. 271]. Из 42 участников экспедиции возвратились 39, трое погибли. Но доставленные промышленниками меха впечатляли: было добыто морских бобров, кошлаков (бобры в полувзрослом состоянии), медведок (детенышей бобров) – 1669, голубых песцов —1100, красных лисиц – 400, да еще моржовых клыков 22 пуда 10 фунтов (356 кг).
В Большерецкой канцелярии со слов Глотова и Пономарева составили «репорт» о проведенной экспедиции и два «реестра островов», т. е. перечень посещенных промышленниками островов и островов, о существовании которых рассказали местные жители. Кроме того, «правитель бота работник Петр Шишкин» представил карту островов, а Пономарев предъявил «ясашную книгу». Главные «компанейщики–купцы тобольской Илья Снигирев, вологодской Иван Буренин и тотемский Семен Шергин» увезли все эти документы в г. Тобольск, а в начале 1764 г. эти документы были представлены сибирскому губернатору Д. И. Чичерину.
Губернатор составил на основе поданных ему документов и устных рассказов купцов Снигирева и Буренина особую «реляцию» на имя Екатерины II и отправил ее 11 февраля 1764 г. с нарочным – драгуном фон–Фирстенберхом. Вместе с нарочным были отправлены в Петербург и купцы Снигирев, Буренин и Шергин. К «реляции» губернатор приложил «сочиненную по примечаниям бывшего там правителя ботом работника Петра Шишкина карту, какова от них подана и справленную здесь», а также «реэстры островам».
Отметив, что «сей до ныне скрытой талант подданных. выходит на театр чрез самых простых и неученых людей», Чичерин сообщил о своем распоряжении, состоящем в том, что из Охотска «в будущее лето при отправляющихся для промыслов компаниях послать из имеющихся там морских служителей с таким приказанием, чтоб они были пассажирами и ни в чем промышленникам не препятствовали, а только б журнал вояжу их верной и основательной вели и где на островах будут обстоятельное описание сочиняли»[2, с. 273].
Все документы, посланные губернатором Чичериным, поступили в кабинет императрицы по морской части. Делами этого кабинета, подготовлявшего доклады Екатерине II по вопросам, связанным с деятельностью флота, ведал граф И. Г. Чернышев.
Сохранилась записка императрицы ее секретарю от 13 апреля 1764 г., в которой она распорядилась представить ей лично все документы, посланные Чичериным по делу о новых открытиях островов в Восточном океане.
Историки считают, что именно граф И. Г. Чернышев сообщил М. В. Ломоносову о географических открытиях Глотова. Академик ознакомился со всеми документами, присланными Чичериным, встретился с купцами Снигиревым и Бурениным и расспросил их об обстоятельствах плавания Глотова. В итоге он пришел к мысли о необходимости более тщательного исследования о. Умнак и других близлежащих островов.
24 апреля 1764 г. он представил Адмиралтейств–коллегии вторую дополнительную записку к «Краткому описанию», названную им « Прибавление второе, сочиненное по новым известиям промышленников из островов Американских и по выспросу компанейщиков Тобольского купца Ильи Снигирева и Вологодского купца Ивана Буренина». Ясно, что именно это «Прибавление второе» явилось основой для составления доклада Чернышева императрице и подписанного ею указа об организации Адмиралтейств–коллегией особой экспедиции по описи Алеутских островов и открытию полуострова Аляска. Причем новая экспедиция в Восточный океан с самого начала была по замыслу связана с экспедицией по отысканию северо–западного прохода в этот океан, т. е. с экспедицией Чичагова.
В «Прибавлении втором» М. В. Ломоносов вначале по материалам экспедиции Глотова делает неверный вывод о местоположении о. Умнак. Он посчитал, что остров находится на 65° с. ш., а фактически он расположен значительно южнее на 53° с. ш. и ближе к Азии почти на 30°, чем считал Ломоносов. Кроме того, на основании рассказов о Лесном острове (где растут большие деревья), расположенном севернее о. Умнак, он сделал вывод о наличии довольно благоприятных условий для мореплавания в Северном океане у северных берегов Североамериканского континента. Для Ломоносова все это послужило еще одним подтверждением правильности идеи о поиске северозападного прохода из Сибирского океана в Тихий океан.
А в то время, когда результаты открытий, сделанных во время экспедиции Глотова 1758–1762 гг., рассматривались в Тобольске и Петербурге, неутомимый Степан Гаврилович отправился в длительный вояж. Он организовал новую артель и в 1763 г. поплыл на восток в океан. Глотов достиг о. Кадьяк, расположенном еще далее на восток, чем о. Умнак, и южнее полуострова Аляска. Там промышленники Глотова встретились с эскимосским племенем коняг, настроенном крайне враждебно по отношению к приплывшим русским. Коняги делали частые нападения на судно Глотова, предохраняя себя от пуль промышленников передвижными толстыми деревянными щитами, за которыми скрывались до 40 коняг, вооруженных копьями и стрелами. Промышленники несли потери и промыслом не занимались. От недостатка свежей пищи в условиях постоянной осады многие из них заболели цингой. На Камчатку Глотов возвратился из этого плавания в 1766 г. без большой добычи ценных мехов.
А в Петербурге события, связанные с исследованиями в Восточном океане, разворачивались следующим образом. 4 мая 1764 г. в Адмиралтейств–коллегию был направлен указ императрицы. В нем говорилось, что «недавно полученные известия из Сибири о преполезном открытии доныне неизвестных разных островов, которое все за плоды употребленного труда и положенного немалого иждивения прошедшей Камчатской экспедиции почесть должно [20] 20
имелись в виду плавание и открытия В. Беринга и А. И. Чирикова в Восточном океане. – Авт.
[Закрыть] . Но как оное обретение сделано людьми, морского знания и науки не имеющими, которых описания и примечания не столь достаточны, чтобы всю могущую пользу приобрести можно было»,то Адмиралтейств–коллегии предлагалось отправить «немедленно туда, по своему рассуждению сколько надобно, офицеров и штурманов, поруча над оными команду старшему, которого бы знание в морской науке и прилежание к оной известно было»[2, с. 293]. Императрица объявила намеченную экспедицию секретной и предписала пока не знакомить с истинными ее целями Сенат.
На другой день Адмиралтейств–коллегия рассмотрела список морских офицеров, представленных для выбора главы экспедиции, и остановилась на кандидатуре командира фрегата капитан–лейтенанта Петра Кузьмича Креницына. 7 мая он явился в Адмиралтейств–коллегию и «всеохотно» согласился возглавить экспедицию. Своим помощником он предложил назначить лейтенанта Михаила Дмитриевича Левашова. Официально новая экспедиция была именована «Комиссией, посланною для описи лесов по рекам Каме и Белой и по впадающим в оныя реки».
Петр Кузьмич Креницын был опытным боевым морским офицером. В 1742 г. четырнадцатилетним подростком его приняли учеником в Морскую академию и через год произвели в гардемарины. В течение 1745–1753 гг. он плавал на кораблях в Балтийском море, принимая участие в проведении описных работ. По окончании академии в мае 1748 г. Креницын был произведен в мичманы, а в ноябре 1751 г. – в унтер–лейтенанты. В марте 1754 г. он был определен в корабельные секретари и два года исполнял обязанности аудитора (секретаря и прокурора) в военном суде, затем продолжил корабельную службу и на корабле «Астрахань» перешел из Архангельска в Кронштадт. В 1757 г. он стал командиром пинка «Кола» (военный транспорт) и был произведен в лейтенанты. С 1760 г. П. К. Креницын – командир бомбардирского корабля «Юпитер» и особо отличился в 1761 г. во время войны с Пруссией при высадке русским флотом десанта у крепости Кольберг (ныне Колобжег).
«По справедливости засвидетельствую, – доносил Адмиралтейств–коллегии 26 октября 1761 г. командующий Кронштадтской эскадрой, в состав которой входил «Юпитер», контр–адмирал С. И. Мордвинов, – о командирах бомбардирских кораблей флота лейтенантах Бабаеве, Норманском и Креницыне и о всей команде их. что во всю их бытность. против города Кольберга, невзирая на прежестокую с четырех разных батарей и из лесу из поставленных пушек пальбу и [на] окружающие неприятельские бомбы и повреждения корпусов своих судов и мачт, в самую близость города и батарей приходили и якори и завозы свои так близко к батареям завозили, что по шлюпкам их с тех батарей всегда картечами палили, и со всякой ревностию. как днем, так и ночью старались неприятеля разорить»[7, с. 111].
В апреле 1762 г. способного и храброго офицера произвели в капитан–лейтенанты и назначили командиром 32 пушечного фрегата «Россия», а в 1763 г. – командиром фрегата «Ульриксдаль». В мае 1764 г. с назначением начальником «секретной» экспедиции его произвели в капитаны 2-го ранга.
Его помощник по экспедиции М. Д. Левашев в 1751 г. в возрасте 12 лет был принят учеником в Морскую академию, а через два года его перевели кадетом во вновь организованный Морской шляхетный кадетский корпус. В 1755–1762 гг. он плавал на кораблях Балтийского флота, в 1757 г. был произведен в гардемарины, а через год по окончании корпуса выпущен на флот мичманом. После участия в Кольбергской операции в ходе войны с Пруссией, во время которой молодой мичман проявил себя с лучшей стороны, он был произведен в унтер–лейтенанты, а еще через два года в лейтенанты. С назначением помощником начальника «секретной» экспедиции ему присвоили чин капитан– лейтенанта. Как видим, в «секретную» экспедицию назначили лучших офицеров флота.
В мае 1764 г. Ломоносов представил императрице вторую полярную карту, на которой были в определенной мере отображены новые сведения об Алеутских островах, собранные промышленниками. Но «новообретенные» острова были расположены на ней в соответствии с соображениями, изложенными Ломоносовым в «Прибавлении втором».
28 мая императрица послала сибирскому губернатору Чичерину указ о содействии и финансировании экспедиции Креницына. В указе было сказано: «Повелеваем вам на то употреблять из первых поступивших денег сколько потребно, присылая для известия оным счет в Адмиралтейскую коллегию». На снаряжение экспедиции были отпущены значительные для того времени средства – 100 837 рублей [7, с. 114]. Императрица передалалично графу И. Г. Чернышеву золотые часы особой, с секундами конструкции, для Креницына и Левашева. И в дальнейшем она лично интересовалась ходом экспедиции. По поводу экспедиции она осенью 1765 г. писала Чичерину: «С нетерпением ожидаю, что далее произойдет» [7, с. 115].
Адмиралтейств–коллегия подготовила для экспедиции секретную инструкцию, которую в запечатанном виде передала Креницыну. Содержание инструкции Чичерин в Тобольске должен был объявить Креницыну, вскрыв пакет.
Согласно инструкции, из Тобольска Креницын со своими спутниками должны были направиться на Камчатку, а далее плыть в качестве пассажиров на судах промышленников, следовавших на промыслы к Алеутским островам. В плавании морякам команды Креницына следовало вести «во всех путях счисления, и всех приключений наблюдения, и примечания подлежащих к описи окрестностей».
«В те же журналы [21] 21
которые обязаны вести моряки Креницына во время плавания в Восточном океане и пребывания на островах. – Авт.
[Закрыть] вносить должно, ежели увидят, как на сухом пути, так и на воде, каких зверей, положение мест, леса, птиц и рыб, которые с находящимися в России сходства не имеют, или в чем‑нибудь сходствуют, и в чем именно разнятся, и прочее, подлежащее для куриозности и известия».
Моряки экспедиции должны были «записывать же состояние народов, то есть, как которой зовут; с каким оной сходствует; какое платье и обряд около себя имеют; как домовно живут; какую пищу употребляют; какие промыслы имеют; какое богослужение отправляют; есть ли хлебородие и хлебопашество, и сколько велико; какой скот и дворовые птицы, кроме дичи; также их обхождение; стараясь, сколько возможно допустить и чем возможно же будет, снимать рисунки.
Если же случай допустит быть на островах, леса имеющих, то примечать, какого те леса роду; и буде найдут супротив российских отличные, то пробовать из доброты; и несколько на пробу также и семян их брать. Если же найдутся какие металлы, то по нескольку из них брать же и с журналами присылать в Коллегию»[2, с. 295].
На Камчатке Креницыну предлагалось взять себе в проводники казака Савина Пономарева, лучше всего «плыть от о. Медного прямо к о. Умнаку, курсами, тому Пономареву и прочим его товарищам знаемыми; и стараться всячески ускорить приход свой к островам Умнаку или Уналашка». Креницын должен был собрать сведения «о всех тех 16 островах, о которых те жители Пономареву сказывали; что лежат они от Умнака и Уналакши к осту или к норд–осту и распространяются далече, как то в репорте того казака в Большерецкую канцелярию и на карте, сочиненной тотемским купцом Петром Шишкиным, объявлено».
У алеутов о. Умнак Креницын должен был «особливо доведываться» об островах «Алахшаке многолюдном», Кадьяке и «Тыгачь–таны или Шугачь–таны», т. е. об островах и землях, лежащих на восток от Умнака. Речь шла уже о неизвестном тогда побережье полуострова Аляска и об островах к югу от него.
В случае зимовки Креницыну было рекомендовано зимовать у того острова, который «лесной, жилой и многолюдной, ловли морских зверей и земляных имеющей»– Алахшаке, т. е. ему рекомендовали разыскивать Большую Землю–Аляску [2, с. 296–297].
Креницыну выдали экстракты из журналов и копии карт экспедиции Беринга и Чирикова в 1741–1742 гг., а также копии карт морей Арктических и карты Петра Шишкина, участника плавания Глотова.
Адмиралтейств–коллегия выдала Креницыну в запечатанном конверте «Секретное прибавление к инструкции», с которым он должен был ознакомиться только «на Камчатке, как будет садиться на суда к отправлению в поход». В этом «Секретном прибавлении» сообщалось об предстоящем отправлении экспедиции «для поиску северо–западного прохода от Шпицбергена в Тихий океан к Камчатке», назывались командиры трех судов. Креницыну сообщали порядок опознания этих судов, условные сигналы, в том числе пушечными и ружейными выстрелами по особому порядку, и пароли.
Особо любопытны пароли встречи: «А ежели у него [22] 22
Креницына. – Авт.
[Закрыть] , а паче у штурманов, рассаженных на другие промышленные суда, пушек и ружей не будет, а вид судов, или судна, будет ему казаться многосхожим с рисунком [23] 23
Креницыну были переданы «тех судов фигуры, 6 листов». – Авт.
[Закрыть] , тогда, подошед к ним сколько можно будет ближе, учинить всеми людьми всевозможной крик, вскрича три раза «Агай!» на подобие «Ура!» [24] 24
это слово сообщил А. И. Чириков, описывая высадку своих подчиненных моряков на американский берег. Крик «Агай» означает тлинкитское (тлинкиты – одно из индейских племен) слово «агау» (agou), т. е. «иди сюда». – Авт.
[Закрыть] .
А когда на то с тех судов в ответе троекратно вскричат «Агай!», тогда, вторично вскрича «Боже помоги, боже помоги, боже помоги!», ждать от судов ответа троекратно «Да поможет и нам!».
А когда на оба вопроса ответствовано будет исправно, тогда вскричать в последний раз «Остров Умнак!» трижды и ждать от них в ответ восклицанием трижды ж «Остров Оннекотан!»»
Так же должны были сигнализировать моряки с кораблей экспедиции Чичагова в случае встречи и приближения к судам Креницына. «Что ежели с обеих сторон сделано будет по сему, а особенно голосной крик на русском языку чисто и исправно, тогда заподлинно верить можно, что те суда наши, и соединиться с ними для вышеизображенных нужд можно»[2, с. 300–301].
Состав экспедиции был сформирован Адмиралтейств–коллегией 16 июня 1764 г. В этот день все ее участники были произведены в следующие чины: Креницын стал капитаном 2-го ранга, а Левашов – капитан–лейтенантом. Из штурманов в экспедицию включили Афанасия Дудина–большего, Афанасия Дудина–меньшего, Якова Шебанова, Михаила Крашенинникова; из подштурманов – Сергея Чиненого, Александра Степанова, Ивана Срулева; а также штурманских учеников – Конона Ларионова, Петра Страхова; матросов Родиона Абрамовского, Кирилла Лошкарева, Евдокима Иванова, Егора Маторного, капрала Ивана Шипицына. Экспедиции были выданы 12 морских квадрантов – инструментов для измерения высоты солнца.
Из Петербурга Креницын с командой из 16 человек выехал 1 июля 1764 г. На 42 подводах экспедиция прошла в Тверь, а оттуда 18 июля поплыла на барже по Волге до Казани. Далее из Казани сухим путем экспедиция последовала через Кунгур, Екатеринбург, Тюмень и прибыла в Тобольск 17 сентября 1764 г.
В Тобольске сибирский губернатор Д. И. Чичерин вскрыл доставленный Креницыным пакет с инструкциями экспедиции, и только тогда последнему стало известно истинное назначение его прибытия в Сибирь. Он мужественно и просто принял к выполнению сложную и ответственную поставленную перед ним исследовательскую задачу.
Губернатор Чичерин принял решение изменить характер работы экспедиции и отказаться от работы ее участников на промысловых судах. Он распорядился построить для экспедиции в Охотске два судна и передать их под команду Креницына. В Тобольске к экспедиции были прикомандированы 10 штурманских учеников из местной навигационной школы и команда из «нижних чинов». Экспедицию снабдили необходимыми материалами и припасами.
Губернатор Чичерин составил особую инструкцию для экспедиции, в которой поместил различные советы и указания властям Якутска, Охотска и Камчатки в части содействия и обеспечения экспедиции. Для самого Креницына в ней было указано: «За главнейшее основание порученной вам экспедиции поставляю несколько уже известных, сысканных купцами Алеутских островов, основательное описание и положение оных на карту сделать, а особливо большого и многолюдного острова Кадьяк;
приложив всевозможное старание, обходя его вокруг, писать весьма нужно, остров то или матерая земля, ибо на показания бывших на том острову наших людей утвердиться не можно»[7, с. 114].
Далее в рассказе об экспедиции все цитаты взяты из «Экстракта из журналов морской секретной экспедиции под командою флота капитана Креницына и капитан–лейтенанта (что ныне капитан) Левашова разных годов в бытности их в той экспедиции, с 1764 по 1771 годы», помещенные в 2, с. 435–458.
Перезимовав в Тобольске, 5 марта 1765 г. экспедиция тронулась в дальнейший путь в Иркутск. Проездом через Томск Креницын «взял себе в команду троих школьников, знающих начальные основания математики». В Иркутск Креницын прибыл 4 апреля. Там он также включил в состав экспедиции трех учеников местной навигацкой школы. Из Иркутска Креницын проехал в Качуг в верховьях Лены и организовал оттуда сплав экспедиции в Якутск.
15 мая экспедиция на пяти плошкоутах поплыла вниз по реке к Якутску, «переменяя для сплаву работных людей в погостах и деревнях». В пути зарисовывали «каменистые берега, кои по тамошнему называются щоки».
В Якутск экспедиция прибыла 5 июня 1765 г. Там Креницын взял в состав экспедиции 20 казаков местной команды. Все приспособления, материалы и припасы, необходимые в дальнейшем для проведения экспедиции, уложили в сумы и ящики, весом каждый 2, 5 пуда (40 кг), и «везены были верхом на лошадях. На каждой – клади по пяти пуд. Дорога от Якуцка к Охоцку весьма была трудна за болотами, грязьми, чрез реки по бродам, лесом–валежником и высокими горами». Последняя партия с Креницыным во главе прибыла в Охотск в октябре 1765 г.