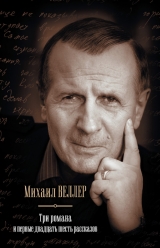
Текст книги "Три романа и первые двадцать шесть рассказов (сборник)"
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 83 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
Преимущества выпивки с утра давно исследованы. Утро и так вечера мудреней, а расширяющий сосуды и взбадривающий нервы алкоголь накладывает на перспективу еще цельного дня оптимизм приятных возможностей. Все только на работу, а нам уже хорошо.
Утренняя Тверская уже шумела вовсю, когда моряки вышли из бара в расположении духа, близком к геройскому. У края тротуара Шурка поднял руку. Первая машина проехала мимо, вторая вильнула и обдала грязным веером из-под колеса, а номером третьим цокала подковами по мостовой лошадь, впряженная в прогулочно-экскурсионную пролетку. Бородатый кучер в декоративном синем армяке натянул вожжи.
– Тпру-у, – сказал он. – Вам куда?
– Да нам машину, – с сомнением сказал Шурка.
– А какая разница? Сейчас везде пробки, машина быстрее не будет. А здесь город посмотрите, воздухом подышете, покурите спокойно. Закапает – фартук поднимем. Возьму как все.
Воздух состоял в основном из двуокисей углерода и серы и недогоревшего от плохой регулировки низкосортного бензина. Дышать им хотелось лишь в меру необходимости.
Но никто из троих никогда не ездил в конном экипаже – лишь иногда наблюдая эти музейные извозчичьи пролетки на улицах: в них было что-то от детского праздника и одновременно от шика небедных гуляк.
– Вообще-то нам на Пречистенскую набережную. Ближе к Храму, – колеблясь, сказал Ольховский.
– Сорок рублей устроит? Садитесь.
Не успели тронуться – заморосило. Под надвинутым кожаным тентом сделалось необыкновенно уютно. Это напоминало детское ощущение от пересиживания дождя в самодельном балагане. Только этот балаганчик покачивался и плыл над вонючими автомобилями.
– По бульвару поедем или через Манежную? – спросил извозчик.
– А как быстрее?
– А так на так выйдет. Вы не против, если я бороду сниму? Чешется после ночи.
Он стащил бороду вместе с усами, закрепленную на резинке под шляпой, и оказался интеллигентным человеком с усталым изжелта-серым лицом. Поскребся и удовлетворенно покряхтел.
Лишенное маскировки, теперь на его лице открылось выражение горького и неуверенного достоинства, которое в девяносто втором году навсегда приобрели бывшие работники умственного труда, каковой труд был не столько умственным, сколько необременительным и сносно оплачиваемым оплеванной соввластью. В соответствии с этим выражением, он недолго искал поводов к разговору.
– Порядок прибыли наводить, авроровцы? – спросил он с маневренной усмешкой, которую одинаково удобно и правильно обернуть как иронией над собеседником, так и солидарно взывающей к собеседнику иронией над предметом разговора.
– Почему вы решили, что мы с «Авроры»? – польщенно изумился Ольховский, стряхивая пепел с сигареты неловко так, что его задуло ему в рукав. – Что, уже знаете?
– А что тут знать, – извозчик кивнул на матросов. – На лентах у вас что написано – или это внутривидовая мимикрия?
Я устал, подумал Ольховский. Черт, что такое мимикрия – приспособляемость? Чертов город с академиками на козлах.
– Вы раньше кем работали? – спросил он, и через пять минут проклял свою вежливость: у извозчика произошло недержание речи. Всю ночь он искал седоков и выслушивал их похвальбу, критику, деловой жаргон и поучения, а разговаривать с лошадью он считал литературным плагиатом ниже своего достоинства.
Он был биологом, он был доцентом, он принадлежал к боковой ветви рода Вавиловых, а теперь он работал в зоопарке, брал в почасовую аренду лошадь с повозкой, армяк и бороду купил на распродаже бутафории обанкротившегося театра, и если бы не спонсорство Greenpeace’a, подох бы с голоду вместе с семьей и лошадью, потому что овес нынче дорог, а от хлеба у лошади болит живот.
– Вот четыре дня назад катал ночью одних, в туалет мне понадобилось, у Белорусского вокзала остановил, я не могу как-то на тротуаре, знаете, мочиться, возвращаюсь, так они ведро у уборщицы взяли, водки туда налили, пивом развели и напоили. Она как рванет с места, ржет, еле остановил, а она встала тогда, головой мотает и плачет, вот такие слезы из глаз катятся. А они хохочут, вот, говорят, русская душа, или вскачь, или в слезы. Это что, люди, я вас спрашиваю? Ну что, можно с такими людьми жить?
– А что ж вы ночью работаете?
– А днем она занята.
– Чем?..
– А днем ее другой арендует, ветеринар. Он раньше меня устроился, так что мне только ночь осталась.
– Так она ж подохнет!
– Типун вам на язык, – сказал доцент-извозчик и перекрестился.
– А о чем зоопарк-то думает?
– А он с аренды, что я ему плачу, корм для животных покупает. Лошадей много, а львы дороги… им мясо нужно.
Ольховский вытянул из кармана шинели сложенный пополам красный пакет и посмотрел на него. Он собирался вскрыть его в каюте. Вскрывать секретный пакет с боевым приказом в баре не подобало. Как, впрочем, и на извозчике. Но выпив, продышавшись и придя в себя, он отметил совершенное нежелание гвоздить по целям Генштаба (или кого бы там ни было) в Москве – пусть сумасшедшем городе, но в сущности заслуживающем жалости. Кроме того, было ясно, что в этом случае он становится крайним, и его головой пожертвуют в первую очередь.
Он зубами оторвал угол необыкновенно плотной неподатливой бумаги и разодрал пакет по краю.
В нем оказалась сложенная в восемь раз карта Москвы, отпечатанная в одну краску четким угольным штрихом. Она пестрела красными значками. По верху крупным твердым почерком значилось:
«Схема минирования ключевых объектов г. Москва». Вкось левого угла – резолюция: «Утверждаю». В правом: «Ответственный». Подписи неразборчивы. Внизу стояла дата: «17 октября».
На приложенных одиннадцати листах шел перечень зданий, электростанций, водонапорных станций, радиостанций, железнодорожных станций, продовольственных складов и мостов. Против каждого пункта указывался расход взрывчатки.
Пожевав губами, Ольховский пробормотал:
– Ну, это уже слишком. – И откинулся на сиденье.
Шурка присвистнул.
– Ох да ни фига себе… – протянул перегнувшийся Бохан, капая из носу на красный треугольничек у Большого театра.
Посовещались. Действительность превзошла их скромную мечту. Как часто бывает в военных верхах, им дали не тот приказ. Наказание должно было последовать как за невыполнение своего, так и за осведомленность о чужом. Выход?
«Слыхал я об этом… да не верил», – похлопал Ольховский по карте.
– Есть закон, – сказал Шурка. – Опасную информацию – сбрось. Тогда ты будешь уже никому не нужен.
– На телевидение надо, чтоб передали, – предложил Бохан.
Шурка захохотал. Ольховский поморщился.
– Извозчик! Гони в Думу!
– Точно! Там ор поднимут!
– Ксерокс надо снять на всякий случай!
– У них прямо там ксероксы должны быть.
– Вообще охренели – весь город взрывать…
У главного подъезда Думы в Охотном уже собралась обычная мелкая демонстрация – с парой невнятных лозунгов и неразборчивыми призывами. В дверях то и дело показывались два-три молодца в малиновых пиджаках: они выносили на руках очередного сопротивляющегося мужика. На «раз-два-три» его, качнув, по дуге пускали на тротуар. Дрыгнув лаптями, мужик шлепался, поднимался, ощупывая поясницу, и отходил отряхиваться в сторону, освобождая посадочную площадку для следующего. Иногда мужик случался дороден, в расчищенных сапогах и с ухоженной бородой; такого обычно спускали тычком взашей и пинком, и он шлепался на брюхо, а ближайший из демонстрантов подавал ему откатившийся картуз.
– И это вы называете демократическими выборами! – не слишком громко, с опаской, выкрикивал худой мужик в рваном зипуне, с медным крестом поверх.
Рядом стояла шаланда, набитая узлами и фанерными чемоданами; на груде пожитков сиял пузатый самовар и мокла канарейка в клетке.
– Парламентские фракции делят комитеты государственной безопасности, – тоном экскурсовода прокомментировал извозчик. – Ничего, мы с бокового входа заедем.
Малиновый амбал вынес, брезгливо кривясь, огромную фарфоровую вазу, расписанную китайскими драконами. Он подтащил ее к мусоровозу, приткнувшемуся за шаландой, и с натугой метнул. Ваза раскололась над разинутым ковшом, сполз бурый потек, запахло отвратительно и характерно.
– Ишь нагадили депутаты, – добродушно усмехнулся извозчик.
Он чмокнул, дернул вожжой и свернул на Большую Дмитровку. С этой стороны здание чрезвычайно напоминало Зимний Дворец. Не то чтобы вовсе Зимний, но сходство было. Даже крыльцо с атлантами высилось дальше по фасаду.
– И жить еще в надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках, – сказал извозчик, превращаясь в доцента-шестидесятника. – Только они и не воруют – руки заняты. Как насчет шестидесяти рублей, командир? Все же крюк сделали.
Просторный дворцовый холл отблескивал зеркалами и мрамором. Секьюрити пасла вход и киоск с сэндвичами и глянцевыми журналами.
– Могу ли я видеть кого-нибудь из депутатов Думы? – обратился Ольховский к ближайшему охраннику.
– Можете, разумеется, ваше превосходительство, – отвечал тот, соединяя в стойке «смирно» почтительность с небрежностью бывалого служаки, – но не здесь.
– То есть?
– Здесь вас ожидает министр двора его сиятельство граф Фредерикс. Позвольте проводить.
В голове у Ольховского зазвонила корабельная рында, и он осел на подхватившие его руки.
13.Сигнальный мостик, давно соединенный для оперативности с громкой трансляцией, объявил:
– Какая-то жуткая дура летит на нас! Товарищ старпом!!!
По закону подлости Колчак сидел в гальюне. Поскольку доклад требовал немедленного принятия решения, он скакнул к телефону, поддерживая одной рукой брюки, и заорал в трубку все, что мог пока сообразить к исполнению:
– Воспрепятствовать!!!
И, судорожно приводя себя в порядок, выскочил наверх. Наверху он увидел, что сигнальщик несколько погорячился, хотя зрелище было действительно эффектным. Из-за Боровицкой площади в прояснившемся голубом небе полз в их направлении громадный неуклюжий самолет. Шесть прозрачных пропеллерных дисков на округлых крыльях размахом с (казалось) футбольное поле отсвечивали солнечной пылью. Еще два пропеллера вращались над фюзеляжем с обоих концов приподнятой мотогондолы. Это восьмимоторное чудовище выглядело страшно и миролюбиво одновременно, как мог бы выглядеть раздобревший змей-горыныч в очках и галстуках, и слало с высоты мягкий приятный рокот синхронизированных двигателей, работающих на очищенном стооктановом бензине. Кроме размеров и архаичной конструкции, необычным в аэроплане был цвет – светло-алый, как отглаженный шелковый пионерский галстук из детства старпома. Снизу во всю ширь крыльев было выведено ностальгическим шрифтом архивных газет: «МАКС ГОРЬКИЙ».
Вокруг агитмонстра кружились, закладывая виражи и крутя мертвые петли, два крошечных, как осы, истребителя, надсаживаясь тонким и жестким металлическим звоном.
Колчак распялил рот, чтобы отменить приказ стандартным отзывом на событие, не имеющее отношения к кораблю: «Не препятствовать!», но уже взведший маузер сигнальщик с детским счастьем прицелился и почти очередью в десять патронов опустошил магазин по курсу воздушной кавалькады.
Маузеровская пуля покидает длинный ствол одноименного пистолета со скоростью около пятисот метров в секунду, и пробивает дюймовую доску на расстоянии километра. Другое дело, что дальность эта выходит за пределы прицельной, но если попадет – то пробивает.
Таким образом, можно усмотреть прямую связь между стрельбой и тем, что один из истребителей через секунду после того, как пуля покинула ствол и помчалась в его направлении, вошел вверх брюхом в верхнюю точку своей петли метрах в восьмидесяти над гигантом и вдруг резко клюнул носом, с полуоборота ринулся в пике, накренился на крыло и врубился в правую плоскость «ГОРЬКОГО» у самого основания.
Колчак непроизвольно охнул.
– А-а-а-а!!! – с диким восторгом заорал сигнальный мостик. Плоскость отвалилась и планируя закувыркалась вниз, как лист фанеры. Винты еще продолжали вращаться, и это было особенно жутко, как движения отрубленной конечности. «МАКС ГОРЬКИЙ» свалился в правый штопор и закувыркался вниз, как щепка, увлекаемая в водоворот. Мелкие останки истребителя, отблескивая на солнце, порхали и сыпались рядом с ним.
Все это рухнуло и взорвалось. Клубящийся шар белого огня взлетел вверх и на высоте сотни метров стал расплываться и окутался черным облаком, струистый след его подъема превратился в дымную ножку гриба, и все это напоминало ядерный взрыв в миниатюре. Военные знают, что на учениях атомный взрыв имитируется подрывом именно бочки бензина. Здесь была скорее цистерна…
Раздался вздвоенный грохот потрясенной и вновь вернувшейся в нормальное состояние атмосферы.
Колчак закрыл глаза, и в этой мгновенной темноте услышал поставленный звучный голос снизу за бортом, произносящий слова очень отчетливо – в этой отчетливости было со вкусом выражаемое неодобрение:
– Господин старший помощник! Извольте подать адмиральский трап!
Под бортом стоял плот. Плот представлял собой дощатый помост, закрепленный на связанных железных бочках. Он изрядно просел в воду под грузом.
Груз был немал. Посреди помоста стоял конный памятник чугунного литья. Всадник в остроконечном шлеме простер тяжкую десницу владетельным утверждающим жестом.
Такое может привести в остолбенение кого угодно. При этом памятник был как две капли воды похож на Юрия Долгорукого и даже обсижен голубями. Оглушенный явлением Колчак не сразу сообразил, что перед памятником он видит живого человека, держащего его под чугунные уздцы. Человек был плотен, лыс, бородат и осанист той барственной государственной осанкой, которая дается только привычкой к реальной и большой власти и беспрекословию. Одним словом, сановник.
– Вы еще долго изволите заставлять меня ждать? – с убийственной вежливостью осведомился он.
14 .– Так это все-таки Зимний? – тупо переспросил Ольховский. – Но почему в Москве?
– Пришлось переехать, голубчик, – сухо ответил Фредерикс, подливая в кофе сливки из серебряного сливочника с вензелем. Отпил, промокнул губы: – Закусывайте, прошу вас. Может быть, хотите водки? Не стесняйтесь.
Лакей приблизился со спины и налил из хрустального графинчика с пробкой в виде птичьей головки. Ольховский выпил, взял с блюда ломтик лососины и замер в затруднении: резать рыбу ножом нельзя, но совать ломоть в рот целиком тоже нельзя. Будь все проклято, в его время в Морском корпусе, в смысле в Первом высшем имени Фрунзе (какое отношение Фрунзе имел к морю?! – подумал он злобно), этому уже не учили. Помогая вилке кусочком хлеба, свернул ломтик вчетверо и отправил в рот, безнадежно упустив момент, когда, выждав четыре-пять секунд после глотка и давая проявиться послевкусию, надо сделать легкий полувыдох и послать в рот закуску.
– После вашего… отбытия, – светски продолжал Фредерикс, – дальнейшее пребывание в Петербурге стало решительно невозможным. Каждую ночь они, видите ли, штурмовали Зимний дворец. Вся эта, простите, беглая солдатня, нижние чины флота также, вынужден заметить, неизвестно кем вооруженные пролетарии палили по окнам, орали, ломали ворота. Вы бы видели, как они загадили Иорданскую лестницу! И если бы они сами хотели в нем жить – это еще можно понять, так нет: разобьют прикладом статую, полоснут штыком по картине, о некоторых деталях за столом умолчу. И ищут министров-капиталистов и винный погреб! Абсурд, но жить в этом абсурде невозможно. Я понимаю: страсти, бунт, порыв масс, как выражаются социалисты, но не каждую же ночь, мон дью! Вполне понятно, что пришлось переехать.
Лакей налил еще раз, и на этот раз Ольховский закусил предусмотрительно ломтиком поджаренного ржаного хлеба, раздавив по нему шарик масла. Фредерикс жевал белый тостик с апельсиновым мармеладом.
– Я не касаюсь вашего отношения к присяге, приказу и тому подобного, – сказал он. – Меня, допустим, это совершенно не касается. Но я убедительно прошу вас, слышите – убедительно: не надо хоть здесь, в Москве, стрелять по Ходынскому полю!
Ольховский поперхнулся.
– Но мы не стреляли по Ходынскому полю!
– Увольте меня от расследования. Но откуда взялись на Ходынском поле эти воронки? эти ямы?! Вы понимаете, какие следствия, какие губительные следствия это может иметь для всего царствования нашего монарха? Прибывший на раздачу подарков народ начал в толпе сталкивать друг друга в эти ямы, с чего и произошла катастрофа! Согласен: это была необдуманная затея – бесплатная раздача пряников, не говоря о кружках и платках. Но кому могли прийти в голову ямы?
Он вздохнул, взял прислоненную к ножке стола гитару и печально запел надтреснутым, но не лишенным приятности старческим тенорком: «И пряников, кстати, всегда не хватает на всех». Ольховский вежливо слушал, изображая удовольствие и подобающую задумчивую грусть. Он не любил Окуджаву, хотя предпочитал не сознаваться в этом в компаниях.
– И еще одна просьба, – обратился Фредерикс, подумал, легким отмахивающим движением пальцев изобразил сомнение, преодоленное бесшабашной решимостью, и также выпил водки. – У вас есть один матрос на корабле, Гавриил Принцип…
– К сожалению, матрос не лучший, – позволил себе подпустить доверительное сожаление Ольховский. – Но удивлен, что вы осведомлены о такой частности.
– С одной стороны, прямо это меня, опять же, не касается, – кивнул извинительно Фредерикс. – С другой стороны, это как нельзя более прямо касается нас всех, мон шер. Видите ли, его мать – сербка по происхождению, и он отчасти считает себя сербом.
– От какой же части? – фривольно пошутил каперанг.
– Шутку вашу нахожу неуместной. Но могу отвечать в вашем настроении: в той части, которая держит оружие!
Ольховский наморщил лоб, вспоминая учебник истории, который в последний раз держал в руках перед выпускным школьным экзаменом.
– Шлепнет твой дурак Груня натовского эрцгерцога Фердинанда – и конец рулю! – вскричал Фредерикс, отбрасывая скомканную салфетку и с этим жестом словно отбрасывая всю сдержанность и этикет. – А они его берегут, потому что кроме «Порше» он делает тяжелый танк Т-VI «Тигр» и штурмовое орудие «Фердинанд»! А это лучшая для своего времени бронетехника в мире! А на Балканах пахнет очередной мировой войной! Это тебе не Швейка читать! И не будешь ты знать, командир, как жрать рыбу за приличным столом!
Он взял поданную лакеем свежую салфетку и расправил.
– Прошу великодушно простить. Сорвалось.
Пожевали в молчании.
– Так уж запомните мои просьбы, господин капитан первого ранга. А упомянутого матроса вам лучше всего следует сдать в дисциплинарные роты. Там… вопрос с ним решится сам собой. Уверяю вас, это будет высшее человеколюбие.
15 .И только Иванов-Седьмой оставался в полном неведении относительно всего, что творилось кругом. Государственные думы обустройства России гнели его. Он уже видел себя советником нового главы государства и вручал ему свой путеводный труд.
«Я решил, – старательно писал он, – без посредников – коротко и ясно – рассказать, что думаю про нашу сегодняшнюю жизнь и что надо сделать, чтобы она стала лучше.
О наших проблемах. (Сомнения по поводу истории с куртками все еще жгли его и просились к обобщению.)
Для гражданина России важны моральные устои, которые он впервые обретает в семье и которые составляют самый стержень патриотизма. И задача лидера – настроить на общие цели, расставить всех по своим местам, помочь поверить в собственные силы.
Наша первая и самая главная проблема – ослабление воли. Потеря государственной воли и настойчивости в доведении начатых дел. Люди не верят обещаниям власти, а власть все больше теряет лицо. Люди не могут рассчитывать ни на силу закона, ни на справедливость органов власти. Только – на себя. Тогда зачем им такая власть?»
Иванов-Седьмой вспомнил о схватке с бандитами и стал писать:
«Яркий пример такого застарелого зла – преступность. Но стоило нам вступить в прямую схватку с бандитами, разгромить их – и сделан реальный шаг к верховенству права, к диктатуре равного для всех закона.
Но ведь этого нельзя было сделать, сидя в Москве и сочиняя очередные „программы по борьбе с преступностью“. Надо было принять вызов на поле противника и именно там его разгромить.
Еще одна большая проблема. Нам сегодня, как воздух, нужна большая инвентаризация страны. Мы очень плохо представляем себе, каким ресурсом сегодня владеем». (Последний тезис восходил к впечатлениям от раздачи танкера с соляркой.)
Он задумался. Избыток проблем настраивал на удручающий лад. Чтобы избежать этого, он по размышлении решил заменить их на слово «приоритеты». В самом этом слове содержалось что-то волевое, показывающее, что проблемы уже решаются.
И с новой строки вывел покрупнее:
«О наших приоритетах.
Наш приоритет – побороть собственную бедность. Надо самим себе однажды сказать: мы – богатая страна бедных людей».
Воспоминание о пенсионерах в Вытегре породило абзац:
«Возвратить им положенный долг – уже не просто социальная, но в полном смысле политическая и нравственная задача».
Бой на рынке лег в основание строк:
«Наш приоритет – защита рынка от незаконного вторжения, как чиновного, так и криминального.
Наш приоритет – это возрождение личного достоинства граждан во имя высокого национального достоинства страны.
Наш приоритет – строить внешнюю политику исходя из национальных интересов собственной страны. Надо признать верховенство внутренних целей над внешними.
У нового поколения появился великий исторический шанс построить Россию, которую не стыдно передать своим детям».
И завершил свою мысль так:
«Объединив усилия, мы все насущные задачи решим – одну за другой».
Объединение усилий следовало как-то подчеркнуть, обосновать общностью цели, и после мучительных поисков и сомнений она была обозначена так:
«О нашей общей цели.
Если искать лозунг для моей позиции, то он очень простой.
Это достойная жизнь. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком».
Желудок сегодня давал себя знать, поэтому Иванов-Седьмой отхлебнул принесенного с завтрака киселя и запил его разведенным порошковым молоком. Он углубился в видения достойной жизни, как видел ее сам, принявшие под влиянием этих напитков какие-то фольклорные образы, когда мысль его была отвлечена тяжелыми шагами по карапасной палубе.
Шаги близились, и звучали так, как могли бы звучать размеренные удары металлического или каменного груза по металлу. Так мог бы шагать Каменный Гость.
Дверь каюты отворилась, и в нее боком, пригнувшись, втиснулся огромный человек, сплошь закованный в железные латы. При рассмотрении это оказались не латы, а сплошное чугунное литье. Местами чугун позеленел от атмосферных окислов и всякой дряни и даже был кое-где засижен буро-белесыми отметками голубей.
– Здрав будь, боярин, – сказал этот человек-статуя, распрямляясь и упершись навершием чугунного шлема в потолок каюты. Голос его не гудел чугуном, как можно было бы ожидать, а прозвучал неожиданно тонко и с заметной простудной гундосостью.
– Здравия желаю, – машинально ответил Иванов-Седьмой, привставая и пятясь, и с недоверием покосился на кисель.
– Слово и дело к тебе государевы, – без предисловий приступил статуеобразный гость и потрогал рукой стул. Стул развалился. – Не господская у тебя мебель. Ладно. Постоим.
– Вы… кто? – пробормотал Иванов.
– Я? – немного удивился гость. – Юрий. Князь. Долгая Рука погоняло имею. А ты, стало быть, тот дьяк, что новому князю программу пишет?
Иванов-Седьмой впервые в жизни перекрестился. Князь Юрий посмотрел по углам и также перекрестился на портрет каперанга Егорьева, висевший над книжной полочкой. Шлема он при этом, однако, не снял, и Иванов отметил, что перекрестился он двоеперстием.
– А… откуда вы знаете… про меня? – продышался он.
– Вои морские на лодье твоей сказывали. Однако дело слушай. Мне вот памятник поставили. На восемьсот лет Московы. Как я город заложил. Там, было дело, чудь жила. Но это не в счет.
– Так точно!
– Это не твоего ума дело – точно либо не точно. Князь молвит – стало быть, точно. Еще вперед сказывать станешь – удавлю.
Иванов-Седьмой взглянул на чугунную рукавицу и изъявил согласие и покорность движением век.
– Конь подо мной был. Он и ныне подо мной. Сейчас наверху ждет. С конем неладное вышло.
Князю подобает на кобыле ездить. Резвость у нее не меньше. А скакать может дольше. И нрав ровнее. В дозоре на жеребца не заржет, ворогу не выдаст. И в сече на жеребца не отвлечется. А конь может. Потому – кобыла.
А сладили коня. Меня не спросили. Смерды!.. Ладно. Конь так конь. Что делать. Конь могутный. Хотя стать тяжкая, а в бабках тонок. И в шаге неходок. Неразумен, не понимает ничего. Но ладно.
Поставили памятник. Народишко сбежался. Сняли покрывало. А народишко за животы похватался и надсмешки строит. Хер, говорят, у жеребца большой. И ятра большие. Снизу им хорошо видать.
Лучшие люди иск учинили. Пошто князеву коню такой хер и ятра? Что сие значит? Какой тут злой умысел? Кому князь хер и ятра показывает? Властным людям и граду их стольному? Мастера в застенок сволокли. Там и помер. А ночью коню хер и ятра отрезали напрочь. Поныне и нету. А того не ведают, что ежели жеребца обхолостить – кобылы из него все одно не будет. Им все едино, а мне каково? Не можно князю на мерине ездить! За что позор?!
– Негодяи! – как бы не сдержавшись, вознегодовал Иванов-Седьмой, показывая, что никак не может такого стерпеть.
– Хер тот чугунный с ятрами человек один тайно купил, что диковины собирает. На особом столе в дому его лежит, – князь развел руки, показывая размеры экспоната. – К тебе и дело: вернуть его надобно. Сделать все обратно, как должно быть. Потому не будет столу и державе ни в чем порядка, ни прибытка, ни почету, покуда конь под князем холощен, а сам князь в позоре. Меня понял?
– Так точно! – выпалил Иванов-Седьмой. – Понял! понял! – поправил он себя, вытянулся смирно, подумал и слегка, не унизительно поклонился.
– То-то, что понял. Человека того найдешь и все, что надобно, сделаешь. А то мне тоже отрады нет зрить, что кругом деется, въезжаешь, братан? Ну, ступай, проводи меня к коню.








