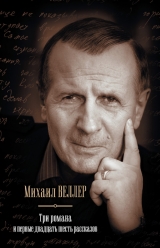
Текст книги "Три романа и первые двадцать шесть рассказов (сборник)"
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 83 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
– Ура-а! – нестройно и с несерьезным энтузиазмом, как в новогодний салют, закричали на теплоходе. Там неслышно захлопало шампанское, и пенные струи заляпали фужеры и палубы.
– Полундра!! – грянул крейсер.
Разрозненные выстрелы застукали в городе, и кое-где пятнами стало гаснуть электричество, словно отдельными кусками начал исчезать городской пейзаж.
Непосредственных событий за этим последовало два.
– Раз, два, три, четыре, пять… шесть… – отсчитал секунды Ольховский. – Сигнальщик!
– Разрыв не наблюдаю, – доложил сверху Серега Вырин.
То, что не был отмечен разрыв, особенно удивлять, в общем, не могло. Только в кино разрыв снаряда изображается сполохом бочки бензина. Вспышка шестидюймового снаряда в освещенном городе малозаметна, а из-за высоких кремлевских стен, ночью, когда не засечь фонтан пыли и мелких обломков, увидеть ее скорее всего и невозможно. Иногда и артнаблюдатель теряет свой разрыв. Но звук разрыва на таком расстоянии должен был отдаться достаточно отчетливо. Хотя – городские шумы и постройки дробят и поглощают звук, как глушитель… Выждали еще несколько секунд. Черт. Неужели не разорвался?
Впрочем, это было не так принципиально. Не в прямом разрушении дело. На него никто и не рассчитывал. Один, без точного прицела посланный снаряд среди массивных каменных построек ничего особенного сделать и не мог бы.
Если это отсутствие видимых последствий считать первым последствием, то второе, при всей внешней несравнимости своего исторического масштаба с первым, было гораздо нагляднее. И даже давало удовлетворение, компенсирующее некоторую досаду от первого.
Вертолетик, как бы являя иллюзию экстерриториальной непричастности к происходящему и тем самым неуязвимости, что вообще свойственно действиям журналистов в горячих точках, особенно чужих, вертолетик висел недостаточно далеко от траектории бешено ввинчивающегося в воздух тупорылого гаубичного снаряда, гнавшего перед собой, в согласии со всеми законами баллистики и аэродинамики, купол ударной волны, таранящей и метущей воздушный тоннель. Задетый и сбитый с места этим тараном, вертолет подскочил в воздухе, мотнул хвостом, накренился, захлебываясь взвыл и, отчаянно взбив перекошенными лопастями, шлепнулся в темную воду.
Из него мгновенно выбрались пилот и оператор с помощником и, судорожно задыхаясь от холодной воды, забили руками, гребя к близкой набережной. Вертолет, обратившись кверху выпуклым остеклением носового блистера, быстро погружался. Из кабины вырвались с болотным бульканьем несколько огромных пузырей, косо задранная лопасть качнулась и плюхнула по воде, и он спокойно затонул. Камера с отснятой пленкой, очевидно, утонула вместе с ним.
10.Ночью на крейсере долго не могли заснуть. Чистили оружие, ждали новостей.
Проклятый плавучий кабак отвалил, на прощание какая-то пьяная сволочь запустила с него в борт бутылкой.
Ольховский, сложив руки за спиной, расхаживал по каюте в длину ковра: пять шагов вперед, пять обратно. Колчак каждый час поднимался на палубу, обходя вахтенных.
В городе все стихло. Странная ли это тишина стояла над Москвой, или это только чудилось возбужденным нервам, – трудно сказать.
В четверть шестого утра грянул телефон, подключенный к городским сетям.
Ольховский резко, как волк, повернулся на месте, сделал три строевых шага к аппарату, с прямой спиной снял трубку:
– Да!
– Я вас, наверное, разбудил? Простите, – вежливо и с непонятной раздражающей насмешливостью (показалось ему) извинился молодой голос. – Общественное российское телевидение беспокоит. Могу ли я говорить с командиром крейсера «Аврора» господином капитаном первого ранга Ольховским?
– Слушаю.
– Петр Ильич, это из передачи «Доброе утро». Телефон нам сказали в редакции новостей. Там был страшный скандал по поводу того, что они в вечернем выпуске не дали ваше послание, или ультиматум, как правильно сказать?
– Неважно.
– Мы очень хотим пригласить вас в сегодняшний выпуск. Вы бы могли приехать в студию? Машину за вами мы вышлем.
– Хорошо.
– Через полчаса машина будет на набережной, внизу вас встретят. Подождите, не кладите трубку, – еще: вы бы могли взять с собой еще пару человек, лучше матросов – ну, чтобы хорошо смотрелись в кадре, для колорита, так сказать?
Ольховский успел принять душ, побриться, сменил сорочку. Шурка и Бохан спешно наводили на себя марафет.
Катер с дремлющим ментом болтался под бортом. Сержант закусывал на камбузе. Со своим отделением они договорились вчера по рации удивительно быстро и легко, и сменяться отказались: аренда и зарплата отваливалась посменная.
«Рафик» подкатил, издали мигнув фарами. Темное нутро пахнуло автомобильным теплом и кожей сидений. Придерживая маузеры, охранно-колоритная пара полезла за Ольховским внутрь.
Водитель молча газовал, но молодой человек, сидевший впереди рядом с ним, вертелся и жужжал, как говорящая юла.
– Бабахнула шестидюймовка авророва! – с какой-то развратной фамильярностью цитировал он, словно все классики были банальными плагиаторами и его личными должниками. – Спокойно трубку докурил до конца, спокойно улыбку стер с лица. Вы случайно трубку не курите? Жаль, это бы хорошо смотрелось. Мы уже музыку подобрали к сюжету, и перебивки хорошие. А волны и стонут и плачут, и бьются о борт корабля. Вашу охрану тоже посадим, чуть-чуть позади, только не раздеваясь, вот так очень хорошо, жарко, конечно, будет под светом, но ничего. Ребята, вы какой год служите? С нами Бог и андреевский флаг.
Он слал вопросы, как выбрасывающая теннисные мячи машина, а собеседник служил лишь стенкой, чтоб мячу было обо что стукаться и отскакивать, и чтобы тут же отправить его снова – вопросы содержали в себе и ответы, и самодостаточную информацию о собеседнике в нужной интонации спортивного комментатора, а большего как бы и не подразумевалось.
«Рафик» с влажным шелестом несся по темным и пустым улицам, редко прочеркнутым пригашенными вывесками, проскакивая на желтый и кренясь на поворотах. Заложил вираж вокруг памятника Маяковскому, рванул по Тверской и через минуту, свернув в проулок и ринувшись в огромную арку, осадил у дубовых дверей, которые могли бы служить башенными воротами.
– Приехали! – весело объявил сопровождающий, и моряки вылезли. – Как Петрович ездит, а? Ас! – он похлопал шофера по плечу. – Айн минут! – Посмотрел на лица и счел нужным пояснить: – Ближняя студия! Для оперативных сюжетов. Ну, сами увидите.
Свет желтых фонарей перед фасадом, стилизованных под старину, почему-то напомнил Ольховскому рыбий жир, хотя он никогда в жизни не думал о рыбьем жире и даже в детстве его не пил. Сам же фасад, мрачноватый и казенно-величественный, вызывал смутные ассоциации с Главным управлением кадров ВМФ, где он был однажды много лет назад. Вообще Ольховский за всю жизнь посещал Москву лишь два раза, так сложилось.
– Поэзия вся – езда в незнаемое! – со своей жизнерадостной благоглупостью воскликнул телемальчик и с усилием оттянул тяжелую дверь, пропуская его вперед.
Вестибюль также не имел ничего общего со вчерашним бесприютным Останкино. Это был высоченный холл с лепным потолком и росписью на стенах, изображающей батальные сцены из русской истории. На одной из фресок, меж ложных колонн русского неоклассицизма, в водяных фонтанах разрывов резал хмурые волны броненосец, соединяющий в профиле черты «Осляби» и «Бисмарка». Орудия его изрыгали огонь в горизонт, где маячил силуэт другого броненосца, в который талант мариниста каким-то образом сумел вложить выражение плосколицести и узкоглазия: сразу делалось ясно, что это японец, а битва изображает Цусиму. Ольховский невольно задержал на ней взгляд: изображение обладало странной наивной убедительностью, и от него мгновенно передавалась обреченная тоска.
Простеленный ковровой малиновой дорожкой мраморный пол перегораживала дубовая стойка. В ее проходе стоял солдат с повязкой на рукаве и штык-ножом на поясе.
– Удостоверения, – сказал он.
Внимательно рассмотрев удостоверение личности Ольховского и военные билеты матросов и сличив фотографии, он наклонился к столу за барьером и по дырочкам оторвал из книги три заполненных пропуска. Половинки их вручил вместе с документами, а корешки нанизал на штык-нож и сунул его обратно, так что встопорщившиеся края бумажек торчали зажатыми меж гардой и краем желто-коричневых пластмассовых ножен.
– Вам второй этаж, кабинет двести один.
Оставшийся за барьером телемальчик помахал им и сказал:
– Счастливо! – так, что услышался подтекст.
Все это вместе вселяло легкое беспричинное беспокойство – свойственное, впрочем, преддверию любого нового или серьезного дела. Поднимаясь по лестнице, Ольховский успел подумать, что вообще-то ведь можно ждать чего угодно: что это ловушка ФСБ, или контрразведки ГРУ, или президентской охраны, или мало чего в Москве есть еще, неизвестного непосвященным морякам.
На лестничной площадке раскинулся на стуле камуфляжник с пристроенным на колене «кедром». Он не только не встал, но даже не повернул головы, продолжая смотреть перед собой и процеживая идущих сквозь неподвижную линию своего взгляда, параллельную с автоматным стволом.
В коридоре была та же малиновая ковровая дорожка с зелеными полями, гасящая шаги. Мягкий свет плафонов поглощался темными панелями в уровень роста. Коричневые дерматиновые двери в длинный ряд отблескивали по периметру и крест-накрест латунными пуговками обойных гвоздей.
Найдя нужный номер, Ольховский постучал в деревянный косяк. После повторного стука из-за двери донесся неразборчивый утвердительный звук.
Шагнув, Ольховский понял, с какой именно точки оформилось его беспокойство: часовой внизу, назвав номер, сказал не «студия» или «комната», а «кабинет».
Это был именно кабинет, очень просторный и притемненный. Окна были завешены сборчатыми шелковыми шторами. Во всю стену висела огромная карта Москвы, утыканная по восточной окраине флажками. Половину площади занимал неохватных размеров стол, выхваченный светом двух ламп под зелеными отражателями.
На столе была собрана железная дорога – из самых дорогих, миллионерских игрушек: с вокзалом, пакгаузами, перронами, мостами, тоннелями, семафорами, со множеством ветвящихся рельсовых путей и стрелок, и даже с поворотным кругом для локомотивов и красненькой водокачкой. По ней бегали, ловко расходясь друг с другом, черные паровозики, таща и толкая зеленые пассажирские вагоны, коричневые товарные и желтые цистерны.
Над дорогой склонился невысокий массивный человек, обтянутый кителем с маршальскими звездами на погонах. Держа в левой руке пульт, а в правой бильярдный кий, он выводил с дальнего края бронепоезд, состоящий из трех серых коробочек с трубой на средней и пушками по концам. Стрелку под табличкой «запасной путь» заело, и он старался придержать ее кием, отдергивая его под самым бронепоездом, который не успевал заползти на рельсы, ведущие в общий лабиринт. Вдоль паровоза чернела мелкая, но очень четкая надпись: «Анатолий Железняк».
Колесико первого вагона соскочило со стрелки, и бронепоезд, жужжа, уткнулся в полосатый шлагбаум тупика.
Человек в маршальских звездах выматерился, перехватил кий за тонкий конец и с размаху сломал его о спину стоящего рядом порт новского манекена в генеральском мундире.
Его лицо показалось Ольховскому давно и отлично знакомым, но он не успел додумать и понять, кто же это: заметив его, маршал вцепился тяжелым давящим взглядом и спросил грубым низким голосом, отшибающим саму возможность думать:
– Кто – ты – такой?!
Вопрос был задан с такой непререкаемой и угрожающей властностью за пределом хамства, что из Ольховского автоматически вылетело:
– Командир крейсера «Аврора» капитан первого ранга Ольховский!
Помимо всякого сознательного усилия ноги его сдвинулись, плечи расправились, подбородок задрался. За спиной стукнули каблуки матросов.
Маршал посопел, раздувая ноздри.
– Я – тебя – не – спрашиваю – кто – ты – такой!! Я – тебя – спрашиваю – откуда – ты – взялся!!
– Из Петербурга!
– Где – ты – был – до сих пор?!
Воздуха в легких для ответа не было, и его пришлось поспешно набирать.
– В походе. Переход. В сложных навигационных условиях. Узкости… товарищ маршал. – Ощущая неудовлетворительность своего доклада и не зная, что еще добавить или сделать, Ольховский взял под козырек.
– Я – тебя – не спрашиваю, где – ты – шлялся! Я – спрашиваю, кто – приказал – оставить – Петербург?!
Вот и вделся, бессмысленно залихорадило Ольховского. Вот и вделся. Вот и вделся. Вот и вделся. Как просто. А на что я надеялся. А на что я надеялся.
– Н-ну?!
Единственно правильным ответом, хотя и не соответствующим действительности, было: «Командующий Балтийским флотом». И Ольховский сказал это, не в силах противиться приказу, чтобы сказать хоть что-то, но вместо этого услышал свой голос:
– Согласно общего плана, товарищ маршал!
Глыба молчания обвалилась на него и сокрушила остаток мозгов вместе с включившимся было автопилотом.
– План – здесь – один. Мой.
– Так точно, товарищ маршал!
– Расстрелять.
И, утеряв к нему всякий интерес, маршал отвернулся, взял новый кий из прислоненного к стойке ряда и потянулся над железной дорогой, где как ни в чем не бывало открывались и закрывались светофоры и постукивали на миниатюрных стрелках колесики.
Однозначно уведомленный о своей участи, Ольховский перевел дух с отстраненным равнодушием и даже облегчением, рожденным из принципа «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас».
Поковырявшись с застрявшим бронепоездом и сломав кий о спину генерал-манекена, маршал обернулся и, как бы увидев его впервые, повесил в воздухе раздельный рык:
– Ты – чего – стоишь?!
Его лопатообразный подбородок полез вперед, тень легла в ямку, граненую, как от острия большого гвоздя. Редкие, коротко подстриженные седоватые волосы были приглажены по каменному черепу.
– Жду конвоя, товарищ маршал.
– Обойдешься без конвоя. Приказ – получил?!
– Никак нет, товарищ маршал.
– П-о-ч-е-м-у?!
– Виноват! товарищ маршал!..
Маршал только сейчас, похоже, обратил внимание на двух матросов у двери и задержал взгляд, словно взвешивая, не приказать ли им пристрелить виновного офицера прямо здесь на ковре.
– Приказ получишь внизу. Цели указаны там. Наметишь ориентиры. Сосчитаешь прицелы. Срок тебе сообщат. Снаряды получил?
– Так точно, товарищ маршал!
– Сколько?
– Семьдесят два в наличии, товарищ маршал!
– Мудак.
– Есть!
– Получишь еще.
– Есть!
Маршал перестал его видеть и склонился над столом. Ольховский отчеканил оборот налево кругом и рубанул строевым. Матросы без команды в ногу взяли «на месте шагом марш» и вышли в затылок. Так и спустились.
Автоматчик пропустил их через холодную ухмылку.
Сдавая часовому пропуска, Ольховский вопросительно произнес:
– Приказ.
Солдат нажал кнопку на стойке. В стене вестибюля сбоку стойки открылось маленькое квадратное окошко с прилавком, как у старомодной кассы. Моряки подошли. Руки в зеленых обшлагах с узкими красными кантами выложили на прилавок открытую конторскую книгу. Карандаш поставил галочку на странице. Ольховский расписался поданной в окошко перьевой ручкой.
– Точное время проставьте, – тихо приказал невидимый обладатель рук.
Книга исчезла, и на ее место лег красный пакет с черным грифом в правом верхнем углу: «Секретно». На обороте он был опечатан красной сургучной печатью с пятиконечной звездой и перекрещенными винтовкой и шашкой.
Перед тем, как выйти наружу, Ольховский, поколебавшись, подошел к часовому, или дневальному, кто он там был, и спросил вполголоса – как бы сам отлично зная ответ и не сомневаясь в нем, но уж для полного и бесспорного подтверждения:
– Солдат, кто, значит, сейчас в двести первом хозяин?
Солдат пожал плечом и, глядя мимо, ответил так же негромко и с сочувствием, как сочувствуют слабоумным:
– Хозяин.
И, снисходя к позе Ольховского, продолжающей выражать вопросительность, еще приглушеннее уточнил:
– Жуков. Кто же.
Быстро дошли до угла Тверской, где уже начиналось утреннее движение, и только там, остановившись, дружно и жадно закурили.
– Вашу Машу, – сказал Ольховский.
Шурка снял бескозырку и стал обмахивать лицо.
У Бохана вдруг ручьем полило из носу, и он со шморгом вытер его рукавом.
– Слушай, где тут винный круглосуточный? – спросили у раннего торопливого прохожего.
– Винный? Это две остановки в ту сторону. А вон за тем углом, там бар есть круглосуточный.
– Так. За мной. Пошли врежем.
11 .В «Добром утре» Ольховский не появился, до телевидения дозвониться не удалось, и на крейсере имело место некоторое беспокойство. Утреннюю приборку провели с тщанием, завтракали без аппетита; построились к подъему флага.
Командовал старпом. Горн пропел с печальной угрозой и выжиданием.
Город выглядел до разочарования и скуки обыденно. Разве что глаз москвича отметил бы некоторую разреженность городского движения. Возможно благодаря этой разреженности, привлекали внимание дорогие репликары – как в идеальном состоянии, так и «помойки на колесах». Если отделанный лаковым деревом «руссо-балт», выстелившийся через мост, как борзая, был явной причудой магната, то громоздкий «паккард» – судя по тяжелой плавности хода и осадке рессор, бронированный, – мог принадлежать только главе серьезной группировки; обладатель же хлопающей полуоторванными крыльями «эмки» наверняка был недавним членом автоклуба.
Ситуация выходила глупая. Получалось, что удар ушел, как вода в песок. Неясность ближайших перспектив нарушала душевное равновесие. Отсутствие реакции несколько поражало. А где нет сопротивления – там куда гнуть и чего ждать?
Смотрели телевизор – чего еще пока делать.
И немедленно же, в репортаже с утреннего заседания Госдумы, обнаружилось, что реакция есть. Включили не с начала, и зачин напористых фраз Жириновского, к сожалению, пропал.
– … и правильно, что открыли огонь по этому осиному гнезду! – кричал любимый актер электората своим шершавым баритоном, агрессивным, как гвоздодер. – Давно пора было! Раньше надо было «Аврору» вызвать, чтоб навести наконец в Москве порядок!
Торчащие из своих деревянных озвученных гнезд в амфитеатре депутаты издавали неразличимый ропот в тональности бунта. Бревноподобные складки на затылке лысого бровастого коммуниста наливались кумачом знамени.
Спикер безуспешно пытался придать своему голосу стук молотка:
– Владимир Вольфович! Я требую вашего воздержания от подобных заявлений!
– Воздержания вы требуйте от своей жены, когда летаете полгода по всему миру за казенный счет! Да, я говорю: правильно! разнести этот город в хлам! Чего здесь хорошего? Дети погибнут? – нация оздоровится! Дебилы нам не нужны! А столицу перенести в Петербург!
– Отключите микрофон! Вы слышите? – отключите микрофон!
– Всей команде – Героев России! И собирайте чемоданы – когда здесь начнут рваться снаряды – ваше воровство кончится!
– Я объявляю перерыв заседания! Уберите журналистов из зала! Я сказал – уберите телевидение!
После чего на экране возникла дикторша и с явным сожалением сообщила:
– На этом репортаж был прерван. Продолжение этих событий вы увидите в нашем следующем выпуске.
Кают-компания загалдела, засмеялась облегченно, зааплодировала. Сладко потягивались: процесс пошел.
Через полчаса врубились новости НТВ:
– Находящийся на плановом профилактическом обследовании в центральной клинической больнице президент Борис Ельцин подписал сегодня утром новый указ.
Возник очередной пресс-секретарь президента, состоящий из лысины, щетины и ушей. Он принадлежал к числу тех людей, которые производят впечатление абсолютной лживости еще до того, как откроют рот.
– Борис Николаевич Ельцин два часа назад подписал указ, в котором говорится, что распространяющиеся в последнее время слухи о политическом кризисе в стране есть злонамеренная клевета. Здоровье президента позволяет ему полностью выполнять все его функции. Основное содержание указа касается перемещения в Москву из Санкт-Петербурга, как в столицу, крейсера «Аврора». Этот шаг имеет чисто политическое значение, как дальнейший этап в развитии преемственности лучших традиций российской истории и – и яркая демонстрация крепнущего единства возрождающейся армии, флота и всего российского народа. Этим указом вносится полная ясность в вопрос, что все происшедшее выполнено в полном и четком соответствии с волей и решением президента Российской Федерации.
На канале РТР сам президент, в пуловере и рубашке с мягким воротом, громоздко поместился в узком ампирном креслице между мозаичным столиком и карликовым японским лимонным деревцем; менее всего этот интерьер вязался с представлением о больнице и, если говорить о лечении, напоминал суперэлитный дом хроников.
– Сограждане! – произносил президент. – Вчера я подписал указ. Он касается перемещения в Москву – как в столицу России – из Санкт-Петербурга крейсера «Аврора». – Президент говорил по обыкновению с затяжными паузами между отдельными словами – как если бы он из плывущих на аэропортовском конвейере чемоданов вытаскивал по мере приближения отдельные свои, увиденные среди длинного ряда незнакомых и ненужных. – Этот шаг. Имеет. Чисто политическое, – он поднял палец, – значение. Как дальнейший, – сощурился, – Шаг. В развитии. Преемственности. Лу-учших традиций! Нашего прошлого. И дальнейшая… демонстрация! крепнущего единства! Армии и. Флота. С наро-одом! Так что все сделано… в по-олном согласии! С волей президента. Президе-ент – контроли-ирует – ситуа-ацию. – Он снова поднял палец и подержал его так с видом ребе, истолковавшего бедняку мудрость Господней программы относительно его горестных дел.
Озвучив таким образом текст своего пресс-секретаря с соседнего канала, он исчез.
– Так, – сказал Мознаим. – То, что мы здесь стоим в соответствии с волей президента – это хорошо. Но… как будет с жильем?
«Хорошо» означало, что у него оставалось еще пятнадцать тонн топливного мазута, который по случаю новой вечной стоянки можно благополучно загнать. «С жильем?» следовало понимать так, что борьба за квадратные метры вступила в новую фазу: хороший московский метр равняется небольшой петербургской комнате. Каковой комнаты ему как раз хватало для перманентной личной катастрофы.








