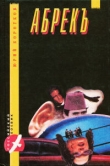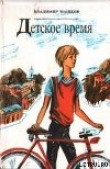Текст книги "«В моей смерти прошу винить Клаву К.»"
Автор книги: Михаил Львовский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Мама говорит, что у меня внутренний, но, по-моему, так не бывает.
– Иногда встречается, – ответил Лаврик. – Отсутствие координации между слухом и голосом. Таня, дай ей «ля» первой октавы. А ты, Клава, Отвернись от рояля.
Я нажала на клавишу и пальцами ограничила первую октаву. Это элементарно.
Клава мгновенно нашла «ля».
– Правильно! – обрадовался Лавр. – А теперь попробуем интервалы. Возьми-ка, Танечка, терцию.
Я взяла терцию.
Клава нашла её без всякого труда.
– Слушай, Таня, а может, она и септ-аккорд найдёт? Дай-ка я.
Лавр сел за рояль и взял септ-аккорд. Клава стояла спиной к роялю с закрытыми глазами. Она очень волновалась. А Серёжка так и остался у окна. О чём он тогда думал?
Клава нашла этот септ со второй попытки.
– У тебя абсолютный слух! – торжественно объявил Лавр. Он встал, и я снова стала перебирать клавиши.
Клава сразу погасла.
– Ну и что я с ним буду делать? Шубу сошью? Мне всё равно одна дорога: в манекенщицы или в стюардессы. В Большой театр не примут.
– Но человек без слуха, это… ну как тебе сказать… – Лаврик так разволновался, что даже слов не находил. – Ну, как если бы у тебя, например, не было чувства юмора.
– А я и в клоуны не собираюсь! – ответила Клава.
С Лавриком что-то случилось. Он горячился не в меру, и это было на него непохоже.
– Ты глупая девчонка. Во-первых, стюардесса с музыкальным слухом лучше, чем без. А во-вторых, среди людей, работающих в сфере обслуживания – официантов, лифтёров, швейцаров и т. д., – учёные однажды с помощью тестов обнаружили десяток-другой человек, обладавших исключительными математическими способностями. С ними стали заниматься по ускоренной программе, и теперь эти люди доктора наук, бакалавры и прочее.
– Со мной этого не произойдёт! – ответила Клава. – Говорят, что где-то производились опыты обучения во сне. Только на это я могла бы согласиться. Чтобы вечером заснуть, а утром проснуться с высшим образованием. Так что спокойной ночи, малыши.
И она пошла к двери.
– Подожди, Клава! – остановил её Сергей.
«Начинается!» – подумала я и заиграла «Спят усталые игрушки».
– Ты помнишь, как в седьмом классе…
– Опять! – заорала Клава.
– Я хотел сказать…
– Я ещё с детского сада знаю всё, что ты можешь мне сказать. Всё! Всё! Всё!
– Не знаешь, – сказал Сергей.
– Знаю! – крикнула Клава.
– Если ты сейчас уйдёшь… вот так… ты меня больше никогда не увидишь.
– Нам пора, – сказал мне Лавр. – Теперь, кажется, мы здесь абсолютно лишние.
– Нет, – оборвал его Серёжа, – потому что и вы меня тоже не увидите. Никто, никогда меня больше не увидит.
Мне стало страшно. А Клава усмехнулась.
– Серёженька, мальчик, – сказала она, – если бы ты был способен на такой поступок, я пошла бы за тобой на край света. Но завтра утром ты придёшь в школу точно по звонку.
– «Завтра» для меня не будет, – сказал Сергей.
– Замолчите вы, идиоты! – не выдержал Лавр.
– Посмотрим, – сказала Клава. – Танька, вы с Лавриком свидетели. А я предупрежу остальных друзей и близких. До встречи в эфире!
И Клава ушла.
Положение у меня было аховое. Кончать все счёты с жизнью мне тогда ещё не хотелось, а я сгоряча дал слово при свидетелях, и теперь другого выхода не существовало.
Свидетели – Лаврик и Таня – бежали за мной по улице и уговаривали не лишать себя жизни, потому что она самое дорогое, что есть у человека.
Это я и без них знал.
Я им говорю:
– Ребята, отстаньте. Так мне и надо, потому что я ничтожество.
– Ты незаурядная личность, – ответил Лавр. – Сумей отнестись к Клаве как к несчастному случаю в твоей, в общем-то, счастливой судьбе.
– Не могу, – сказал я.
– И напрасно, – продолжал Лавр. – Человек должен быть выше случая. Этот Великий Слепой, как известно, иногда возносит бездарей, а гений, по его милости, может умереть под забором.
– Серёжа, скажи откровенно, о чём ты сейчас думаешь? – робко попросила сердобольная Таня. – Не уходи в себя.
У меня было странное состояние. Кроме всего прочего, я ещё повторял в уме обрывки каких-то фраз, невесть откуда бравшихся.
– «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», – брякнул я. – Мне уже стало легче, Таня! Так что отстаньте, ребятки…
А сам побежал, зная куда.
Таня и Лаврик тоже побежали. В городском саду мы промчались мимо аллейки, которую недавно наша «великолепная четвёрка» превратила в танцплощадку. Здесь висела табличка с надписью: «Танцевать в аллеях запрещается. За нарушение – штраф три рубля». Я не остановился. Меня интересовало другое. Осталась позади настоящая танцплощадка, пустовавшая в это время дня, теннисные корты, аттракционы. Парк начал редеть. Потом передо мной открылся пустырь. Лаврик понял, в чём дело, и оказался у обрыва, под которым текла мутная Кубань, раньше меня.
Мы молча стояли друг против друга. Подбежала запыхавшаяся Таня.
– Вот что, Серёжа, – серьёзно сказал Лаврик, – с бедой надо переспать ночь. Ты придёшь сюда завтра, и никто тебе не будет мешать.
Заметив, что один из выступов обрыва очерчивает тонкая трещина в мокрой глине, я перешагнул через неё и оказался на выступе. Ничего особенного не произошло. Лаврик, очевидно, трещины не заметил.
Ногой я сбросил с обрыва комок глины и не скоро услышал всплеск воды.
– А что изменится завтра? – спросил я у Лаврика.
Преодолевая отвращение к тому, что делаю, я обшаривала ящики стола своего старшего сына. Перелистала тетради, учебники, книги. Открыла шкаф и полезла в карманы его выходного костюма.
Когда вошёл Павлик и понял, чем я занимаюсь, мне стыдно было поднять на него глаза.
– Зачем это, Рита?
– Я боюсь за Серёжку.
– И что ты выяснила?
– В тетрадках по-прежнему только пятёрки.
– Привычка, – сказал Павлик.
– Но я чувствую – с ним что-то происходит. Ты о чём-нибудь догадываешься?
– Клава Климкова.
– Я всегда знала, что мы ещё наплачемся из-за этой девчонки!
– А что ещё ты знала?
– Многое, Павлик. Что одно время ты меня совсем разлюбил, а потом вдруг ни с того ни с сего стал такой внимательный, такой ласковый, как никогда в жизни. Я всё время боюсь, что это неспроста и скоро кончится. Хожу как царица, мне все завидуют, а в душе страх – может, самозванка?
– Ходи царицей, Рита! Коронованной! А ну покажи, как это у тебя получается.
– При тебе не могу. Это я на работе так. Со знакомыми, когда тебя нет.
– Но ты иногда мне уже царственно говоришь «отстань».
– Это я… пробую…
– Валяй дальше, Рита. Пробуй. Вот я твой знакомый… «Здравствуйте, Маргарита Петровна, вы сегодня очень хорошо выглядите».
В конце концов Павлик должен знать, какое впечатление я произвожу на других. Ладно, думаю, посмотри. И прошлась своей институтской походкой, которую совсем позабыла, с тех пор как Серёжка родился. А недавно почему-то вспомнила.
Павлик остолбенел.
– Рита, – кричит, – ты так на втором курсе ходила!
А я через плечо:
– Не выношу дежурных комплиментов.
– Вы во что играете? – вдруг раздался голос Шурика.
Он, оказывается, уже давно в дверях стоял. Ну, да ему не привыкать! Он за свою жизнь в нашем доме видел разные игры.
Шурик заметил кавардак в комнате и, не дожидаясь ответа, опять спросил:
– Серёжке шмон устроили? Да разве так ищут! – Взял со стола какой-то толщенный фломастер и вытащил из него туго скрученный листок бумаги. Развернул и показывает. А листок весь испещрён разноцветными надписями – синими, красными, зелёными и чёрными. Одна на другую не похожа. Та мельче, та крупнее. Там буквы с одним наклоном, тут с другим. А фраза повторяется одна и та же: «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
– Тренировался, значит, – говорит Павлик. – Очень на него похоже.
– Какой ужас! – не выдержала я. – А ты спокоен. Сегодня же поговори с ним но-мужски. Если ещё не поздно.
– Ни в коем случае. Разве что он сам начнёт. Надо вырвать его из привычной обстановки. Сразу после экзаменов берём отпуск, Шурика в охапку – и все вместе к морю. Оно прекрасно зализывает раны.
– Но эти страшные слова, Павлик?
Я чуть не плакала, а он не очень волновался. Сказал, будто отрезал:
– По-настоящему страшные пишут один раз или совсем не пишут.
…– Таня, – сказал Лаврик, – я ухожу. С тобой Серёжка глупостей не наделает. Твоя задача – вселить в него уверенность в себе, и у тебя это получится лучше.
Мы втроём сидели в кафе «Лира» в городском саду.
– А есть у вас что-нибудь покрепче? – спросил Сергей проходившую мимо официантку. На нашем столике стояли бокалы с молочным коктейлем.
– У нас кафе, а не забегаловка, – ответила официантка, – только коньяк.
– Дайте… сто грамм!
Официантка внимательно посмотрела на нас. Лаврик и Сергей – рослые ребята. Оба в куртках, в которых чистили крышу. На школьников не похожи, скорее молодое пополнение рабочего класса, обмывающее первую получку. Я тоже на вид не девочка. Тем более в джинсах. Официантка кивнула и ушла.
– А ты пил когда-нибудь коньяк? – спросил Сергея Лаврик.
– Лизнул один раз, – признался Сергей.
– Ладно, возьми боржом и какой-нибудь бутерброд, чтобы в нём было масло. – И он положил на столик пятёрку.
– Обойдёмся, доктор, – сказал Серёжа.
– У меня тоже есть, – я заглянула в сумку.
– Не спивайтесь, – посоветовал Лаврик, не обратив внимания на наши слова. И ушёл не прощаясь.
– Ну, давай вселяй уверенность, – попросил меня Сергей.
– А как?
– Скажи что-нибудь о моих выдающихся личных качествах.
– Серёжа, мне сегодня всю ночь не спать, – пожаловалась я.
– Это почему же?
– У меня мама в больнице. Сиделок не хватает, вот я и дежурю через день.
Серёжка как будто очнулся после жутковато-сладкого фантастического сна, когда спишь и знаешь, что это сон.
– А папа?
– У меня папы нет.
– А ещё кто-нибудь?
– Сестрёнка. Ей три года, она у бабушки.
– Значит, ты сейчас одна живёшь?
– Одна.
– Давно?
– С полгода.
Тут принесли коньяк. Про масло и боржом Серёжка не вспомнил. А зря.
– Мне не наливай, – попросила я. Он налил себе все сто граммов.
– Клопами пахнет! – сказал Серёжа с опаской.
– А ты только лизни.
– Нет, я выпью… потом. Слушай, а почему я ничего об этом не знал? Ты всегда такая весёлая…
– Ты не спрашивал. Потом, в школе я об этом специально забываю. Ведь никому в сущности нет дела.
– Я выпью?
– Половину.
– А Клава знала?
– Она тоже не спрашивала.
– А кто знал?
– Лаврик. Он через отца устроил мне дежурство. Такие глаза я у Серёжки видела впервые в жизни.
Поэтому и сказала то, о чём никогда не забываю:
– Моя мама умрёт, Серёжа… Серёжа помолчал, а потом спросил:
– Я выпью?
– Половину.
– Слушай, Танька, как же это мы умудряемся так жить?
– А как? Нормально.
Серёжка взял да и опрокинул всю рюмку. Он задохнулся с непривычки. Но ничего, оклемался. Я ему дала хлебнуть из своего бокала молочного коктейля.
– Пойдём отсюда, – сказал он.
– Хорошо. Я тебя провожу. Только по-быстрому. Мне нельзя опаздывать.
– Нет, я́ тебя провожу, – сказал Сергей.
– А сможешь?
– Не говори глупостей.
По улице Сергей шёл как будто ни в одном глазу. Только говорил громко, а я больше помалкивала.
– Клавка небось сейчас хихикает…
– А может быть, плачет?
– Нет. И ты меня не утешай. Ты… знаешь, кто ты? Ты лучше нас всех. Такие раз в сто лет рождаются. Ведь ты же красавица, если приглядеться. У меня выхода нет, понимаешь? А то бы я… Зачем я этот коньяк пил? Слушай, Таня, мы все тебе в подмётки не годимся. Хочешь вселить в меня уверенность? Имеешь возможность!.. Это что, уже больница? Смотри, пять машин «Скорой помощи» наготове. Как будто все жители города каждую минуту загнуться могут. А почему ты думаешь, что твоя мама умрёт?
– Я знаю.
– Танька!
– Спокойно, Серёжа. Уже полгода я это знаю.
– Вот что, Таня. Хочешь, чтобы я сейчас пошёл домой и лёг спать?
– Хочу.
– Тогда поцелуй меня.
– Зачем?
– Мне надо.
– Пожалуйста, – сказала я и чмокнула Серёжку в щёку.
– Это не то, – сказал Сергей.
– Конечно, не то, – согласилась я.
– Но тебе не было противно? – спросил Серёжа.
– Нет, – ответила я, – нормально. А теперь сделай то, что обещал.
– Я сделаю. Но это только до утра. А завтра…
– Посмотрим, что будет завтра.
Я уже знала: до завтра с ним ничего не случится.
Когда я пришёл домой, отец не спал – видно, дожидался меня. Он сразу понял, что я делал в кафе «Лира».
– Герой, – сказал папа. – С радости или с горя?
– Какая разница?
– С горя чаще спиваются.
– Шутишь?
– Нет.
– Если бы ты знал…
– Я догадываюсь.
– Что мне делать? – спросил, я.
Отец подумал немного, а потом, как само собой разумеющееся, только что плечами не пожал:
– Страдать.
Это меня возмутило. Я понимаю – у Тани мама умирает, а тут все живы, здоровы. С какой стати?
– А я не умею!
Мне хотелось сказать это вызывающе, а получилось жалко.
– Чему же вас в школе учат? – ни к селу ни к городу спрашивает отец, как будто это имеет какое-то отношение.
– Ты что, издеваешься? – спрашиваю я.
А он:
– Анну Каренину проходили? Гамлета? Пушкина, а? Лермонтова? Чему они тебя научили?
Тут я понял, что он не издевается, а, наоборот, разозлился очень.
– Страдать он, видите ли, не умеет!
И вдруг отец продекламировал, у него это хорошо получается:
Не бывает любви несчастной.
Может быть она
Горькой,
Трудной,
Безответной
И безрассудной,
Может быть —
Смертельно опасной,
Но несчастной
Любовь
Не бывает,
Даже если она
Убивает.
Тот, кто этого не усвоит,
И несчастной любви не стоит!..
– Чьи это стихи?
– Одного хорошего поэта. Понял? Или ты будешь канючить, как в пошлых романсах: «Саша, ты помнишь наши встречи?», «Помнишь весенней порой»!..
– Папа! – закричал я. Ведь он этим «помнишь» попал в самую точку.
– Иди спать, – сказал отец.
Я хлопнул дверью.
Шурик тоже не спал. В комнате был такой идеальный порядок, что в другое время это бы меня насторожило. Но сейчас я ни о чём не догадался. Грохнулся не раздеваясь на кровать.
– У тебя шмон был, – доложил Шурик. – Я их сам на фломастер навёл.
– А тебе про него откуда известно?
– За кого ты меня принимаешь? – обиделся Шурик. – Я навёл, чтобы ты дурака не валял… Клавка знает?
– В том-то и дело. Мне теперь в школе показаться нельзя. Она завтра организует такую встречу… «Вот, смотрите, явилось привидение!»
– Папа не зря говорит: сначала сделай, а потом хвастай, – сказал Шурик.
Я и Таня ждали Серёжку у его парадного.
– Лаврик, – сказала Таня, – а может быть, Клава передумала? Может, она ничего никому не скажет и всё обойдётся?
– Может быть. Она, в сущности, не злая девчонка. Мечется, не знает, что с собой делать.
Мне очень хотелось, чтобы всё было именно так.
Серёжка вышел, увидел нас и как-то нелепо поднял портфель. То ли, чтобы нас не видеть, то ли, чтобы мы в его лицо посмотреть не могли.
– Уходите, – буркнул он в портфель.
– Спроси, как чувствовала себя ночью моя мама, – сказала Таня.
Серёжа опустил портфель.
– Как?
– Плохо. Я два раза вспрыскивала морфий.
– Пошли, – сказал я.
И Серёжа пошёл с нами.
У ворот школы стояла Клава со своими подружками. Увидев, что Серёжа не один, эта компания сначала растерялась. А потом они нестройно затянули траурный марш Шопена. Но мы шли как ни в чём не бывало. У Серёжки дрожали губы, но он сжимал челюсти так, что видно было, как желваки ходят. Мы с Таней делали вид, будто о чём-то непринуждённо разговариваем. Хор постепенно совсем разбрёлся: кто в лес, кто по дрова.
Когда мы поравнялись с Клавиной компанией, я думал, что Серёжка скиснет, но он поднял голову, и, как ни странно, я увидел улыбку на его дрожащих губах.
Мы вошли в школьные ворота, а Клавина компания молча смотрела нам вслед.
Глава IV
Море действительно зализывает раны. Я была счастлива в то лето. Мы с Павликом не уставали смотреть, как наши сыновья то просто барахтались в воде, то ныряли а у меня замирало сердце – когда вынырнут?
А то начинали неравные соревнования, в которых, конечно, неизменно побеждал Сергей, если специально не поддавался (Шурика поддавки приводили в бешенство).
Два загорелых ловких тела, два Маугли. Серёжины длинные волосы, когда он плыл под водой, были похожи на водоросли. Взмах руками – тело стремительно рвётся вперёд, волосы прилипли к голове, а потом замедление, и некоторое время они свободно шевелятся до нового взмаха. А костры под огромными звёздами возле двух разноцветных палаток! Наши Маугли пекли картошку в дополнение к трёхразовому питанию из столовой турбазы, куда мы взяли только курсовки, чтобы жить на свободе. А Серёжкины прыжки с двадцатиметровой вышки! Народ сбегался смотреть. Какие девчонки восторженно ахали! Сергей был сдержан и снисходителен.
А моя царская корона от всего этого сверкала так ослепительно, что Павлик начинал подшучивать. Но у меня уже страх пропал навсегда. Павлик теперь мой! Никуда не денется!
– Я убеждён, Риточка, что исполнение желаний, – сказал он мне однажды, когда наши Маугли заснули, – приносит счастье в зависимости от того, какие это были желания. Сейчас я абсолютно счастлив!
Он ворошил палкой светящиеся угольки затухающего костра.
– Желания помельче – счастье возможнее? Это ты хочешь сказать?
– Нет. На кой мне, например, три «мерседеса-бенц», одна вилла в Ницце, другая в Калифорнии!
– До того как мы купим тебе новый костюм, – сказала я, – и не мечтай о вилле в Ницце. Только со следующей получки.
– Я говорю о черновиках истории. Набело она, вероятно, создаст человека, которому покажется смешным любое дешёвое «первачество».
– Ты всегда был идеалистом, – вздохнула я.
– А наш Серёжка именно об это дремучее и споткнулся.
– Да он всё своё другим отдать готов, – возмутилась я, – а учился всегда на пятёрки! Благородная жажда знаний – это уже не черновик.
– К сожалению, Риточка, наш старший сын никогда не учился. Он всю жизнь только собирал жёлуди.
– Какие жёлуди?
– А те, которые мы ему подсунули в детском саду. Помнишь?
Я вспомнила и подумала: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но не знаю почему, мне вдруг очень захотелось сейчас же посмотреть на Серёжку. Откинула полог палатки и вижу – два Маугли спят в обнимку.
Придумывает Павлик бог знает что. Он всегда таким был, таким и останется.
Я вернулся в наш город совсем другим человеком. Переродился. Думаете, перед вами тот Серёжка Лавров, который когда-то до того дошёл, что из-за какой-то девчонки утопиться хотел? Ничего подобного. Перед вами загорелый малый с весёлым, интеллектуальным лицом и ему море по колено! Не хожу – танцую. Знакомая шелковица?
– Привет!
И – мимо! Нечего мне около неё задерживаться! Чистильщик сапог, похожий на роденовского «Мыслителя»? Ха-ха! Гении под забором не умирают! Настоящий талант всегда пробьётся! Ну что вы на меня уставились, парикмахерские красавицы? До чего же у всех у вас физиономии туповатые. Как у одной, не будем называть фамилию, моей знакомой, которую давно бы из школы вышибли, если бы не ваш покорный слуга. Аллейка в городском саду, танцплощадка, кафе «Лира», привет вам от Чёрного моря! Ну-ка, а где тот выступ с трещинкой? Шагнём через неё!
– Ура-а! Эге-ге-е!
Можно даже попрыгать на этом выступе. Осторожненько, а то не дай бог обвалится. Нет, всё в порядке! Хоть танцплощадку открывай – ничего не случится. Но главное, не переборщить. Надо учиться у Лаврика сдержанности. Зачем ходить пританцовывая? Можно подумать, будто я кому-то что-то доказываю. Пойдём домой спокойненько, деловитой походочкой. Туську бы встретить неплохо… То есть Таню. Разведать, как дела, кто уезжал, кто в городе оставался. Зайти к ней, что ли? А почему не зайти? Домишко у неё на окраине. Постучим в окошко. Тук-тук-тук!
– Здравствуйте. Таня дома?
Пожилая женщина с девчушкой на руках отвечает:
– На дежурстве она. Может, передать что?
– На каком дежурстве?
– В больнице.
– А-а-а! Вы, значит, её бабушка. А это Танина сестрёнка?
– Да.
– Похожа. А как Танина мама себя чувствует?
– Что?
– Сестричка на Таньку очень похожа. Как её зовут?
– Света.
– Здравствуй, Света. Ну-ка дай мне ручку… Вот так, молодец! Как твоя мама себя чувствует, Светочка? А? Ну скажи, скажи дяде…
– Померла её мама, – отвечает за Свету пожилая женщина.
Весёлому малому с интеллектуальным лицом стало жутко.
– Когда?
– Третья неделя пошла, как схоронили.
– А почему Таня дежурит в больнице?
– На работу поступила. Санитаркой.
– А школа?
– Какая теперь школа… – отвечает пожилая женщина весёлому и загорелому. (Провалиться бы дяде сквозь землю!) – Так что ей передать?
– Передайте, пожалуйста, что к ней Лавров приходил. Серёжей меня зовут.
– Клавкин хахаль?
Ну как на это отвечать?
– Бывший.
– Передам.
И окно закрыла. Светка мне ручкой машет, ей ещё всё нипочём.
Иду куда глаза глядят. Танька, если бы ты знала, как я тебе сейчас сочувствую… Я для тебя на всё готов, Таня! Но всё равно я весёлый и загорелый. Я должен быть таким, несмотря ни на что. Куда это я попал? Опять одноэтажный дом. Застеклённая терраса, сад… А на террасе пианино, а за пианино Неонила Николаевна.
– До, ми, соль, соль, ля, ля, соль, фа, фа, ми, ми, ре, ре, ми, до…
Сольфеджио – упражнение для развития слуха и читки нот. Настолько, чтобы это понять, у нас образования хватает. А поёт кто? Клава! А кто сидит за столом, покрытым старой клеёнкой, и смотрит на Клаву влюблёнными глазами? Лаврик!
– А теперь, – говорит Неонила Николаевна, – можно и спеть что-нибудь по-настоящему. Ты всегда так делай, а то упражнения могут отбить всякую любовь к музыке:
«В движенье мельник жизнь ведёт, в движенье…» – запела Клава так чисто, что мне сразу захотелось ей подпеть, как когда-то Тане Ищенко. Но Неонила Николаевна жестом предложила это Лаврику, что он и сделал с большой охотой.
Через минуту я поймал себя на том, что шевелю губами, как когда-то Клава в хоре Дворца пионеров. И верчу головой, глядя то на Лаврика, то на Клаву. Вот бы никогда не подумал, что я – не кто-нибудь, а именно я – могу оказаться в таком положении.
– Вот чем я должна была заниматься во Дворце пионеров, – говорит между тем Неонила. – Это же надо такую девочку упустить! А всё почему? Один за другим, один за другим отчётные концерты. А в чём отчитываться, когда ребёнку в глаза посмотреть не успеваешь? Молодец, Клавочка!
И Неонила запела вместе с Лавриком и Клавой, а я пошёл дальше бодрой походкой.
Мы теперь часто играем с отцом в шахматы. Он всегда проигрывает и злится. Сегодня ему почему-то везло. Он забрал мою ладью конём и спросил:
– Может быть, снять эту картинку?
Папа имел в виду пейзаж с заснеженной шелковицей.
– Пусть висит.
– Тогда играй внимательней.
В передней раздался звонок, и папа пошёл открывать дверь, потому что я был в цейтноте.
Он вернулся с Клавиной мамой. У неё в руках плетёная сумка. Ещё в передней отзвучали все обязательные «Здравствуйте, Павел Афанасьевич, как вы загорели», «Прошу, прошу, Вера Сергеевна», и теперь Клавина мама приступила к делу. Она вытащила из сумки отрез на платье.
– Передайте, пожалуйста, мои извинения Маргарите Петровне. Столько держала… Но я теперь не шью… Здравствуй, Серёжа.
– Здрасте.
– Я очень, очень виновата, но…
– Вы только нам не шьёте или вообще? – многозначительно спросил папа Клавину маму.
– Вообще. Можете себе представить, Клава не разрешает. Вытащила откуда-то мои старые скульптуры, расставила повсюду – и с ножом к горлу: «Это твоё дело!» – «Кому они нужны, Клавочка?» – «Мне, – говорит. – Я с ними с детства разговаривала».
– И вы послушались? – спросил папа.
– Взрослая дочь! – вздохнула Вера Сергеевна.
– Да, это вам не закупочная комиссия, – ответил папа, и я ничего не понял.
Дальше пошла полная абракадабра. Папа сказал:
– Ваш девиз «Всё или ничего!» в наши дни явно устарел. Оставим его картёжникам. Вот в искусстве, например, «ничего» неожиданно может стать «всем», а «всё» – оказаться «ничем». Сплошь и рядом.
Вера Сергеевна хотела что-то возразить, но, увидев папины картины, молча стала их разглядывать. Переходила от одной к другой, как на выставке.
– Самодеятельность? – робко спросил папа.
Вера Сергеевна не ответила. Я чувствовал, что папа здорово волнуется, и злился на него.
– Кто-нибудь это видел? – наконец-то раскрыла рот Клавина мама.
– Жена, дети, кое-кто из друзей… теперь вы.
– Только? И вас это удовлетворяет? – спросила Вера Сергеевна недоверчиво.
– Я ещё не знаю, как вы к этому отнеслись.
– Вы серьёзный художник.
– Тогда вполне.
– За что мне такая честь?
– Серёжа, может быть, подышишь воздухом? – предложил мне папа. – А впрочем, сиди.
Я остался.
– Видите ли, Вера Сергеевна… Случается, что после многих лет семейной жизни вдруг человек забывает, за что он когда-то полюбил свою жену. Да ещё если мелькнёт перед ним что-нибудь эдакое… мимолётно-опаляющее.
– Случается, – самоуверенно ответила многоопытная Клавина мама.
– Эти портреты помогли всё вспомнить.
Я очень обиделся за маму. Как он смеет, да ещё при мне!
– Подышу воздухом! – зло сказал я.
– Сиди! – остановил меня отец.
– Подавленные желания, – элегически начала Клавина мама, – одна из причин нервных стрессов.
– Я не уверен, что мои отдалённые предки не были людоедами, – ответил папа. – Хорошо бы мы с вами выглядели, если б из боязни стресса они не подавили кое-какие свои желания. Тогда бы я вами позавтракал.
Папа и Вера Сергеевна засмеялись.
– А как насчёт… мимолётно-опаляющего? – спросила Вера Сергеевна с Клавиными модуляциями в голосе.
– Не могут же все кинозрители мужского пола жениться на Софи Лорен или Бриджит Бардо. Своё мимолётно-опаляющее я причислил к ним.
Клавина мама помолчала, а потом сказала тихо:
– Ваша жена – самая счастливая женщина из всех, кого я знаю. Поверьте, я ей очень завидую.
И у меня пропала всякая злость. Может быть, я не всё понял в этом разговоре, но хорошо, что я его слышал.
Вера Сергеевна некоторое время смотрела на пейзаж с заснеженной шелковицей.
– Куда они идут, Павел Афанасьевич? Что вы хотели сказать вашей метелью?
…Мой черноморский загар продержался до той поры, когда старая шелковица вновь покрылась снегом. Всё складывалось как нельзя лучше, и я чувствовал, что с прошлым покончено раз и навсегда. Папа радовался, мама радовалась, и однажды, стоя под душем, я услышал, как папа сказал маме:
– Он получил хороший урок! Теперь сам выберется.
Я тёр мочалкой руку, загар оставался. Прекрасно!
Вот только бы суметь с Лавриком поговорить. Для окончательной проверки.
Когда Лаврик открыл мне дверь, я сразу спросил:
– Ты один?
– Один, один, не бойся. Извини, я по телефону договорю, а ты раздевайся.
Пока я разоблачался в докторской передней, до меня доносился голос Лаврика:
– Такой лейкоцитоз ничего не значит. Вам и папа сказал бы тоже самое. Роз нормальное, формула не сдвинута, живите и радуйтесь. А папе я всё передам. Будьте здоровы.
Книг в этой квартире было столько, что приткнуться некуда. Мы сидели как в библиотеке.
– Мне повезло в жизни – я сын врача, – говорил Лаврик. – У тебя сейчас переоценка ценностей, а меня с детства побрякушки не привлекали.
Раздался звонок в передней.
– Если это Клава… – вскочил я с дивана.
– Да сиди ты спокойно. Она сегодня не придёт.
– Сегодня? – переспросил я, потому что ничего не смог с собою поделать.
– Ну тебя к лешему, – сказал Лаврик и вышел в переднюю.
Раздался телефонный звонок.
– Видишь, телеграмма отцу, – Лаврик вошёл в комнату и взял трубку. – Квартира доктора Корнильева. Нет, это его сын. Если он велел по одной – значит, по одной… Хорошо, хорошо. Живите и радуйтесь – Он бросил трубку и заорал – Ну что ты смотришь на меня прошлогодними глазами! В чём я виноват?
– Ни в чём. Просто мне Клавы и в школе хватает. Её сногсшибательных успехов в среднем образовании. Ты насчёт переоценки говорил.
– Да. Ты можешь себе представить, что «Джоконда» или Венера Милосская могли быть созданы из одного только стремления утереть Кому-нибудь нос? Клава мне много о тебе рассказывала…
– Спасибо, – поблагодарил я учтиво Лаврика.
– И я подумал… – хотел продолжить он, но в передней опять раздался звонок.
– Третья телеграмма. Заметь – так каждый день, – сказал Лаврик и побежал открывать дверь.
Но это была не телеграмма. Это пришла Клава. Я услышал её голос и вскочил с дивана. Потом несколько секунд в передней стояла тишина, и наконец комната озарилась Клавиным присутствием. Лаврик вошёл за ней.
– Здравствуй, Серёжа, – сказала Клава.
– Здравствуй! – ответил я бодро.
В школе мы с ней не здоровались.
– Вы сидите в душной комнате, когда на дворе такая погода! Пошли гулять.
На этот раз прогулка выглядела так: я с Клавой шёл рядом, и дистанции между нами не было никакой; Лаврик отстал от нас метров на пятнадцать.
– Я хотела попросить у тебя прощения, Серёжа… – сказала Клава.
– За что?
– За всё. Я была очень дрянной девчонкой.
– Не надо, Клава. Я тоже был не сахар.
– Мне очень важно, чтобы ты простил меня. И не вспоминал обо мне плохо… – Она помолчала, а потом произнесла неуверенно – Понимаешь…
И снова умолкла.
– Что?
– Это трудно объяснить… У нас всё не так получилось. Мы оба не виноваты.
– В чём?
– Я хочу, чтобы ты понял… Ведь могло быть иначе… Ну, в общем… Ты всё время дарил мне… себя… а Лаврик… он…
– Что Лаврик?
– Подарил мне… меня. Понимаешь?
– Понимаю.
– Вот и хорошо, – обрадовалась Клава. – Ты простил меня, правда?
– Мне нечего тебя прощать. Ты же ни в чём не виновата.
– А Лаврик говорит, что очень.
– Много он понимает. А теперь иди к нему.
– Ты не хочешь с нами погулять немного?
– В другой раз, Клава.
– Но ты меня простил?
– За что? Так ведь можно до бесконечности!
Клава сказала тихо-тихо, не для того, кто шёл сзади, а для меня:
– За ангину, Серёжка. Я её никогда не забуду. Имей в виду.
– Иди к Лаврику.
– До свиданья, – сказала Клава, повернулась и пошла к своему Лаврику.
Лаврик остановился и ждал её. Клава притронулась пальцами к рукаву его куртки, но он сделал неуловимое движение, означавшее «не надо», и эта девчонка, чью железобетонную уверенность в себе я узнал ещё в детском саду, послушно пошла с Лавриком по переулку, соблюдая установленную им дистанцию в один метр. Они скрылись за поворотом и, вероятно, там Лаврик разрешил Клаве взять его под руку. Спорю на что угодно – всё было именно так.
Вот я и выдержал проверку. Да ещё какую.
– «Не бывает любви несчастной…» – сказал я заколоченным на зиму воротам горсада… – «Не бывает любви несчастной…» – я знал эту лазейку в заборе, но не мог вспомнить следующую строчку стихотворения.
– «Не бывает любви несчастной…» Вот склероз! – сказал я вслух.
Трещина вокруг знакомого выступа была такой же, как всегда. Я осторожно, одной ногой попробовал – как он, держится? Держится! Встал на него обеими ногами. Всё в порядке. А если подпрыгнуть? Осторожненько…
Не надо было этого делать.
Я просидела возле Серёжкиной кровати трое суток. Когда он впервые открыл глаза после операции, доктор Корнильев сказал мне очень банальную фразу:
– Таня, вы победили.
Весь обмотанный бинтами, Серёжка силился что-то сказать, но доктор жестом запретил ему говорить. А Серёжка всё равно шевелил губами.