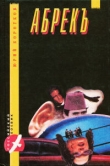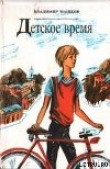Текст книги "«В моей смерти прошу винить Клаву К.»"
Автор книги: Михаил Львовский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Михаил Григорьевич Львовский
(1919–1994)
«В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Не бывает любви несчастной.
Может быть она
Горькой,
Трудной,
Безответной
И безрассудной,
Может быть —
Смертельно опасной,
Но несчастной
Любовь
Не бывает,
Даже если она
Убивает.
Тот, кто этого не усвоит,
И несчастной любви не стоит!..
Борис Заходер
Глава I
Я влюбился в Клаву Климкову, когда мне было четыре года. Это случилось в понедельник. В первый раз детей сдают на пятидневку в детский сад именно в этот тяжёлый день. Мы шли по улице. Папа размахивал синим мешком с моими вещами, на котором крупными буквами было написано «Серёжа Лавров», а мама всё время раскрывала огромную сумку, висевшую у неё на плече и вытаскивала оттуда замусоленную бумажку.
– Майки две?
– Две!
На папе были узкие, «в облипочку» джинсы, самый «писк» по тем временам.
– Трусы? – с замирающим сердцем спросила мама.
Мой отец закудахтал.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Ты становишься похожей на глупую наседку и делаешь из нас банальных «женатиков».
Они были очень молоды тогда, мои родители.
– Там заведующая – тигрица. Чего-нибудь не хватит, опять не примут, как в прошлый раз.
– В прошлый раз ты забыла справку об отсутствии инфекционных заболеваний, растяпа.
– Купи мне мороженое, – жалобно попросила мама. – Может быть, оно меня успокоит.
Папа подошёл к ларьку и вернулся с брикетиком, который держал двумя пальцами так, словно это был не сливочный пломбир, а дождевой червяк.
– На, истеричка!
– Как ты думаешь, Серёжка будет реветь? – спросила мама, облизывая мороженое.
– Поревёт и перестанет. Как все нормальные дети.
– На целых пять дней! – Мама дала мне лизнуть мороженое. – Серёженька, ты хочешь в детский сад?
– Хочу! – храбро сказал я.
– Старик, а плакать не будешь? – спросил меня папа.
– Буду, – ответил я и, когда мы оказались в небольшой комнате, увешанной детскими рисунками и всевозможными объявлениями, разъяснявшими родителям их права и обязанности, честно выполнил своё обещание.
Я орал благим матом, валялся по полу и дрыгал ногами. Я терзал детсадовскую панаму, которую пытались на меня напялить. Растерянные нянечки и воспитательницы, поначалу хлопотавшие вокруг меня, приговаривая: «Серёженька умный мальчик, Серёженька плакать не будет», отступились, когда я начал кусаться.
Мама рыдала, прислонившись к папиному плечу.
– Я этого не вынесу, – всхлипывала она, – это выше моих сил…
Действительно, мамино сердце должно было разрываться от жалости, потому что я схватил её за ногу двумя руками и прижался к ней мокрой щекой.
Папа стоял с каменным лицом.
– Твоё порочное воспитание! – сказал он и попытался отодрать меня от маминой ноги.
Тогда я схватил за ногу папу. Сначала я орал «мамочка», а теперь «папочка».
У папы тоже глаза наполнились слезами.
«Тигрица», заведующая детским садом, сидела за письменным столом и спокойно пила чаи вприкуску из детской кружки с цветочками.
– Ничего не выйдет, – сказала она. – Придётся звать Клаву Климкову.
– Клава Климкова! – сразу же послышалось за дверью.
– Климкова Клавочка! – прозвучало где-то за окном, в которое заглядывали ветки каштана с пожелтевшими листьями. – Иди сюда, Клава. Тут опять один мальчик плачет.
Я уже начал хрипеть, когда дверь приоткрылась и в комнату заглянула девочка. Ей тоже было года четыре. Она смотрела на меня с любопытством из-за приоткрытой двери. Я примолк.
– Бегите! – сказала «тигрица» моим родителям.
– Но я не могу так… – начала было мама.
– Через десять минут заглянете через забор и успокоитесь, – ответила заведующая.
Папа уволок маму. Я завизжал.
Клава вошла в комнату. Она была красавица. Её большие чёрные глаза и длинные ресницы с той самой минуты снились мне всю жизнь.
– Чего ревёшь? – спросила меня Клава, и я мгновенно перестал плакать. – Пойдём во двор. Сейчас мы там будем жёлуди собирать.
– Зачем? – спросил я.
– Надо, – ответила Клава и взяла меня за руку. – Его как зовут? – деловито осведомилась она у «тигрицы», нахлобучивая на меня детсадовскую панаму.
– Серёжа, – с отвращением произнесла моё имя заведующая.
– Пошли, Серёжа, – сказала девочка.
И я пошёл за ней. Она вела меня за руку по длинному коридору. Вдоль его стен на полках стояло множество игрушек, сделанных из желудей и спичек. Лошадки, собачки, зайчики. Здесь были даже бусы из желудей, висевшие на гвоздях.
Игрушки мне очень понравились. Но больше всего мне нравилось идти с Клавой. Чтобы Клава поняла это, я стал раскачивать ту руку, за которую она меня держала. Я думал, что это ей доставит удовольствие. Но Клава посмотрела на меня осуждающе и отняла руку. Я хотел было опять заплакать, но сдержался.
Двор детского сада был очень большой. Площадка с разноцветными качалками, грибочками и ямой с песком, а за нею парк, похожий на дремучий лес. Я сразу заметил папу и маму, которые смотрели на нас с Клавой сквозь решётку забора.
– Скорее, а то опоздаем, – сказала Клава и побежала в сторону парка.
Я еле поспевал за нею. А по ту сторону забора бежали мои папа и мама.
– Коля Свиридов собрал уже пять желудей! – объявила воспитательница, оторвавшись от книги, которую она читала, сидя на пеньке. – Осталось десять минут. Кто через десять минут соберёт больше всех желудей, тот и будет победителем.
Я огляделся. По траве между деревьев ползали малыши. Многие из них ещё не умели считать и поэтому часто отрывали воспитательницу от книги.
– Елена Григорьевна, сколько у меня?
– Раз, два, три, четыре, – чётко выговаривала Елена Григорьевна, перебирая жёлуди на грязной ребячьей ладошке. – Видишь? Че-ты-ре! Повтори, сколько у тебя желудей?
Уже тогда я умел считать до десяти, но у меня не было ни одного жёлудя. А Клава, ползающая под развесистым дубом, показала мне три пальца. И вдруг я увидел сразу два жёлудя. Подобрав их, я помчался к Клаве.
– Возьми, – сказал я.
– Зачем? – удивилась Клава.
– Бери, не бойся, – настаивал я. – У тебя будет пять.
Но огромные Клавины глаза неожиданно сузились.
– Иди отсюда, – сказала она, – а то сейчас как дам вот этой корягой по голове!
Никакой логики в её поведении не было и в те далёкие времена.
Я полз по дну оврага с двумя несчастными желудями в кулаке, когда услышал мамины всхлипывания за решёткой забора.
– Рита, это глупо! – утешал маму папа.
– Он про нас забыл мгновенно. Как будто мы и не существовали вовсе, – не успокаивалась мама. – Павлик, мы ему теперь совсем не нужны. Он, наверное, нас не узнает, когда мы за ним придём.
– Пошли отсюда. Мне надоел этот обезьянник. На работу опаздываем.
– Подожди. Интересно же.
Продолжая всхлипывать, мама попыталась допрыгнуть до дубовой ветки, покачивающейся над тротуаром.
А папа зашептал сквозь решётку забора:
– Серёжа, Серёжа!
Я оглянулся. Папа пальцем показал на что-то желтевшее на краю оврага.
«Шёлудь!» – обрадовался я и уже собирался схватить его, но «жёлудь» зашуршал крыльями и улетел.
Маме к этому времени удалось сломать дубовую ветку, и она просунула её сквозь решётку забора. Желудей на ветке было видимо-невидимо.
– Ребята! – опять раздался громкий голос воспитательницы. – Запомните: для того чтобы совершить подвиг, к нему надо готовиться с самого раннего детства. Надо стремиться всегда и во всём быть первым. Осталось три минуты.
– Елена Григорьевна, Свиридов у меня три жёлудя отнял! – захныкал какой-то мальчишка.
– Коля, сейчас же отдай Куницыну его жёлуди.
– Елена Григорьевна, они не его. Мы их вместе нашли.
– Тогда разделите поровну.
– А как?
– Один пусть возьмёт Сева, другой – Коля.
– А третий?
– Всё! Время истекло. Начинаем подсчёт, – объявила воспитательница.
На вытоптанной полянке лежали кучками жёлуди. Возле каждой стояли мальчики и девочки. Елена Григорьевна уже хотела назвать победителем Колю Свиридова, когда я молча опустошил свою панаму. Что тут поднялось!
– Как тебя зовут, мальчик? – спросила воспитательница.
Я был так горд и счастлив, что не смог вымолвить ни слова.
– Его зовут Серёжа, – ответила за меня Клава.
А мама добавила из-за забора:
– Лавров.
Из леса мы шли парами. Конечно, я держал Клаву за руку.
Все завидовали мне хорошей белой завистью.
Коля Свиридов из-за этой белой зависти всё время старался наступить мне на пятки, а один раз даже лягнулся.
Клава обернулась и сказала Свиридову:
– Дурак! – И объяснила мне – Это он потому, что раньше я с ним ходила.
Клава начала раскачивать ту руку, за которую я её держал. Она знала, что доставит мне этим удовольствие.
Мои папа и мама, гордые и счастливые, сопровождали наш строй по другую сторону забора. Если честно признаться, я тоже был счастлив, как никогда в жизни. Ни раньше, ни позже. Нет, кое-какие радости ещё выпадали на мою долю, но всё это было уже не то.
Глава II
Когда мы с Серёжей учились в третьем классе, меня окончательно перестало интересовать то, о чём говорит на уроках учительница. Это сразу сказалось на отметках. Зато твист, который был тогда в моде, я танцевала лучше всех. Для него нужны чувство ритма и непринуждённость в движениях. Поэтому я решила развивать в себе именно эти качества.
Наш фирменный проигрыватель выдавал последнего Элвиса Прэсли, а я в передней перед зеркалом совершенствовала чувство ритма. Мама строчила на машинке в большой комнате. В белой косметической маске и чёрной косынке, прикрывавшей волосы, она напоминала знаменитого французского мима Марселя Марсо, которого недавно показывали по телевизору.
Мама тоже по временам поглядывала в зеркало трельяжа. У нас с ней много общего.
Стук швейной машинки плюс ударник ансамбля Прэсли кого угодно сбили бы с толку, но не меня. Когда пластинка кончилась, я некоторое время твистовала под швейную машинку. Потом мне это надоело, и я заскучала.
– Мам… что бы мне поделать, только бы не почитать?
– Переверни пластинку, – посоветовала мама, стараясь, чтобы ни один мускул не дрогнул на её лице.
Это был дельный совет, и я снова принялась развивать чувство ритма.
– Мам… скажи правду… я очень глупая, как считают некоторые?
– А как ты сама чувствуешь?
– Сама я этого не чувствую.
– Правильно делаешь, – сказала мама. – Плюнь на некоторых.
– На учительницу? Если б не Серёжка Лавров, я бы все три года в первом классе просидела.
– Не будь Серёжки, нашёлся бы другой, – сказала мама.
Это меня возмутило:
– Я ему клятву дала!
– В чём?
– В чём надо, – ответила я.
– Не сдержишь! – уверенно сказала мама.
– Нет, сдержу! – разозлилась я. – Два с половиной года сдерживала. Нас всё время рассадить хотели, а мы всё равно за одной партой сидим.
– Ты, Клава, неглупая девочка. У тебя просто другой ум. У твоих подруг один, а у тебя другой. Но их ума тебе не надо. Своим живи.
Это меня устроило.
Бумажными салфетками мама осторожно стала снимать косметическую маску. Я затаила дыхание. Потом мама сняла косынку и тряхнула волосами. Тут я, как всегда, простила ей всё. У меня мама очень красивая.
– Вот я, например, всю жизнь своим умом жила и никогда об этом не жалела! – весело сказала мама и вместе со мной заплясала твист. У неё тоже очень хорошее чувство ритма и замечательная непринуждённость в движениях. – Главное, не надо никогда ни о чём жалеть! – ещё веселей сказала мама.
Мы так танцевали, что в серванте зазвенела хрустальная посуда. Затряслись на подставках мамины глиняные, гипсовые и бронзовые скульптуры – всякие бюсты, надгробья, фигурки танцующих балерин…
Моя мама скульптор, и на тех её работах, которые выставлялись, блестели медные пластинки: «В. С. Климкова. 1968 год».
– Меня Неонила Николаевна вчера из хора выгнала, – сообщила я маме, приседая в твисте почти до пола. У меня это здорово получалось. – Говорит, что слуха нет.
– Он у тебя внутренний. А главное в жизни чувство ритма. И этого у тебя никто не отнимет.
– По арифметике за контрольную двойка! – Стараясь перекричать Прэсли, подсовывала я маме новости, о которых лучше всего сообщать в подходящую минуту.
– А куда Серёжка смотрел?
– Он ногу на брусьях растянул. У него справка была.
– Значит, теперь исправишь, – бодро ответила мама. А когда Прэсли перестал надрываться, мама схватила меня на руки и начала целовать. Целовала, целовала, пока не заплакала.
– Что ты, мамочка? Не плачь, мамочка! – старалась я её успокоить.
Мама притихла, а потом посмотрела на меня, как будто в первый раз видит.
– Как это у тебя слуха нет? – спросила она. – В доме такой инструмент, а у неё, видите ли, нет слуха. И потащила меня к пианино.
Она стукнула по клавише и сказала:
– А ну, пой! А-а-а-а…
– А-а-а-а, – спела я.
– Не «а-а-а», а «а-а-а», – рассердилась мама.
Между её первым и вторым «а-а-а» разница была не так велика, чтобы из-за неё стоило поднимать шум.
– Чтобы у моей дочери не было музыкального слуха! – вознегодовала мама. – У меня – абсолютный. У отца был превосходный… В кого ты уродилась?
– У меня внутренний, – оправдывалась я.
– Тебе слон на ухо наступил! А ну марш из дома, бездарь! Ко мне сейчас люди придут.
Слегка прихрамывая, Серёжа топтался вокруг покрытой снегом шелковицы.
– Замёрз? – опоздав минут на двадцать, сочувственно спросила я.
Серёжа отрицательно покачал головой и даже расстегнул свою болоньевую куртку, из кармана которой торчал вязаный шарф. Воротник его рубашки тоже был расстёгнут. Треугольник обнажившейся груди сразу стал того же цвета, что и Серёжины уши. Шапку он лихо вертел на пальце.
– Пошли? – спросила я, ковырнув меховым сапожком скрипучий сугроб.
– По-по-шли, – лязгнул зубами Серёжа.
– Как бы наша шелковица не погибла, – пожалела я дерево, а не Серёжу, потому что он бы мне этого не простил. – Мама говорит, что климат меняется из-за атомных испытаний…
Мы уже довольно далеко отошли от нашей шелковицы.
– Ерунда. Учёные подсчитали, что все атомные взрывы на земном шаре…
Он замолчал, заметив, что я сразу отключилась. Единственный Серёжкин недостаток – это слишком обширные знания.
– А к маме опять сегодня люди придут, – вздохнула я.
Он ответил не сразу.
– Ты должна её понять. Твоя мама одинокая женщина.
– Она говорит, что ей никто не нужен, кроме меня.
– Все они так говорят. А потом: «Серёженька, хочешь, чтобы у тебя был маленький братик?»
– Но ты же Шурика очень любишь.
– Теперь, когда никуда не денешься. А тогда они с моим мнением не посчитались.
Перед тем как открыть дверь своей квартиры, Серёжа надел шапку, шарф и застегнул куртку.
– Чтобы старики не паниковали, – объяснил он и вынул из-за пазухи бутылку с молоком. – Всё Шурику. Я теперь в доме последний человек.
Поставив свой портфель на кафельные плитки, я начала распутывать шарф, который Серёжа завязал на шее морским узлом. Серёжа сначала отбрыкивался, а потом притих. Он бы мог простоять так всю жизнь, если бы нам не надо было делать уроки.
Когда Серёжа открыл дверь, мы услыхали захлёбывающийся плач Шурика и радостный вопль тёти Риты:
– Молочко пришло! Не плачь, Шурик, не плачь, маленький, сейчас тебе мама кашку сварит…
– Видала? – сказал мне Серёжа.
Тётя Рита ворвалась в переднюю, схватила бутылку с молоком и, даже не кивнув мне, исчезла.
– Вот оно, молочко, – снова донеслось до нас.
От этого известия Шурик стал захлёбываться ещё больше.
В переднюю вошёл дядя Паша.
– Не обращайте внимания на ненормальную! – сказал он, а потом, как всегда притворяясь грубияном, позвал жену:
– Ритка, давай сюда!
– Сейчас!
И уже с кастрюлькой тётя Рита появилась в передней.
– Ты посмотри, в чём этот нахал разгуливает в двадцатиградусный мороз! Помог бы даме раздеться, недотёпа! – прикрикнул на Серёжу отец и ловко стянул с меня шубку.
– Не все же такие умельцы, как ты! – съехидничала ревнивая тётя Рита. – Клава, откуда у тебя такая шубка?
– Мама сшила, – ответила я.
– Вот что настоящие женщины умеют! – воскликнул дядя Паша.
– Те, кто сидят дома, а я каждый день номерок вешаю… Клавочка, проследи за Серёжей, чтобы он пальто надевал, а то ещё схватит грипп и заразит Шурика, – попросила меня Серёжина мама.
– Хорошо, – пообещала я, и мы с Серёжей вошли из передней в комнату.
Шурик стоял в своей кровати, вцепившись ручками в сетку. Он гукал и пускал слюни. Увидев Серёжу, Шурик заулыбался во весь свой беззубый рот.
За спиной годовалого младенца на обоях чёрным фломастером были нарисованы голые красавицы с распущенными волосами. Ковбои с пистолетами в руках целились в тебя, с какой бы точки на них ни посмотреть. Бенгальские тигры показывали свои страшные клыки. Тянулись к звёздам небоскрёбы. Люстра в этой комнате, сооружённая из винных бутылок с обрезанными донышками, мне очень нравилась. Вообще Серёжина квартира, так отличавшаяся от нашей, казалась мне куда привлекательней. Я ему так и сказала:
– Твои всё-таки смыслят.
– Сейчас все технари бесятся, – ответил Серёжа снисходительно. – Физики шутят.
На туалете тёти Риты я увидела лупоглазую пластмассовую матрёшку с музыкой. Они тогда были в моде, а теперь их все повыбрасывали – дурной тон.
– Какая прелесть! – сказала я.
– Нравится? Возьми. Мама себе другую достанет. Для неё это не проблема.
– Прелесть, – повторила я, засовывая матрёшку в портфель.
Мы подошли к Серёжиному столу.
– Уроки я уже, как всегда, сделал, – сказал он, раскрывая тетради. – Давай переписывай своим почерком. Устные расскажу завтра по дороге в школу, чтобы за ночь не выветрилось. – И он стал перегукиваться с Шуриком.
– Тут у тебя какие-то скобки непонятные… – заметила я.
– А ты не вникай, – посоветовал Серёжа.
Не вникая, я переписывала примеры своим почерком, когда в комнату вошли дядя Паша и тётя Рита. У тёти Риты была в руках тарелка с манной кашей.
– Давай вечером вместе в кино сходим, – предложила Серёжина мама дяде Паше. – Может, это меня успокоит.
– Отвыкать, отвыкать надо от вредных привычек, – приближаясь к Шурикиной кровати, ответил Серёжин отец.
Шурик насторожился.
– На работе вместе, дома вместе, и в кино тоже вместе! Так можно дойти до того, что и рассказать друг другу нечего будет. Отсутствие в семье обмена информацией – кратчайший путь от свадьбы до развода.
Когда к Шурику приблизилась тётя Рита с тарелкой, он приготовился разреветься. Серёжка быстро подошёл к кроватке брата, и лицо Шурика засияло.
– Сейчас Шурик будет ам-ам, – воспользовавшись этим, сказала тётя Рита и попыталась всунуть ложку Шурику в рот.
Шурик тотчас же всё выплюнул.
– По науке, – сказал дядя Паша, – ты не должна говорить «ам-ам». Разговаривай с ним, как с равным.
– Но он же не жрёт ничего!
Тётя Рита опять попыталась всунуть ложку с манной кашей Шурику в рот. Шурик и на этот раз всё выплюнул.
– По науке, – сказал дядя Паша, – дети лучше всего едят в коллективе.
– А где я тебе сейчас коллектив возьму?
– А ну-ка дай тарелку!
Дядя Паша взял из рук жены тарелку с манной кашей и сказал:
– Серёжа, открой рот.
– Зачем?
– Ты будешь положительным примером, – объяснил наблюдательный и хитрый Серёжин папа.
– Но я не хочу манной каши!
– Открой рот, говорю!
Серёжа открыл рот и подавился манной кашей.
– Видал? – спросил гукающего Шурика дядя Паша. – Теперь ты открой рот, болван.
Как ни странно, Шурик открыл рот и не выплюнул манную кашу.
– Ещё ложечку! – торжествовал Серёжин папа; но Шурик больше рот не открывал.
– Сергей! – скомандовал дядя Паша.
Серёжа послушно открыл рот. После этого и у Шурика прошла вторая ложка.
– Ну? Говорит это тебе что-нибудь? – победоносно спросил жену Серёжин папа.
– А может, по науке у Шурика аппетит пропадает от всего этого? – тётя Рита кивнула на разрисованные обои с голыми красавицами. – Когда студентами были – казалось нормально, а когда дети пошли…
– Может быть, ты ещё предложишь купить телевизор? – зловещим шёпотом начал Серёжин папа, а потом он закричал – Я на всю жизнь студентом останусь, и дети мои будут такими же! Открой рот, Сергей! Как это ты с брусьев сверзился?
– Он не сверзился, он выполнял упражнение, которое никому не удавалось, – вступилась я за Серёжу. – И только при соскоке ногу подвернул…
– Опять отличиться захотел? – спросил Серёжу дядя Паша. – Когда-нибудь ты на этом свернёшь себе шею!
– Не свернёт, – возразила я. – А отличиться всем хочется. Пошли, Серёжа. Я уже всё сделала.
– Надень пальто, нахал! – крикнул нам вдогонку Серёжин папа.
Конечно, Серёжка пальто не надел, как я его ни уговаривала. После манной каши об этом не могло быть и речи. Он ковылял по улице, подставив голую грудь встречному ветру, как Амундсен к Северному полюсу. Я постаралась придать своим глазам восхищённое выражение, как будто он только что съел не три ложки манной каши, а последний сухарь и ремень от собачьей упряжки.
– У нас на очереди Неонила, – сказал Серёжа. – Сегодня ты будешь петь в хоре.
Сохраняя достоинство, я подслушивала из-за пыльной кулисы, о чём говорят у пианино директор Дворца пионеров, Неонила Николаевна и Серёжа.
Весь хор уже выстроился на сцене. Директор был рассудителен.
– Видите ли, Неонила Николаевна, в том, что предлагает Серёжа Лавров, я не нахожу ничего дурного. Посмотрите глазами рядового зрителя, а не какого-нибудь сноба – кого вы в первый ряд поставили?
Я пробежала взглядом по первому ряду хора. Директор был абсолютно прав – всё какие-то пигалицы.
– Девочки в этом возрасте всегда несколько угловаты, – робко попыталась возразить Неонила. – А я отбираю по музыкальным способностям.
– Боже меня сохрани вмешиваться в ваши диезы и бемоли! Но возникает вопрос: что же, во всём нашем городе не нашлось ни одной пионерки, которая сочетала бы в себе всё необходимое? Отчётный концерт на носу, и к Серёжиному предложению стоит прислушаться. Пусть в первом ряду будет стоять хотя бы одна не угловатая девочка и только раскрывать рот. Мы всегда поручаем Клаве Климковой преподносить цветы почётным гостям. И сразу овация. Вы представьте: что, если бы, к примеру, телевизионные дикторы были похожими на вашу Тусю Ищенко? Да я первый выключил бы телевизор. Потому что я не какой-нибудь эстет – мне красивые нравятся.
Я посмотрела на Тусю. Это действительно была умора. Острый носик и тощие косички. Солистка называется. Довод насчёт телевизора показался Неониле убедительным, и она сказала:
– Будь по-вашему. Но как теперь Климкову вызвать?
– Она здесь, – обрадовался Серёжа. – Клава, иди сюда!
Сохраняя достоинство, я вышла из-за кулисы.
– Займи своё место, но только шевели губами, а не пой. Поняла? – распорядилась Неонила.
Девочки в первом ряду расступились, чтобы я заняла своё место. Но мне захотелось встать между Тусей и Серёжей, что я и сделала. Туся посмотрела на меня испуганно. Как-то вся сжалась. Я ей ободряюще улыбнулась.
Неонила ударила по клавишам и пошла эта нудятина: «В движенье мельник жизнь ведёт, в движенье…»
Директор, услышав нас, поморщился.
– Неонила Николаевна! – вмешался он. – А что у вас ещё в репертуаре? Мне кажется, это слегка устарело.
– Прекрасное никогда не стареет! – возмутилась Неонила, и лицо её покрылось пятнами.
Директор, тяжело вздохнув, вышел из зала.
«В движенье мельник жизнь ведёт, в движенье…» – запевали Серёжа и Туся. Я, скосив глаза, смотрела то на Тусю, то на Серёжу и синхронно открывала рот. Ничего трудного в этом нет. Серёжа делал вид, что ему такая допотопная тягомотина ужасно нравится. Даже лицо у него было какое-то вдохновенное. И Туся тоже старалась вовсю. Меня как будто между ними не было. Я вертела головой, шевелила губами, но чувствовала себя «третьей лишней». Наверное этот «мельник» соединил бы их, даже если Серёжка пел бы в Австралии, а Туська на Курильских островах.
Тач-тач, та-ам дари-да-там-там-тачч-тач… – ревели на отчётном концерте динамики, когда на сцене хореографическая группа старшеклассников исполняла ритмический танец под мелодию популярной в те времена песенки про соседа, который днём и ночью за стеной играет на трубе это своё неотвязное «тач-тач».
Длинноволосый руководитель хореографического кружка дёргался за кулисами в такт музыке. Номер имел исключительный успех. Зал был набит всякими шефами, почётными гостями и родителями, среди которых особенно выделялась моя мама, сидевшая рядом с тётей Ритой и дядей Пашей. Дядя Паша всё время смотрел на мою маму, а ревнивая тётя Рита на них обоих.
– Молодец, Володя, – похвалил за кулисами хореографа директор Дворца пионеров.
«В движенье мельник жизнь ведёт, в движенье…» – затянул наш хор. Я прилежно открывала рот, но даже это не помогло. В зале стоял равномерный гул. Потом гул стал усиливаться. Я заметила, что на глазах Неонилы выступили слёзы. Когда мы смолкли, раздались вежливые аплодисменты и занавес закрылся.
Опытный директор тут же закричал:
– Открыть занавес! – и вытолкнул на сцену Неонилу.
Старушке похлопали более сочувственно. Директор сунул мне в руки букет, чтобы я преподнесла его руководительнице хора. Когда я появилась на сцене с цветами в руках, разумеется, началась овация. А я ещё сделала книксен, как я умею. Дядя Паша и тётя Рита старались больше всех. Моя мама не хлопала, а смотрела на них, как я на Серёжкиного брата Шурика.
За кулисами Неонила сказала директору Дворца пионеров:
– Всё! Завтра подаю заявление об уходе. Пора на пенсию, Дмитрий Александрович, ничего не поделаешь.
Всё-таки я отец семейства. У меня два сына, и я отвечаю за их моральный облик. Серёжка спал, когда я обнаружил, что пропал мой барометр. И я сказал Рите:
– У нас в доме пропадают вещи. Где мой барометр?
У меня уже были кое-какие подозрения на этот счёт.
– Знаю, что пропадают. Цветные карандаши, которые ты привёз Серёжке из Болгарии, он подарил Клаве, как и всё остальное. Поговори с ним по-мужски.
– Нет, я поговорю с Клавиной мамой. Меня не пугает Серёжкина доброта. Страшнее, что девчонка может себе позволить принимать такие подарки от балбеса, который учится в третьем классе.
– Не делай глупостей, – испугалась Рита. – Ты нанесёшь детям душевную травму.
– Это на меня похоже? – возмутился я. – Будь уверена, я сделаю всё как надо.
В передней Вера Сергеевна предупредила:
– Вообще-то у меня люди.
– Я на минутку.
– Знакомьтесь, пожалуйста. Это…
– Мы знакомы, – сказал я, увидев, что «люди» не кто иной, как рыжий детина с бородой, которая однажды произвела на меня впечатление. – Я в вашем театре руководил переоборудованием электроцеха.
– Как же, как же! И откровенно заявили мне, художественному руководителю, что терпеть не можете современный театр. Наверное, вы любитель кинематографа?
– Кино разное бывает, – сказал я, уже сидя и выставив заплату на джинсах, потому что главреж был в костюме с иголочки.
– А какие же виды искусства вы предпочитаете?
– Балет, музыку. Там, где слов нет.
– Скульптуру и живопись тоже?
– Если в них нет слов.
– Как это понять?
– Очень просто, – сказал я. – Вот эта балерина, – я показал на одну из скульптур Веры Сергеевны, – прелесть, потому что молчит. Но вся – стремительность, экспрессия! А этот кузнец со средневековой кувалдой мне объясняет: «Смотрите, какой я трудолюбивый, я уже работаю в счёт будущего года». И на него глядеть неохота.
– Понятно, – ответил рыжий детина, – я вот тут уговариваю Веру Сергеевну к нам в театр главным художником.
– Ни за что! – воскликнула Клавина мама.
Главреж усмехнулся:
– Если бы всем ваятелям, Верочка, обитавшим когда-нибудь на нашей планете, удалось оставить после себя хоть один нетленный памятник, живым проходу не было бы. А я тебе предлагаю верный хлеб.
– Понимаю, что ты имеешь в виду. В последний раз закупочная комиссия приняла у меня всего одну работу. И то два года назад. Но это ещё ничего не значит.
– Скульптурой ты могла бы заниматься для себя. Тебе этого никто не запрещает.
– Я тоже дома все обои фломастером разрисовал, – удалось и мне вставить слово.
– Терпеть не могу самодеятельности! – взвилась Вера Сергеевна. – Если выяснится, что я бездарь, – брошу скульптуру. Навсегда!
– А как вы это выясните? – поинтересовался я. – С помощью закупочной комиссии?
– Хотя бы! – стояла на своём Вера Сергеевна. – Мой девиз: «Всё или ничего!» Я из-за этого с мужем разошлась.
– Он участвовал в самодеятельности или у него был другой девиз? – съязвил я.
– Вы хотели поговорить со мной о Клаве? – холодно спросила меня Вера Сергеевна. – Она спит. Из пушки стреляй – не разбудишь. Так что можете говорить свободно. – И Вера Сергеевна кивнула в сторону дивана, на котором спала Клава.
Прежде всего я увидел свой барометр. Он красовался над диваном. На тумбочке лежала коробка с цветными карандашами, которые я привёз из Болгарии. Пластмассовая матрёшка с музыкой смотрела на меня укоризненно. Я узнал точилку для карандашей с приделанным к ней серебристым «паккардом». И даже восьмикратную лупу, которую недавно никак не мог отыскать.
Клава, спавшая в окружении всех этих сокровищ, показалась мне такой трогательной, что я всем сердцем понял Серёжку. Её мама – немыслимая красавица – смотрела на меня такими же глазами, как у Клавы. Господи, да что там барометр, всё на свете я бы отдал, чтобы иметь право смотреть в эти, чёрт возьми, один раз в жизни встречающиеся глаза!
Я молчал. Ослепительные глаза смотрели на меня.
– Видите ли, – начал я, когда молчать стало уже невозможно, – мне иногда кажется, что мой сын отнимает у Клавы слишком много времени. Сейчас в школе такая нагрузка…
– Да. Я бы ни за что не выдержала, – согласилась Вера Сергеевна. – Но вы не беспокойтесь, Павел Афанасьевич, Клава девочка с характером. Я уверена в ней больше, чем в себе…
На другое утро мы с Ритой стояли у окна. Наш дом многоэтажный, и шелковица, у которой топтался Серёжка, была хорошо видна. Опять не надел пальто, нахал! Я обнял Риту, и мы затаив дыхание ждали, когда к Серёжке подойдёт Клава. Наконец она появилась и протянула Серёже руку. Они пошли, как всегда покачивая сцепленными руками. Начиналась метель, и через секунду две фигурки исчезли в ней.
Рита сказала:
– Бедные дети. Их рабочий день начинается раньше нашего.
Я сейчас очень любил свою жену. Не надо мне никаких других глаз.
– Рит, а может, правда сменим обои и люстру купим нормальную? На кой нам эта самодеятельность?
– Ни за что! – возмутилась Рита. – Мне так нравятся твои рисунки. У нас замечательная люстра. Помнишь, как мы её вешали?