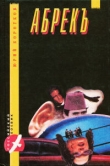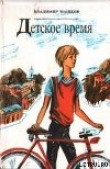Текст книги "Сигнал надежды"
Автор книги: Михаил Львовский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Михаил Григорьевич Львовский
(1919–1994)
Сигнал надежды
Из нотной тетради Тани Ищенко
ПЕСЕНКА О КРАСНОЙ ЧЕРТЕ,
отделяющей операционные от подсобных помещений.
Врач, конечно, богу не чета,
Он не всемогущий, не всесильный;
Но недаром красная черта
Строго охраняет мир стерильный.
Прежде чем её переступить.
Долго совершает омовенье
Тот, кто должен скромно сотворить
Истинное чудо – исцеленье.
Врач – он не бог,
Сделал, что мог…
Секунды бегут. Продолжается шок…
Ну, где же, где ж ты,
Сигнал надежды —
Благодарного сердца толчок?
Побывав за красною чертой,
Где секунды тянутся так долго,
Не гордись душевной чистотой,
Здесь её зовут служебным долгом;
Без неё ворвётся к нам беда,
Без неё со смертью как бороться?
Пропускает красная черта
Только Доброту и Благородство!
Врач – он не бог. Сделал, что мог…
Секунды бегут. Продолжается шок…
Ну где же, где ж ты,
Сигнал надежды —
Благодарного сердца толчок?
В полутьме длинного больничного коридора свет лампы с металлическим абажуром, падавший на крышку столика дежурной сестры, казался далёким, недосягаемым, а путь к нему бесконечно трудным.
Человек в сером байковом халате пробирался к зыбкому, как бы сквозь туман пробивающемуся свету, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Правой рукой он по временам опирался о стену. Левая была прибинтована к туловищу.
В провинциальных городах, стараясь создать в лечебных учреждениях уютную, небольничную обстановку, иногда хватают через край. Человек в байковом халате ковылял по больничному коридору мимо тропических пальм и прабабушкиных фикусов, золочёных, резного дерева диванчиков и кресел, обитых старинным гобеленом.
На одном из диванчиков в неудобной позе похрапывала санитарка – очень пожилая женщина.
За каких-нибудь четыре шага до лампы с металлическим абажуром больному пришлось опуститься в старинное кресло. Капельки пота заблестели на бледном лице, покрытом глубокими морщинами. Человек стал клониться куда-то вбок, пока его ухо не прислонилось к листику фикуса.
Он вздрогнул от холодного, щекочущего прикосновения, а потом уставился на фикус. И вдруг только что изнемогавший от слабости человек вырвал с корнем тощий фикус из зелёного ящика и одной здоровой рукой сломал его пополам. Потом начал обрывать ветки и листья. Разделавшись с фикусом, человек в сером халате ринулся к столику дежурной сестры – надо успеть, пока она где-то ходит! – и выдвинул ящик с картотекой.
– Больной, в вашей карточке только назначения лечащего врача. Диагноза там нет. Истории болезней мы храним в ординаторской.
Не успел! Перед человеком с прибинтованной к туловищу рукой возникла Танечка, неземное существо, созданное для белого крахмального халата, от одного вида которой становилось легче даже тем, кто уже не мог дышать без кислородной подушки! (О том, сколько терпения и точного расчёта понадобилось для аккуратных вытачек в талии, можно только догадываться.)
От металла в голосе неземного существа больной едва не потерял сознание.
– Почему вы решили, что я…
– Не вы первый, не вы последний.
Оказывается, для дежурной сестры это обычная история.
– Вы сломали фикус? – спросила Таня.
– Я, – ответил больной.
– Зачем?
– Потому что ненавижу ложь! Пальмочки понаставили! Фикусы! Будьте, как дома!
– Тише, больной!
– А за каждой дверью – смерть!
– Тише! Вы ненавидите, а другим нравится. – В первый раз в жизни Таня наплевала на медицинскую этику. – Здесь… одна женщина от саркомы умерла. Она до последнего дня умоляла, чтобы ей разрешили поливать этот фикус.
Больной не заметил какой-то особой горечи в Таниных словах.
– А может быть, и у меня саркома!
В этом его возгласе страх странным образом слился с надеждой восстановить попранное мужское достоинство в том случае, если Тане известен таинственный и страшный диагноз, запертый в неприступной ординаторской.
– Нет у вас ничего, – разочаровала больного Таня.
– Так вы и скажете правду. Эту женщину тоже небось обманывали…
– Нет, – ответила Таня. – Она всё про себя знала.
Больной в байковом халате задохнулся.
– А вас утром переведут в отделение для выздоравливающих. Сделают лёгкую повязку. Если бы получше себя вели, давно бы туда перебрались. Вот карточка. Можете убедиться.
– Танечка… – всхлипнул больной. Карточка дрожала в его руках. – А что у меня было?
– Обыкновенный жировик. Липома. Правда, в трудно доступном месте. Давила на нерв – отсюда все явления. Вам же профессор объяснил.
– Танечка, миленькая!
– Идите в палату, больной, вы еле на ногах держитесь.
– Ерунда! Я сейчас могу сплясать «цыганочку».
Человек в байковом халате как будто сразу помолодел.
Пристально глядя Тане в глаза, он здоровой рукой хлопнул себя по колену, потом по груди, а ноги в шлёпанцах уже приготовились к чечётке. При этом больной начал напевать томительный «выход» цыганской венгерки.
Санитарка заворочалась на своём диванчике.
– Тише, Аннушку разбудите, – сказала Таня.
– А почему она спит на работе, – весело продолжал больной, – и вы за неё по палатам бегаете… Эх, чавэ́ла!
– Потому что она сорок лет в больнице. Набегалась.
Больной недооценил Таниной злости. Шлёпанцы попытались изобразить чечётку.
– Хáди, милая!
– Хватит! За фикус придётся отвечать!
– Отвечу, Танечка, отвечу! – ликовал больной. – Я вам оранжерею из Москвы пришлю! Зимний сад! Да я в Москве…
– Знаю, товарищ Карташов, – резко перебила его Таня. – Вот в Москве бы и оперировались.
– Я доверяю только профессору Корнильеву!
– Тише! Три часа ночи. А я бы вам конструкторское бюро не доверила. Интеллигентный человек, а ведёте себя…
– Почему вы со мной так грубо разговариваете?
– Потому что терпеть не могу трусов.
– Ах вот оно что… – Больной сразу забыл про чечётку, помолчал, а потом как-то странно хмыкнул. – Представьте, я тоже, – сказал он и пошёл в свою палату.
Его уже не покачивало. И если бы не рука, прибинтованная к туловищу, можно было бы подумать, что он вполне здоров и даже молод. У двери в палату больной замедлил шаг и повернулся к Тане:
– А ведь я в вас, чуть-чуть не влюбился, сестрица. По-настоящему. На старости лет. Воздушное создание! Зефир!.. Вам бы штрафбатом командовать…
Таня растерянно смотрела на захлопнувшуюся дверь. Ей показалось, что, перед тем как войти в палату, больной снова сгорбился, сник.
Наутро возле зелёного ящика, в котором ещё вчера произрастал прабабушкин фикус, Таня рассказала профессору Корнильеву о ночном происшествии.
– С корнем! – добродушно удивился профессор. – Ну и здоров… А насчёт пальмочек и диванчиков он абсолютно прав. Этажом ниже – всё это уместно, не возражаю, а отсюда убрать, убрать немедленно! У нас ведь если затеют разумное, остановиться не могут. Эдак мне завтра на скальпель бантик нацепят… Кстати, Танюша, этот, как вы его назвали… патологический трус в Великую Отечественную был лётчиком-истребителем. Я его, голубчика, раз пять сшивал…
В служебном гардеробе больницы Танина сменщица Маша Старикова вертелась перед зеркалом. Маше тоже хотелось, чтобы белый халат не умалял её природных достоинств. Для этого широченную казённую хламиду Маша туго обворачивала вокруг своей не такой уж тоненькой фигуры, не принимая во внимание раскрошившиеся пуговицы, а рассчитывая только на скрученный жгутом пояс. Этот распространённый способ имеет свои преимущества. Никаких хлопот, а в результате – этакая пикантная лихость. Белая шапочка должна сидеть на голове не так, как у Тани – аккуратно, ни одного волоска наружу, а по возможности небрежнее, чтобы поминутно запихивать под неё непокорные прядки, существование которых Маша не намерена была ни от кого скрывать.
С бутылкой кефира, булкой и пинг-понговской ракеткой, болтавшимися в целлофановом пакете, Маша помчалась по широкой старинной лестнице на четвёртый этаж.
«Здравствуйте, доброе утро, здравствуйте, салют, привет, привет…» – и она уже на площадке третьего этажа.
А с четвёртого санитары и санитарки тащат кто Ящик с фикусом, кто с пальмой, а кто диванчик.
– Что за новости? – удивилась Маша. – Уже при мне, помню, наверх таскали.
– А теперь вниз, – мрачно ответила ей Аннушка. – В первый раз, что ли? Или ты вчера родилась?
А на площадке трое больных подозрительно шушукаются и на Машу поглядывают. Знает Маша эти штучки, эти заискивающие взгляды. И среди троих старый хрыч с вырезанной липомой.
– Маша, – говорит, – это я на третий этаж переезжаю. Со всей обстановкой.
– Ах так, – улыбается Маша, – поздравляю с новосельем! – И поправляет выбившуюся из-под шапочки прядку.
– Отметить надо, а бутылки нет.
Маша протягивает свою бутылку с кефиром, потому что знает, к чему дело клонится.
– Пожалуйста.
– Обижаете, Маша!
– У меня порожняк есть, – прохрипел один из троих, показав из-под халата горлышко зеленоватой бутылки. И этим испортил всё.
Маша девушка сердобольная, может быть, и пожалела бы мужиков, но «порожняк» – это уже слишком.
– Вы с ума сошли!
Она вспорхнула на четвёртый этаж.
– Из-за тебя! – с досадой сказал хрипатому бывший лётчик-истребитель. – Я бы ей культурно на пять звёздочек дал.
– А я коньяк не пью, – ответил хрипатый, – у меня от него аллергия.
Таню клонило в сон, она поглядывала на часы и старалась как можно шире раскрыть глаза, чтобы не слиплись веки.
– Прости, Танечка, – защебетала Маша, хлопая ящиками стола. В один швырнула ракетку, в другом нашла гранёный стакан. – Знаешь, почему я опоздала?
– Потому же, почему всегда.
– Злючка… У нас опять перемены?
Маша пыталась выбить кефир из бутылки.
– Угу.
– Слушай, всюду блат! Этого с липомой в любой московской больнице могли соперировать. Нет, подавай ему самого Корнильева! Небось на третьем этаже отдельную палату предоставят, а там кровати в коридоре стоят. Из шестнадцатой жив?
– Жив.
Маша жевала булку, запивая её кефиром.
– Ну вот, опять на мою голову. Думала, может, его этой ночью вынесут, так нет, обязательно всё на моё дежурство приходится… Хочешь кефиру? Меня корнильевский тип попросил поллитровку купить. Представляешь, до чего обнаглел?!
– А ты? – насторожилась Таня.
– За кого ты меня принимаешь?
Перед тем как спуститься в служебный гардероб, Таня вошла в кабинет профессора Корнильева.
– Что-нибудь в шестнадцатой? – с тревогой спросил профессор, оторвавшись от рентгеновского снимка.
– Всё по-прежнему, – ответила Таня. – Я хотела спросить… Николай Александрович, ваш лётчик-истребитель пьёт?
– В каком смысле?
– В обыкновенном. Пьющий он или нет?
– Что вы, Танечка! Свои боевые сто грамм на фронте – это бывало. А так чтобы всерьёз – никогда.
После смены Таня обычно заходила в гастроном.
– Сто граммов масла, крупы манной полкило, сырок с изюмом, печенье «Школьное»…
Кассирша называла цены, щёлкал кассовый аппарат.
– И ещё… пол-литра «Столичной».
Таня произнесла последние слова с трудом. Кассирша была знакомая. Но та ко всему привыкла, а поэтому равнодушно бросила на блюдечко чеки, назвав общую цену Таниных покупок.
На полу отдельной палаты, которую, как предсказывала Маша, отвели бывшему лётчику-истребителю, валялся поднос и разбитые вдребезги тарелки. Больничный обед на вощёном паркете – не приятное зрелище. Выздоравливающий лежал на кровати, отвернувшись к стене. Возле него стоял профессор Корнильев. Молоденькая санитарка всхлипывала у двери.
– Бунтарь-одиночка! Ты и со мной разговаривать не хочешь? – спросил выздоравливающего профессор.
– Он в меня тарелкой запустил, – наябедничала санитарка.
– Я тебя в нервное отделение переведу! Допрыгаешься! – строго сказал Корнильев бывшему лётчику.
Выздоравливающий молчал.
– Его в психушку надо, – всхлипнула санитарка.
– А вы пойдите и умойтесь холодной водой, – приказал девушке профессор.
Санитарка вышла.
– Зачем ты её обидел? Хорошая девушка, – сказал профессор выздоравливающему. И опять не дождался ответа. – Может, тебе наша стряпня надоела? Так я же всё время старался, и до сих пор всё, что приносил, не встречало возражений. Постой… Ты, наверно, уже всё слопал? – Профессор заглянул в тумбочку. – Понятно. Решил объявить голодовку. Хотя бы предъявил требования.
Профессор пытался шутить и поэтому произносил несвойственные ему слова:
– Сейчас, Толя, самое время трескать за обе щеки. Иначе загнёшься. Тебе что, жизнь надоела?.
Корнильев задал этот вопрос между прочим, но выздоравливающий как будто ждал, когда его спросят о самом главном.
– Надоела, – сказал он. – А тебе нет?
– Вот оно что… – удивился Корнильев. – Представь себе, не надоела.
– Счастливец. А я сам себе противен. Сам себя не устраиваю. Ну что это за жизнь пошла? Твоя хорошая девушка только что пыталась накормить меня с ложечки. Всем больным приносят передачи. Сидят эдакие длинноногие красавицы с трогательными кулёчками в руках и смотрят влюблёнными глазами на своих хилых балбесов. А мне такой же старый хрен, как я, украдкой суёт в тумбочку яблоки и сухую колбасу, которую, кстати, не положено…
– Мне, конечно, до длинноногой красавицы далеко, – согласился профессор, поглаживая себя по лысине.
– Откуда их столько набралось? – с тоской спросил выздоравливающий. – В наше время таких не было.
Корнильев помолчал, посопел, а потом неожиданно предложил:
– Толя, а может, я тебя самолётом в Москву отправлю? Я холостяк, от меня, кроме этого полена, – Корнильев потряс обрубком сухой колбасы, – ничего не дождёшься. А там всё-таки жена; дети…
– Они у меня вот где! – бывший лётчик провёл ребром ладони по горлу. – Да и не в этом дело… Трусом я стал. Молодёжи завидую. Старость, Николай Александрович, старость.
– Понятно… Анатолий Егорович, а если вы ненароком узнаете, что я у вас не липому, а что-нибудь эдакое весьма-весьма неприятное вырезал, как вы к этому отнесётесь? – серьёзно спросил своего друга профессор.
– Что?! – вскрикнул выздоравливающий.
– Старости он испугался! – заорал Николай Александрович. – Жить ему, видите ли, надоело! А глаза сразу сумасшедшие. Я вот тебя сейчас в общую палату переведу и нянчиться с тобой перестану! И начнёшь ты жить да радоваться.
– Я там всех перегрызу.
– Дурак, кому нам завидовать? Ты вспомни наших девчонок. Напряги, напряги память.
– Ну… напряг… – уныло ответил Анатолий Егорович после паузы.
– И что?
Выздоравливающий промолчал, но по его лицу можно было понять, что в глубине памяти ничего утешительного ему обнаружить не удалось.
– Ты, значит, моложе меня, – заявил профессор, – и твоя злость хороший признак. Я уже давно не злюсь.
– Коль, а откуда вы эту Татьяну – воздушное создание – откопали? – робко спросил своего друга Анатолий Егорович.
– Понравилась? – улыбнулся профессор. – Ещё бы! Отличная сестра по уходу. Это я её открыл. У неё мама болела. Таня тогда ещё школьницей была. Полгода по ночам сидела у её постели и за другими больными ухаживала. Тут я и заприметил её. Тем более осталась одна с сестрёнкой на руках. Деваться некуда.
– А чем мама болела? – насторожился выздоравливающий.
– Чем болела – неважно. Но ты сломал её любимый фикус.
Профессор распахнул дверь в коридор.
– Люся! – крикнул он. – Анатолий Егорович просит перевести его в общую палату. Кажется, в четвёртой есть место.
После ночной смены надо отсыпаться днём. Сквозь закрытые деревянные жалюзи свет пробивается узкими лучами, падающими на Танину кровать яркими чёткими полосами. Таня спит беспокойно, то и дело ворочается.
Танина сестрёнка, девочка лет восьми, на цыпочках ходит по комнате. Она разгружает её хозяйственную сумку, накрывает на стол. Обнаружив бутылку «Столичной», долго её рассматривает, не зная, как поступить, а потом решает, что раз сестра купила эдакую невидаль, её следует поставить в центре стола. Ненадёжно прислонённую к стене гитару девочка осторожно вешает на гвоздик.
Когда звенит будильник, Таня долго не может сообразить, ночь сейчас или день. Она быстро, с привычной готовностью к немедленному действию, садится на кровати, а глаза бессмысленные. Открыты, но ещё спят. Постепенно Таня понимает, что никакого немедленного действия от неё не требуется, глаза просыпаются и, встретившись со взглядом сестрёнки, теплеют. Но, увидев на столе «Столичную», Таня спохватывается и быстро прячет бутылку в сумку.
– Светка, какой сегодня день?
– Четверг, – отвечает сестрёнка.
– Почему я на пять будильник поставила?
– Тебе к Неониле Николаевне…
– Правильно. Что бы я без тебя делала!
Сёстры чаёвничают в своей маленькой комнатке старого деревянного дома на окраине города. Окно распахнуто, и ранняя южная осень заглядывает в него ещё жаркими, но уже не испепеляющими лучами.
– Я от Серёжи Лаврова опять письмо получила, – говорит Света.
– Ну и что же он тебе пишет? – спрашивает Таня, подчёркивая слово «тебе».
– Что всегда. Не вышла ли ты замуж, – подчёркивает Света слово «ты».
– Покажи письмо, – просит Таня.
– Зачем?
– Может, ты не всё разобрала. – В Танином голосе звучат виноватые нотки, как будто она нарушила какой-то давний уговор.
– А он вот такими печатными буквами… – показывает Света, какими огромными буквами пишет Серёжа Лавров. И это означает: «Нас не проведёшь!»
– Про себя что-нибудь сообщает?
– Про себя он нарисовал пароходик.
– Когда сочинишь ответ, я ошибки проверю. А то ты в прошлый раз в одно слово написала: «нивышла». Красней за тебя.
– Сама бы и написала без ошибок, – обиделась Света.
– Что?
– Что надо.
Таня не выдерживает:
– Дай письмо.
– На. Только, чур, не реветь!
Слёзы сами потекли из Таниных глаз, едва она увидела Серёжкины печатные буквы.
– Начинается! – сказала Света. – Что Серёже про нас написать?
«Надо взять себя в руки», – подумала Таня и сказала:
– Про нас нарисуй самолётик.
…Неонила Николаевна жила неподалёку. Тоже в ветхом деревянном доме с застеклённой террасой.
Таня ловко расправилась с ампулой. Взметнулась вверх тоненькая струйка из серебристой иглы. А когда девушка прижала ваткой место укола на тощей руке Неонилы Николаевны и, как всегда, спросила: «Не больно?» – старушка, отрицательно покачав, головой, сказала:
– У тебя золотые ручки. И всё-таки я тебе никогда не прощу, что ты забросила музыку.
– А я не забросила, Неонила Николаевна.
– Знаю, слыхала, – вздохнула старушка. – Бренчание под гитару: «Арлекино, Арлекино…» – это же самообман!
Таня опустила голову.
– Помнишь, как вы во Дворце пионеров называли свою старую учительницу пения?
– Неистовой Неонилой, – не поднимая головы, ответила Таня.
– Я такой же и осталась. Какой у вас был дуэт с Серёжей Лавровым! Истинно божественное сладкоголосие, как говорили в старину. Но он хотя бы успешно закончил что-то там научное, бог ему судья. А ты? С твоей одухотворённостью…
– Неонила Николаевна, – робко сказала Таня, – я музыку пытаюсь сама сочинять.
– Сочинять? – изумилась бывшая учительница пения.
Сначала её глаза были полны недоверия, а потом постепенно в них вспыхнула радостная надежда.
– А что? Это может внезапно, как молния, озарить душу. И в глубокой провинции вдруг засверкает самородок! Покажи, сейчас же покажи мне что-нибудь!
Сухонькая, с красными пятнами на щеках, Неонила Николаевна всегда была порывистой и чересчур суматошной. Годы не принесли ей успокоения.
– Я боюсь, – призналась Таня.
– Меня? Да я же всё пойму! – горячилась Неонила Николаевна, волоча Таню к пианино, которое всю тёплую пору стояло на застеклённой террасе. Почти насильно она усадила девушку на круглую вращающуюся скамейку, а сама устроилась в качалке возле стола, покрытого потёртой клеёнкой.
– Это песни, – сказала Таня.
Неонила Николаевна кивнула.
– Даже не знаю, какую сыграть… – всё ещё трусила Таня. Вытащив из сумки потрёпанную нотную тетрадку, она поставила её на пюпитр и начала перелистывать страницы.
– Какую сама считаешь лучшей. Песни – это хорошо. Их писали Шуман, Шуберт и даже Бетховен. Давай, давай, не стесняйся.
– Боюсь, – опять сказала Таня, перебирая клавиши.
– Чего? Я уже по твоим первым аккордам чувствую, что хорошо. Ну!
– Это не мои аккорды, – сказала Таня. – Это аккорды Шуберта.
– Ну давай, давай, не ломайся.
– Разве что эту…
Постепенно из шубертовских аккордов как бы выплыл слегка наивный аккомпанемент Таниной песни.
Лицо Неонилы Николаевны засияло от восторга. Ей очень хотелось, чтобы заблестел в провинции самородок.
Наконец Таня запела, как всегда чисто и трогательно:
Дрогнут детские ресницы,
И ворвётся в сновиденье
Счастья сказочная птица
В золотистом оперенье.
С той поры по белу свету
Ищешь ты свой детский праздник,
Он всё время рядом где-то,
Но всегда лишь только дразнит…
И тогда ты постепенно понимаешь
Истину, открытую давно:
Счастье в одиночку не поймаешь
И не скажешь: «Чур, на одного».
Но всего страшней бывает,
Если друг с тобою рядом,
Но тебя не понимает
С полуслова, с полувзгляда,
И твоей любимой снится,
Будто к ней летит, сверкая,
Счастья сказочная птица,
Но совсем, совсем другая…
И тогда ты постепенно понимаешь
Истину, открытую давно:
Счастье в одиночку не поймаешь
И не скажешь: «Чур, на одного».
Некоторое время Неонила Николаевна продолжала подбадривать Таню восторженным выражением лица. Но это продолжалось недолго. Восторженное выражение превратилось в маску, и, позабыв снять её, Неонила Николаевна сказала:
– Довольно, Танечка. Это, родненькая, не сочинение музыки, а совсем, совсем другое. Стихи не моя область, поэтому молчу. Но когда-то то, что ты делаешь, называлось: подобрать мотивчик. Нет, чудес не бывает, моя милая. Из искусства не уходят. Даже те, кому не повезло. Некоторые, например, становятся обыкновенными учительницами пения и никогда – слышишь? – никогда об этом не жалеют.
Самородок обнаружить не удалось, и Неонила Николаевна, казалось, была искренне огорчена.
Таня слушала свою бывшую учительницу с горьким удивлением. Горько было оттого, что неистовой Неониле не понравилась песня. Удивление вызвала странная, необычная резкость тона, с которым был вынесен приговор.
Таня очень любила свою бывшую учительницу и сейчас проклинала только себя.
Но когда старушка сказала ей: «Ты могла бы стать избранницей судьбы, а гробишь свою жизнь на это, – неистовая Неонила постучала пальцем по коробочке со шприцем. – А на это способна любая. Тысячи, десятки тысяч», – девушка не выдержала. Хлопнула крышка пианино.
– До свидания, Неонила Николаевна.
– Танечка…
Но Таня уже бежала к калитке. Её потрёпанная нотная тетрадка осталась на пианино.
С аккуратным свёртком в руках Таня вошла в шумное помещение, где шёл приём передач для больных. В приёмные дни это единственный способ разнообразить больничную кухню. Родственники больных писали записки, умоляли непреклонных санитарок передать что-либо непредусмотренное специальным предписанием. Разговор в этих случаях был коротким: «Нет, и всё!»
По временам санитарки возвращались с ответами от больных и выкликали их родственников.
– Сорокина! Получите из тридцать второй.
– Солдатенко! Возьмите обратно сумку. Я вашей жене всё в тумбочку поставила. Она как раз уснула, так что письма не ждите.
– Консервы – нельзя!
– Колбасу – нельзя!
– Арбуз – нельзя!
В укромном уголке Таня написала на своём свёртке «Карташову А. Е. 3-й этаж…».
– Люся! В какой у вас палате Карташов?
– В четвёртой, – ответила молоденькая санитарка. – А зачем он тебе?
– Передачу принесла.
– Карташову? Ты что, спятила? Он вторые сутки ничего в рот не берёт. Его, наверное, скоро в психушку отправят.
У Тани ёкнуло сердце.
– Люсь…
– А почему сама не отнесёшь?
– Так надо.
– Что у тебя там? – Люся пощупала свёрток, встряхнула его и, услышав бульканье, посмотрела Тане в глаза.
– Рехнулась, да? Он тарелками швыряется, а ты ему… И не подумаю. Хочешь – сама неси. Твоё дело. А я в ваши игры не играю.
– Консервы – нельзя!
– Колбасу – нельзя!
– Опять арбуз? Граждане, кто с арбузами, зря не стойте!
Первое, что увидела Таня, когда обошла хирургический корпус, чтобы попасть к служебному входу, был огромный арбуз, покачивающийся на верёвочке, которую ловко втаскивал больной в окно третьего этажа. Больные хирургического отделения прилипли к окнам. Внизу стояли их родственники и друзья. Переговаривались жестами. На верёвочках взвивались вверх хозяйственные сумки, и то, что не удалось передать законным путём, быстро попадало по назначению незаконным. Таня усмехнулась. Незаконный путь был известен всем. Сколько раз его пытались закрыть, но безуспешно. После снятия очередного специального надзора опять начинали взвиваться вверх хозяйственные сумки.
– Вира, вира помалу!
Незаконный путь для Тани был абсолютно неприемлем. Да и не увидела она Карташова ни в одном из окон, сколько ни вглядывалась.
В кабинете профессора Корнильева, развалившись в кресле и вытянув ноги, сидел невропатолог Глеб Афанасьевич Спиридонов. Он был молод, но довольно удачлив и поэтому разговаривал с любым собеседником слегка снисходительно, даже если считал нужным ему польстить.
– У вашего Карташова, Николай Александрович, только обычные постоперационные явления. Физиотерапия быстро их снимет, и он будет абсолютно здоров. Вы – кудесник!
– Не надо, Глеб Афанасьевич, – поморщился Корнильев. – Когда я заведовал всей больницей, меня почему-то никто не мог обыграть в шахматы. А теперь, когда оставил себе только хирургию, легко обштопывают отоларингологи, дерматологи, офтальмологи… Только у себя в отделении я по-прежнему чемпион. Как вы оцениваете общее состояние Карташова?
– Со стороны нервной системы всё в абсолютной норме. Все рефлексы как в учебнике. Мой диагноз – плохое настроение. У всякого, знаете ли, бывает. А тут вполне понятный страх перед операцией. Всё окончилось благополучно, и в результате – парадоксальная реакция, срыв.
– Плохое настроение для Карташова – это болезнь. И её надо лечить. По-моему, у него депрессивный невроз, – ответил Корнильев.
– Я дал ему свои таблетки, но ваш Карташов их тут же демонстративно выбросил. На мой взгляд, Николай Александрович, вы зря беспокоитесь. Невроз! Да я сам от телефонных звонков чуть не падаю со стула.
– Сапожник без сапог. А у меня с фронта язва двенадцатиперстной. Никак не избавлюсь.
– Вот-вот. На Западе некоторые учёные утверждают, что в наш век всё человечество страдает неврозом и надо лечить род человеческий.
– Реакционеры?
– Кто?
– Эти учёные.
– Разумеется.
– А может быть, они правы?
– Скажите это на ближайшей конференции. Я посмотрю, что с вами сделают.
– Психиатра Карташов к себе на пушечный выстрел не подпустит… – задумчиво произнёс Корнильев, не обратив внимания на последние слова невропатолога.
– А ему тут делать нечего.
– Какая тема вашей диссертации, Глеб Афанасьевич?
– Я всё по пирамидальным путям ударяю.
– Ну что ж, ударяйте, – согласился Корнильев.
Неожиданно зазвенел телефон, и невропатолог так подскочил в кресле, что Николай Александрович рассмеялся. И была в его смехе явная укоризна. А невропатолог вынул платок и вытер пот со лба.
В коридоре реанимационного отделения за столиком дежурной сестры сидела старая санитарка Аннушка.
– Где Маша? – спросила её Таня.
– Сейчас будет. Отлучилась на минутку.
– А вы двое суток подряд отдежурили?
– Все молодые болеют, – ответила Аннушка, – а для меня, старухи, не в тягость.
Появилась запыхавшаяся, раскрасневшаяся Маша с ракеткой в руке. На Машином лице и халате Таня заметила следы сажи, и ей всё стало ясно.
– Опять в котельной резалась в пинг-понг?
– А где ещё, если нас гоняют отовсюду?
Маша спрятала выбившуюся из-под шапочки прядку волос и принялась ликвидировать следы пребывания в котельной.
Таня хотела сказать ей что-то резкое, но сдержалась.
– Ладно. Постараюсь, чтобы вас и туда не пускали. И пригрозила Маше: – Переведут опять в санитарки – локти кусать будешь.
– Я? Да меня в любой момент в кафе «Лира» официанткой возьмут. А могу в гастроном продавщицей пойти. Как сыр в масле кататься буду, не то что здесь.
– Николай Александрович у себя? – прервала Таня обычную Машину болтовню.
– Угу. Он сегодня в Ростов летит. Там две операции. А потом в Армавир. В шестнадцатой – тьфу-тьфу – полный порядок! Шеф сказал: «Вне опасности». Вот бы никогда не подумала.
– Маша, – попросила свою сменщицу Таня, – задержись на несколько минут. Буквально. Я мигом.
Она сняла свой белоснежный халат, и оказалось, что под ним всё самое красивое и модное, что Таня надевала в особо торжественных случаях.
Маша сделала большие глаза, а Таня набросила халат на плечи, оглядела себя в зеркале и с аккуратным свёртком в руках выскочила на лестничную площадку.
Карташов лежал в палате, в которой вместе с ним обитало ещё четверо выздоравливающих молодых ребят. Может быть, профессор Корнильев определил его именно в эту палату не без умысла. Все ребята запаслись транзисторами. На одном из подоконников работал портативный цветной телевизор с отключённым звуком. Одетые в домашние брюки, свитера, куртки, чтобы можно было погулять по огромному больничному саду, сходить к парикмахеру, во всеоружии встретить друзей и подружек, если представится случай, эти ребята считали дни до выписки. Только бывший лётчик-истребитель не расстался со своим серым халатом. Небритый, с заметно отросшей бородой, он лежал на кровати, устремив глубоко запавшие глаза в потолок. На его тумбочке скопились тарелки с нетронутой снедью. Это волновало молодых выздоравливающих.
– Дед, сырники ты в самом деле не хочешь?
Карташов молчал.
– А рулет картофельный с мясом? Слушай, дед, я тогда тебе помогу…
– Ты уже вчера тефтели помог. А мне пять килограммов нагнать надо до нормы. Не трожь сырники.
– Сырники вес не дают. Бери рулет… Дед, а как насчёт колбасы? У кого острый нож есть? Она твёрдая как камень. Её тоненько-тоненько резать надо. Чтобы просвечивала.
– Не всю, не всю, черти! Оставьте хозяину половину. А вдруг он оклемается! Хозяин, тебе сколько лет?
– Не тревожь человека. Надо такт иметь. Его колбасу жрёшь и про годы спрашиваешь.
– Что я, неграмотный? У женщины я бы не спросил. А деду свои годы скрывать нечего. Правильно я говорю, дед?
– Всё равно, когда человеку под шестьдесят…
В разгар пира вошла Таня. Аккуратного свёртка не было в её руках.
Ребята сразу притихли. Потом кто-то сказал:
– Ого, кто к нам пришёл!
И все зашумели:
– Здравствуйте, Танечка!
– Присаживайтесь!
– Будьте как дома!
– А гитара где?
– «Арлекино, Арлекино…»
Но Таня сказала:
– С гитарой всё! Никаких «Арлекино»! Кончаю с этим делом, мальчики…
Раздалось негодующее «У-у-у…».
– А вообще я не к вам пришла, – продолжала Таня.
Опять все умолкли.
– А к кому?
– К Анатолию Егоровичу. – И, бросив белоснежный халат на спинку кровати, на которой лежал человек с измождённым небритым лицом, Таня присела на его неопрятно выглядевшую постель.
Бывший лётчик перевёл свой взгляд с потолка на Таню.
– Здравствуйте, – сказала Таня. – А я за вами.
Изумлённый взгляд Анатолия Егоровича скользнул по Таниному наряду для особых случаев. Юбка у особого наряда была «мини». Таню, вероятно, смутил взгляд бывшего лётчика, который отметил это обстоятельство, но она не изменила позы, чтобы прикрыть колени.