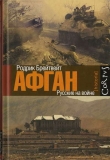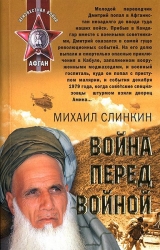
Текст книги "Война перед войной"
Автор книги: Михаил Слинкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Хозяин оказался весьма разговорчивым и веселым человеком, и Дмитрий, заскучавший было без привычной оживленной беседы с торговцами, с удовольствием компенсировал с ним недостаток общения на кандагарском базаре. Хазареец, после обмена традиционными приветствиями, сразу перешел к политике. Тут же выяснилось, что он всей душой принял революцию.
«Немудрено, – решил Дмитрий, – ведь левые власти сразу объявили о равноправии всех наций и народностей Афганистана. А для хазарейцев, всегда считавшихся в стране людьми второго сорта, – это многообещающий шаг».
– Если раньше, – рассуждал хозяин, – мы даже и мечтать не могли о том, чтобы участвовать в управлении страной, то сейчас в новом правительстве министр планирования – хазареец. – И, желая подчеркнуть, что у его народа наконец-то появился свой заступник, продекламировал рубаи Абдуррахмана Джами:[11]11
Джами, Абдуррахман (1414–1492) – великий персидский поэт и мыслитель, классик мировой литературы. Большую часть жизни прожил в Герате. Его гробница является местом паломничества.
[Закрыть]
Недалек тот час, – продолжил свои рассуждения образованный хазареец, – когда у нас, как и у вас в стране, возможности каждого не будут ограничиваться принадлежностью к той или иной нации. Хазарейцы перестанут быть самыми обездоленными людьми и влачить жалкое существование, работая водоносами, грузчиками, старьевщиками или мойщиками трупов.
– Но вы-то и раньше не бедствовали, – сказал Дмитрий. – Лавка в центре, клиенты – иностранцы.
– Мне повезло больше, чем другим. Удалось закончить медресе в Герате. Потом перебрался в Иран. Выпекал хлеб и пирожки в кондитерской. Вот и скопил немного денег на собственное дело.
– А почему у вас работают только хазарейцы? – спросил Дмитрий.
– Надо помогать своим. Да и не пойдут пуштуны к хазарейцу, какой бы он богатый ни был. Гордые они. Вот советские – другие люди, – начал развивать новую мысль склонный к обобщениям хозяин. – Кем мы с вами были раньше? Друзьями. А сейчас, после революции, стали братьями. Поэтому вы, старшие братья, здесь, в Афганистане, помогаете нам, младшим.
Простокваша была съедена. Хозяин, радуясь обретению новых постоянных клиентов, вышел проводить старших братьев до машины и попрощался с каждым из них за руку, особо выделяя Дмитрия, который по возрасту годился ему в сыновья. Уже на площади хазареец шепнул Дмитрию, что еще он держит книжную лавку с маленькой библиотекой, и предложил пользоваться ею за умеренную плату.
IV
Снова аэропорт. Вилла. Те же лица, та же скука. Молодое афганское телевидение вещало только в Кабуле. Здесь же на всех был один маленький транзистор: советники еще не решились обзавестись престижными японскими магнитофонами, которые почему-то отсутствовали в составленных женами длинных списках товаров первой необходимости, а свой Дмитрий опрометчиво оставил в Кабуле. Советские газеты месячной давности доставлялись редко, с оказией, и зачитывались до дыр. Несколько ходивших по кругу случайных книжек, среди которых наибольшей популярностью пользовался школьный учебник русской литературы, были давно изучены. Ни шахмат, ни шашек, ни домино. Нашлась лишь колода замусоленных карт. Поэтому все вдруг стали заядлыми любителями игры «в дурака».
Ближе к вечеру, когда белое солнце приобретало красноватый оттенок и скатывалось на запад, выделяя длинной тенью каждый камешек в степи, в гараж без ворот, как принято у американцев, выносился низкий журнальный столик на бронзовых ножках. Каменные стены и пол из полированного бетона в течение получаса поливались водой из шланга, чтобы смыть нанесенную за день мелкую желтую пыль и охладить помещение. После заката вся компания рассаживалась на прохладном полу вокруг столика – четверо игроков и четверо болельщиков, ожидавших своей очереди принять участие в игре на вылет.
Игра продолжалась весь вечер, прерываясь лишь иногда, когда на свет в гараже забегал любопытный скорпион. Уже попривыкшие к местной экзотике военные тут же бросали карты и устраивали облаву. Пойманного скорпиона сажали в заранее приготовленную трехлитровую стеклянную банку и бежали в свои комнаты перетряхивать занавески и личные вещи в поисках фаланги. Как только охота заканчивалась обретением второго трофея, его помещали в ту же банку, ставили ее на журнальный столик и, расположившись кружком, делали ставки на одного из членистоногих гладиаторов – фалангу или скорпиона. Смертельная схватка в банке продолжалась недолго. Побеждал обычно скорпион, которому либо даровали жизнь, либо, придравшись к неспортивному поведению, если такой факт отмечало строгое судейство, путем открытого голосования выносили смертный приговор. Дмитрий, не имевший ничего против погибавших десятками на арене фаланг и скорпионов, предложил было устраивать более гуманные тараканьи бега. Скучавшие по спортивным зрелищам советники с интересом отнеслись к этому предложению. Но тараканов на вилле не оказалось, а для быстроногих фаланг пришлось бы строить слишком длинную беговую дорожку, для которой не нашлось дефицитного в Афганистане дерева.
Помимо игры в карты и жестоких зрелищ, два-три раза в неделю всей компанией отправлялись в бассейн, расположенный в десяти минутах ходьбы от виллы. Ходили бы и чаще, но вода, которую хотя и меняли регулярно, по воскресеньям, уже на третий день прогревалась и начинала цвести. Да и местные босоногие ребятишки, не приученные принимать душ, прыгали в бассейн сразу, прибегая с пыльной улицы, каждый раз добавляя новой грязи и мути, а с ней и всяческой заразы в нехлорированную благодать. Поэтому приходилось ограничиваться только первыми днями после смены воды, когда для афганцев она была еще холодна, а для изнывавших от жары северных жителей – то, что надо.
Томившиеся после обеда от безделья советники использовали, казалось, все возможности занять себя. Были отремонтированы электроприборы и сантехника, приведена в порядок ветхая мебель, вставлены в рамки и развешаны у кроватей фотопортреты любимых жен и чад, а перед виллой, к немалому удивлению афганцев, разбиты грядки и в землю, старательно просеянную от камней через железную кроватную сетку, посажены лук, чеснок и зелень к столу.
Скучавший, как и все, Валера, недовольный краткими ответами Дмитрия на свои вопросы, начал все чаще вступать в самостоятельные контакты с местным населением. Многие афганские военные летчики, жившие по соседству, учились в Союзе и говорили по-русски. Остановив кого-нибудь из них во внеслужебное время, Валера брал собеседника за рукав или свисающий край чалмы и начинал свои бесконечные расспросы. После часа-двух такой беседы несчастный афганец уходил домой, стараясь больше никогда не попадаться на глаза любопытному советнику, сторожившему у виллы очередную жертву, прислонившись со сложенными на груди руками к дверному косяку.
Как-то, после содержательной беседы на солнцепеке, Валера ошарашил всех новостью – оказывается, в здании аэропорта есть бар, в котором, несмотря на сухой закон, иностранцам подают спиртное. Сборы были недолги. Бар действительно работал, но застеснявшиеся советники долго стояли у дверей, решая, стоит ли без санкции начальства посещать злачное место со стойкой и уютно расставленными по углам столиками. Но в баре было пусто, а новых впечатлений мало, и любопытство взяло верх над выпестованным партией и компетентными органами пролетарским сознанием, строго запрещавшим поддаваться где бы то ни было тлетворному влиянию западного образа жизни. Дмитрия вытолкнули вперед делать заказ. Из спиртного в наличии оказалось только американское пиво в банках. Воблы и любимых сосисок с тушеной капустой к пиву, естественно, не нашлось. Поэтому ограничились только пивом, которое долго с видом знатоков и ценителей смаковали, отпивая маленькими глоточками из стаканов. Цена его, однако, оказалась такой, что повторить заказ никто не осмелился.
По дороге домой решили, что американское пиво в банках – дрянь. «Жигулевское» гораздо лучше и стоит у нас копейки, так что наверстаем по возвращении. Да и вообще, ходить в бар, где нет ни музыки, ни женщин, – неинтересно. Поэтому первое посещение стало последним.
От скуки и тоскливых мыслей об оставленных в Союзе семьях советников отвлекала только работа. Иван Игнатьевич, когда-то выдвигавшийся по партийной линии, решил не замыкаться на своей военной специальности и провести с афганцами дополнительно полезное массовое мероприятие. Идею о полковом собрании или митинге в поддержку Апрельской революции не одобрил Владимир Иванович, а вот в отношении содержательной лекции о пролетарских писателях было дано «добро». Иван Игнатьевич, забрав к себе в комнату уже всеми изученный учебник родной литературы, засел за работу, и это весьма обеспокоило Дмитрия. Дело в том, что, хотя между ними на почве общей любви к стряпне сложились приятельские отношения, в вопросах перевода они редко находили общий язык. Все началось с того, что как-то Иван Игнатьевич спросил:
– А в языке дари есть мягкий знак?
– Нет, – ответил Дмитрий.
– А как же ты тогда слово «лошадь» переводишь? – озадачил Иван Игнатьевич.
Дмитрий сосредоточился и попытался как можно более внятно объяснить проявившему неожиданный интерес к филологии собеседнику, что мягкость или твердость при произнесении того или иного звука в языке дари определяется его местом в слове и окружением, а в слове «асп» – лошадь на дари – все согласные произносятся твердо. Иван Игнатьевич недоуменно покачал головой, хотя вроде бы и принял такие объяснения.
Дмитрий не придал этому случаю особого значения, но спустя всего несколько дней Иван Игнатьевич обнаружил непорядок в автопарке полка и, почему-то перейдя на украинский язык, строго спросил афганского унтер-офицера:
– Що це таке?
Дмитрий перевел.
– Нет, ты переведи не «что это такое», а «що це таке», – стал вдруг настаивать Иван Игнатьевич, будто бы уловивший в переводе на дари отсутствие украинского акцента.
Дмитрий сначала даже не понял, чего же от него требует советник, но повторно перевел вопрос начавшему беспокоиться унтеру.
– Нет, спроси его – що це таке? – продолжал громко настаивать недовольный переводом Иван Игнатьевич.
Бедный унтер, относя гнев советника на свой счет, начал лопотать оправдания, жалуясь на суровые условия службы, тяжелую жизнь, бедность и отсутствие жены, стараясь хоть как-то смягчить закипавшего Ивана Игнатьевича, продолжавшего с каждым разом все более громко повторять:
– Що це таке? Ты переведи ему, – що-о це-е та-а-ке?
В конце концов доведенный почти до слез унтер бросился сам устранять непорядок на виду у оторопевших подчиненных, а Дмитрий попытался объяснить Ивану Игнатьевичу, что, как ни старайся, невозможно передать на дари колорит украинской речи в русском обрамлении. И «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя поэтому читать нужно только в оригинале, так как в переводе они теряют главное – нежное очарование вкраплений малороссийских слов в русскую речь. Бесполезно.
Тревожные ожидания Дмитрия полностью подтвердились, когда за три дня до лекции он получил ее текст для перевода. Задуманный Иваном Игнатьевичем пламенный панегирик писателям и поэтам революции изобиловал знакомыми по школьной программе стихотворными строками. Начал любитель отечественной словесности с Горького и, принимая во внимание ситуацию в Афганистане, решил сразу же вдохновить слушателей на продолжение борьбы за светлое будущее «Песней о Буревестнике»:
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и – тучи слышат радость в смелом крике птицы…»
«Ну, это еще куда ни шло, – подумал Дмитрий, – но вот дальше, там где стонут чайки, и гагары тоже стонут, а „глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах“… Как все это объяснить сплошь неграмотным афганским солдатам, которые не только настоящего, но и в кино моря-то не видели, а таких птиц не то что не знают, даже названий никогда не слышали».
Дмитрий побежал к Ивану Игнатьевичу доказывать невозможность использования этого произведения для революционной агитации, так как все отведенное на лекцию время уйдет на ликбез – рассказ о холодных антарктических морях и их пернатых обитателях. Кроме того, нужно было раз и навсегда, во избежание будущих эксцессов, объяснить Ивану Игнатьевичу, что перевод литературных произведений – удел немногих первоклассных и весьма одаренных переводчиков, к которым Дмитрий, занятый рутинной работой, не относится.
Разговор состоялся. Долгий и тяжелый. Иван Игнатьевич, пойдя на некоторые уступки, наотрез отказался убирать из текста «Песню о Буревестнике».
– Чего здесь сложного, – настаивал он, – даже рифмы нет. Просто замени слова. Наши рабочие до революции тоже были не шибко грамотные, а все понимали. И эти поймут.
Что касается Маяковского, то «Стихи о советском паспорте» Иван Игнатьевич все же вычеркнул, вняв уверениям Дмитрия, что такие словосочетания, как «в тугой полицейской слоновости» и неологизмы «молоткастый» и «серпастый», не поддаются адекватному переводу. Но после долгих препирательств решительно оставил начальные строки «Левого марша», кратко и емко характеризующие, по его мнению, задачи военных в послереволюционный период:
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ «маузер».
Дмитрий понял, что других уступок от патриота Ивана Игнатьевича ждать нечего, и попытался перевести на дари оставшиеся в лекции литературные примеры. Но ту белиберду, которая получалась, никак нельзя было читать публично без подробных предварительных комментариев. И Дмитрий решился. Когда на следующий день заезжали к хазарейцу за свежим хлебом, он заглянул к нему в библиотеку и взял несколько томиков персидских поэтов, здраво рассудив, что чтимые и персами, и таджиками, и афганцами классики помогут ему выбраться с честью из сложной ситуации, не уронив достоинства Ивана Игнатьевича.
Весь вечер ушел на поиск необходимых произведений, похожих по объему или поэтическому строю на литературные примеры из лекции.
Утром, наглаженный, в начищенных по случаю мероприятия до стального блеска ботинках, Иван Игнатьевич с некоторой тревогой спросил Дмитрия: «Готов?»
Дмитрий утвердительно кивнул. Не было причины для беспокойства. Иван Игнатьевич не понимает дари, а аудитория – соответственно, русский.
Для лекции солдат усадили на землю в теньке, у арыка. Офицерам поставили стулья, лектору и переводчику – стол, на котором справа и слева от непременного графина с водой были придавлены камушками, чтобы не унесло ветром, оригинал и перевод творческого порыва Ивана Игнатьевича. С кратким вступительным словом, растянувшимся на пятнадцать минут славословий в адрес великого северного соседа – преданного друга и соратника борющегося афганского народа, выступил командир полка. Подошла очередь Ивана Игнатьевича. Застегнув верхнюю пуговицу армейской рубашки, он поднялся со стула и начал с пафосом, проявляя недюжинное ораторское мастерство, читать заранее приготовленный текст. Дмитрий сразу же попытался подстроиться под характер речи лектора, повторяя временами не только его интонации, но и жесты.
«Главное – поймать тон и ритм, – думал Дмитрий, – особенно тогда, когда начнутся примеры».
Добравшись до Горького, Иван Игнатьевич обрисовал его вклад в дело революционного воспитания обездоленных масс, а Дмитрий в отведенную ему для перевода паузу вставил маленькую отсебятину о том, что и у восточных народов есть свои классики-бунтари и классики-гуманисты. И когда лектор перешел к чтению с особым выражением любимого произведения о буревестнике, который с криком реет, черной молнии подобный, Дмитрий с тем же выражением начал читать написанный в форме «садж» – прозой с включением рифмованных кусков – небольшой рассказ из «Гулистана» Саади.
В финале «Песни…» Иван Игнатьевич, перейдя на крик и подчеркивая восклицательную интонацию приседанием и отмашкой свободной от листов лекции руки, заключил:
Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
Пусть сильнее грянет буря!
На что Дмитрий эхом отозвался на персидском строками великого Саади:
Дождавшись, когда стихнут аплодисменты, вдохновленный Иван Игнатьевич с еще большим жаром продолжил выступление. И дальше аудитория принимала лекцию и ее автора столь же восторженно и эмоционально. Длительные, переходящие в овацию аплодисменты сорвал отрывок из «Левого марша», который Дмитрий «перевел» строками поэта-бунтаря Омара Хайяма, нашедшими живой отклик у афганских солдат – выходцев из самых низов общества:
Когда же мероприятие закончилось, растроганный командир полка за традиционным чаем в своем шалаше долго благодарил немного смущавшегося, но чувствовавшего себя именинником Ивана Игнатьевича, тряс ему руку и удивлялся, обращаясь к Дмитрию, как это простой советский военный знает блестяще не только родную литературу, но и чтимых на персоязычном Востоке поэтов.
Недавно назначенный в полк по советскому примеру замполит тут же попросил переводчика провентилировать с неожиданно ставшим популярным советником вопрос еще об одной лекции, но бдительный Дмитрий сразу же осек молодого, но прыткого партийца, сказав, что такие вопросы с кондачка не решаются. Нужно, чтобы сам автор созрел для новой творческой работы, а раньше месяца-двух и заикаться об этом не стоит.
По дороге домой, в машине, счастливый Иван Игнатьевич спросил Дмитрия:
– Ведь смог же?
– Смог, – согласился Дмитрий, бросив осторожный взгляд на прячущего улыбку в пшеничные усы Владимира Ивановича.
Тот, внимательно слушавший лекцию, конечно же, догадался, на какую уловку был вынужден пойти Дмитрий. Но насколько близка и какой страшной будет буря, к которой призывал любимый крылатый персонаж Ивана Игнатьевича, не догадывался пока еще никто.
V
Между тем гражданская война в Афганистане как бы исподволь незаметно начинала расползаться по стране, скатываясь сверху вниз от узкого круга интеллектуально-политической элиты к средним образованным слоям, вовлекая их, а потом и все остальное население в беспощадную кровавую бойню. Еще вялая, разрозненная открытая вооруженная борьба между сторонниками и противниками левого режима от приграничных сельских районов, постепенно разгораясь, перемещалась к городам, охватывала их дальние подступы, пока еще оставляя возможность использовать основные автомагистрали между центрами провинций, но угрожая вскоре перерезать и их и превратить оплоты новой власти в осажденные крепости…
В полку начали пропадать офицеры. Кто-то дезертировал и уходил к мятежникам, следуя своим убеждениям, кто-то, опасаясь репрессий из-за родственных связей с известными противниками режима или принадлежности к богатым кланам и семьям, бежал за границу. Командир полка, происходивший из семьи небогатых, но феодалов, мрачнел с каждым днем.
Неожиданно пропал прыткий замполит. Назначенный на его место такой же молодой лейтенант на вопрос Дмитрия о судьбе его предшественника ответил, что тот направлен послом в Пакистан. Когда же еще один партиец «уехал послом в Пакистан», Дмитрий прямо спросил нового замполита, что все это значит. Двадцатилетний революционер объяснил, что так они говорят о тех, кто был накануне арестован, заключен в тюрьму или расстрелян. И прежний замполит, и второй «посол в Пакистане» принадлежали, оказывается, к неправильной партийной фракции.
Владимир Иванович, внимательно следивший за ситуацией в стране, получая информацию в основном от Дмитрия, переводившего ему сообщения местных газет и радио, решил проверить, сообразуясь с обстановкой, боеготовность полка и вывести на учение хотя бы один батальон. Для рекогносцировки на местности выехали в сопровождении взвода солдат на юг, в направлении пустыни Регистан. Командир полка, с удовольствием бравшийся за любую работу, отвлекавшую его от мрачных предчувствий, тщательно спланировал поездку, подготовил и людей, и технику, и карты, и даже добыл где-то арбузы для того, чтобы легче было утолять жажду во время поездки по жаркой пустыне. По дороге командир спросил Владимира Ивановича, как тот оценивает афганских солдат.
– Хорошие солдаты, – сказал Владимир Иванович. – Стойкие, неприхотливые, исполнительные. Вот недавно наблюдал, как проводили учение по охране и обороне аэродрома, так солдаты, оборудовав позиции и сложив из камней огневые точки, пролежали в них несколько часов на страшной жаре, дожидаясь команды «Отбой!». Наши бы давно разбрелись в поисках воды или, хуже того, водки.
– Хорошие солдаты, – почему-то грустно подтвердил командир. – Плохо только, что неграмотные все. Да кормить бы их получше и обмундирование новое получить.
Переводивший разговор Дмитрий был полностью согласен и с Владимиром Ивановичем, и с командиром. Действительно, афганские солдаты неприхотливы и исполнительны. Но таких голодных, оборванных и грязных, как в Кандагаре, он нигде не встречал. Выгоревшая за долгие годы носки латаная-перелатаная форменная одежда буквально светилась на них. В ней даже в город не пускали. Берегли. А в увольнение отправляли только тех, кто имел «гражданку». Единственным достоинством такой формы было то, что залегший на позициях солдат в грязно-серой одежде полностью сливался с такого же цвета землей и становился совершенно незаметным, если только сквозь дыры и ветхие нити заплат не проглядывало светлое нижнее белье.
Поднимая клубы пыли, добрались по грунтовой дороге до планируемого места развертывания батальона в боевые порядки. Выбрались из машины, солдатам дали команду оправиться и укрыться в тени грузовиков. Этот район пустыни, несмотря на название Регистан, что означает страна песка, представлял собой чуть всхолмленную каменную равнину. Преобладал серый цвет. Ни одного зеленого пятнышка, ни деревца, ни травинки, даже верблюжьей колючки Дмитрию не удалось обнаружить.
Неожиданно прямо из-под земли появился оборванный бородатый мужичонка в чалме. Увалы, около которых остановились машины, оказались не естественного происхождения, а занесенными пылью глинобитными крышами вырубленных в грунте домов неизвестно какими судьбами заброшенной в пустыню деревни. Афганец, осмотревшись, верно определил начальника и подошел здороваться к командиру полка. После приветствий, сопровождавшихся поклонами, прикладыванием руки к сердцу, и короткого разговора на пушту он вновь нырнул в почти незаметную со стороны нору – вход в дом – и появился уже с кувшином воды, из которого командир вежливо сделал несколько глотков, прежде чем передать его другим офицерам.
Владимир Иванович вместе с командиром сверились с картой, уточнили рубеж развертывания и рубеж атаки расположенного в полутора километрах холмика с укреплениями условного противника, который по плану учения нужно было окружить и взять. Разобравшись с деталями учения, решили перед обратной дорогой перекусить арбузами и лепешками. Пригласили местного жителя. Тот долго отказывался, но, когда согласился и начал жадно есть, отламывая правой рукой большие куски лаваша и вгрызаясь по уши, до корки в красную плоть арбуза, стало ясно, что пуштун действительно голоден и в лучшем случае позавтракал сегодня только чаем.
На обратном пути Дмитрий, не владевший пушту, спросил командира, о чем тот беседовал с сельским жителем. Командир, в свою очередь, уточнил, знает ли Дмитрий о том, что афганцы считают себя самым гостеприимным народом в мире. Переводчик утвердительно кивнул.
– Так вот, – продолжил командир, – согласно нашим обычаям все мы были гостями деревни, в которой единственным мужчиной во время нашего короткого пребывания оказался этот бедный афганец. Он сказал после приветствий, что заколет козу и приготовит мясо и рис, чтобы угостить нас. Мне пришлось отказать ему в удовольствии достойно принять гостей, как принято у пуштунов. Кроме этой козы, у него больше ничего нет. Но, чтобы он сохранил репутацию гостеприимного человека, настоящего пуштуна, для которого честь и национальное достоинство превыше всего, я попросил его принести воды, хотя и воды, и арбузов у нас, сам видел, в избытке.
«Первое впечатление не обмануло, – подумал Дмитрий. – Командир не добренький напоказ, а по-настоящему добрый человек. Это не с трибуны кликушествовать, плача о тяжелой судьбе своего бедного народа, как уже привыкли не без нашей подсказки делать самозваные защитники обездоленных, а вот так просто и деликатно не дать бедняку, не уронив при этом его достоинства, остаться без козы, риса, молока для детей и дров, которые в Афганистане продаются на вес, и стоят они порой не меньше того же риса. Да и не всякий афганец сумеет отказаться от предложенного ему мяса. Ведь даже поговорка у них есть: „Лучше пережаренное мясо, чем самые хорошие бобы“».
Дмитрию было жалко старого командира. Он понимал, что вскоре его заменят на доказавшего преданность партии «молодого борца», а доброго полковника в лучшем случае просто снимут, в худшем – отправят «послом в Пакистан». Но об этом и думать не хотелось.
Командир нравился Дмитрию, и, похоже, их симпатии были взаимными. Так получилось, что отец Дмитрия, тоже переводчик, двадцать лет назад начинал военное сотрудничество с Афганистаном. Тогда гнали первые советские танки через Кушку на Герат, Кандагар и Кабул, потом формировали новые танковые бригады и переформировывали старые пехотные полки по советскому образцу. Так вот, командир знал и помнил и отца, и Дмитрия, в те годы еще маленького мальчика, приехавшего с матерью к отцу в Кабул и оставшегося там на целых пять лет. Это они выяснили, беседуя как-то за чаем в командирской хар-хане, что еще более укрепило их добрые отношения, которые не смог испортить даже глупый случай, произошедший через несколько дней после той беседы.
В домике, в котором советники проводили большую часть своего рабочего времени, не было канализации. От жары спасались чаем – черным или зеленым, по вкусу, подававшимся благодаря стараниям вестового каждый час. Поэтому приходилось довольно часто посещать окрестные кусты, в которых советников временами пугало шуршание змей. Чашу терпения переполнил случай, когда Иван Игнатьевич, подавшийся назад от неожиданно появившейся из травы кобры, запутался в приспущенных штанах, упал и поцарапал лицо и лысину. Владимир Иванович был вынужден поставить перед командиром полка вопрос об оборудовании туалета.
Туалет в полевых условиях афганские военные устраивали просто. Натягивали на длинный шест похожую на индейский вигвам островерхую палатку, в центре у которой и рыли ямку в земле. Владимир Иванович, уже познакомившийся с подобными заведениями, предложил натянуть палатку для советников невдалеке от мушаверни. Дмитрий, переводя просьбу командиру, перепутал два похоже звучащих на дари слова: «хайма» – палатка, и «хайа» – парный элемент мужского достоинства. Что он предложил натянуть командиру – нетрудно догадаться. Командир и присутствовавший при разговоре начальник штаба полка остолбенели от такой пошлой наглости то ли советника, то ли его переводчика. Тяжелая челюсть полковника отвисла, толстые губы задрожали от обиды. Владимир Иванович, сразу почувствовавший возникшую неловкость, нервно ткнул Дмитрия локтем и тихо спросил:
– Что ты ему сказал?
Дмитрий, как пленку в магнитофоне, провернул назад разговор и мысленно ахнул. Уж чего-чего, а так обидеть командира, да еще публично, он не хотел. Пришлось срочно оправдываться, ссылаться на жару, усталость и все еще плохое знание языка. Командир понял, что злого умысла в прозвучавшем предложении не было, и сам попросил Дмитрия перевести Владимиру Ивановичу злополучную фразу на русский, чтобы вместе посмеяться над курьезом.