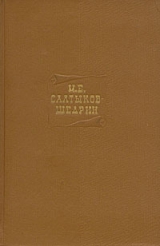
Текст книги "Том 2. Губернские очерки"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
– Что ж робенок? – отвечала Кузьмовна совершенно равнодушно, – робенок мертвенький родился: тут его и схоронили – это точно.
– Да, как придушить человека, оно точно что мертвенький будет.
Мавра Кузьмовна позеленела; она никак не рассчитывала ни на вмешательство Половникова, ни на то, что разговор примет столь неприятный для нее оборот.
– Ваше благородие! – сказала она, вставая со стула и вся дрожа от злости, – прикажите этому псу молчать!
Но Половников разгорячился и с своей стороны встал со стула и начал наступать на нее.
– Нет, ты зачем же его благородие обманываешь? нет, ты скажи, как ты Варьку-то тиранила, как ты в послушанье-то ее приводила! ты вот что расскажи, а не то, какие у вас там благочиния в скитах были! эти благочиния-то нам вот как известны! а как ты била-то Варьку, как вы, скитницы смиренные, младенцев выдавливаете, как в городе распутство заводите, как вы с Александрой-то в ту пору купеческого сына помешанным сделали – вот что ты расскажи!
– Тетонька! пожалуйте-ка сюда! – раздался в это самое время из передней голос племянницы, с которою я познакомился еще вчера утром.
– Можно, ваше благородие? – спросила Кузьмовна голосом, в котором слышалось сильное волнение.
Я отпустил ее и между тем поспешно отворил дверь в соседнюю комнату, из которой вышла другая женщина, высокая, бледная, но очень еще красивая. Я поставил ее в угол комнаты, так чтобы Кузьмовна не могла ее с первого раза заметить. В то же самое время я перенес с окна чернильницу и все нужные по делу бумаги.
VI
– Не можно ли мне домой отлучиться, ваше благородие? – сказала Кузьмовна, входя в комнату.
Она была сильно взволнована и тряслась всем телом.
– Разве что-нибудь случилось? – спросил я.
– Да что случиться-то! вот девка сказывает, что Иван Демьяныч в дому шарит – только чудо, право!.. Отпустите, сударь, по крайности хошь бы посмотрела, как гнездо-то мое разоряют.
– Нет, Кузьмовна, теперь домой не время идти: ты отвечать должна.
– В чем же я отвечать буду? Я, сударь, тебе наперед говорю, что ничего не знаю.
– Посмотрим; как тебя зовут?
– А как зовут – Маврой зовут.
Я сделал здесь обычные вопросы, которыми начинается всякий допрос.
– Знаешь ли ты Варвару Михайлову Тебенькову, она же скитница Варсонофия?
– Да ты как же, сударь, это спрашиваешь: просто, что ли, или записать хочешь?
– Ты видишь, что я первый твой ответ (об имени и т. д.) записал: стало быть, это не разговор, а следствие.
– Так, сударь… Не припомню, сударь, чтой-то я, никакой Варвары Михайловой не припомню.
И она делала вид, как будто старалась припомнить.
– Может быть, Варсонофию припомнишь?
Она снова задумалась.
– Ну, и Варсонофии никакой не припомню; может быть, и была у нас Варсонофия, да уж, право, не знаю, про какую ты спрашиваешь… Была у нас Варсонофия кривая, была Варсонофия горбуша, а Тебеньковой Варсонофии что-то и не бывало.
– А Тебенькова Михаила Трофимыча, московского купца, знаешь?
– Н… не знаю… какой же это такой Трофим Тебеньков? что-то и не слыхала я про такого…
– Не Трофим, а Михайло Трофимов Тебеньков… знаешь ты его или нет?
– Нет, сударь, не знаю я Тебенькова…
– А грамоте умеешь?
– Какая, сударь, у нас грамота? печать церковную читать коё-как еще могу… да и то ноне глазами ослабла. Намеднись вот Петр Васильевич канунчик прочитать просил, так и то, сударь, не могла: даже Дарья Семеновна, хозяйка ихняя, удивилась – вот, сударь, какова наша грамота… Это хошь у кого хотите спросите.
– А писать не умеешь?
– Не умею, сударь, не стану лгать; не умею: даже молода была, никогда писать не могла.
– Слушай.
По молитве
Ангельского жития подражательнице, горнего Иерусалима ревнительнице, добродетелей небесных поборнице, девственныя чистоты охранительнице, матушке и. Магдалине, аз, грешный раб ваш Михаил, земно кланяюсь, здравия и всякого благополучия желаю; как вы там, матушка, в своей честной обители, благополучно ли проживаете?.. А что вы, матушка, насчет Варвары пишете, так вы на ее злонравное прекословие не глядите, а стригите ее как вам пожелается. Я свои капиталы распорядил; богатство наше, матушка, тленное, надо тоже и о душе подумать, чтоб было с чем пред создателя предстать. Нынче же мы большое для християнства дело затеваем, однако дока́ * ничего об нем не пишу, потому что и известного ничего еще нет. Так вы бы на нее, матушка, не смотрели, а внушали бы ей, что на родителей надеяться нечего, потому как сама себя соблюсти не умела, стало быть, и надеяться не на кого. И еще вы пишете, что и за косу ее привязывали и другими средствиями началили, и все якобы проку от этого нет… Так вы бы ее еще, матушка, маленько, яко мать, повымучили, а буде, какова пора ни мера, и за тем противничать станет, в холоднем бы чулане заперли, доколе не восчувствуется, или и иную меру одумали. А мне с Варварой деваться некуда, по той причине, что я и в сердце своем положил остальное время живота своего посвятить богоугодным делам. Даже и об том помышляю, чтобы, на старости лет, совсем от мирския прелести удалиться, и сказывали мне, будто для того в закамской стороне и места удобные обретаются, и живут в них старцы великие постники и подражатели; так вы бы, матушка, от странников, в ваши места приходящих, об том узнавали, где тех великих старцев сыскать, и мне бы потом отписали. А у нас на Москве горше прежнего; старец некий из далеких стран сюда приходил и сказывал: видели в египетской стране звезду необычную – красна яко кровь и хвост велик. И тамошний египетский салтан с звездочеты зело таковому чуду дивляхуся… Уж и подлинно, матушка, не быть ли вскорости второму пришествию! увы нам, беззаконным! Матушкам: Манефе, Евфалии, Уалентине нижайше кланяюсь: напрасно вы, матушки, себя беспокоите, гостинцы нам высылать; помолитесь за нас, грешных, а мы вам завсегда, по силе-помощи, всем служить рады.
Раб ваш смиренный
Михаил Тебеньков.
– К тебе это писано?
– Какое же это письмо? Чтой-то будто я ни от кого таких писем не получивала!
– Да ты говори прямо: к тебе или не к тебе это письмо писано?
– А кто ж его, сударь, знает: ведь писать никому не запрещается – может, кому и вздумалось написать, только я ничего этого не получивала, и об чем там сказано, не знаю…
– Так и записать прикажешь?
– Так, батюшка, и запиши. Это точно что не знаю, не стану на себя лгать. Да и обычая у нас такого не бывало, чтоб переписываться: мы, батюшка, старухи старые, слепенькие, нам впору божественные книжки читать, а не то чтоб переписываться.
– Ну, слушай же еще.
По молитве
Доброжелателю нашему, добродетелями яко смарагд изукрашенному, батюшка Михайло Трофимыч, аз, смиренная и. Магдалина, со всеми нашими матушками нижайше кланяюсь, спаси вас бог, а паче всего приумножь нетленные богатства души вашей… А что вы нам про девицу Варвару пишете, так об ней много беспокоиться не извольте: уж она не Варвара, а и. Варсонофия, смирилась и стричь себя допустила. Много было у нас с ней в этом разговору; все прежняя прелестная жизнь смущала, да я, положившись на ваше родительское благословение, стала ее усиленно к богоугодному делу нудить, а если бы не то, так и в жизнь бы, кажется, не дозволила: такого твердого нраву девица. Насчет того дела, про которое вы секретно пишете, и у нас прошли было слухи, и мы очень этому возрадовались, а сестры-старухи даже прослезились все, что древнее благочестие не токмо не изведется, но паче солнца воссиять должно. Спаси вас господи за ваши труды, почтеннейший муж Михайло Трофимыч; мы, что можем, с своей стороны на общую пользу готовы, только сами знаете, старухи сироты что в таком великом деле могут, кроме молитв? А когда вы, батюшка, одумаете от прелести мирской уклониться, так прежде не худо бы вам в нашем скиту погостить, около дочки вашей; наши старушки за вами походили бы и вашу старость бы упокоили. Все они нижайше вам, нашему благодетелю, кланяются и все, благодаря бога, благополучны, только престарелая мать Палинария неделю тому назад преставилась, так многие старушки сильно об ней растужились. Посылаем вам, батюшка, нашей работы ложечек: примите, и нас, сирых скитниц, не оставьте. Доброжелательница ваша
и. Магдалина.
– Ты писала это письмо?
– Нет, батюшка, какое такое письмо, я и не знаю… верно, какой-нибудь ворог на меня эту напраслину взводит, а я, сударь, вот что тебе скажу, что я и писать-то не учена… да уж нельзя ли, ваше благородие, до завтрева спросы-то покинуть: больно мне что-то неможется, а завтра, может, и припомню что.
– Так ты решительно утверждаешь, что никакой Варсонофии или Варвары Тебеньковой не знаешь?
– Не знаю, батюшка, не знаю.
– Вспомни, однако ж, что не далее как за полчаса перед этим ты сама подробно рассказала всю историю своих отношений к Тебенькову и созналась, что Варвара точно жила у тебя в обители.
– Не знаю, сударь, может, с испугу и точно я что солгала, а теперь даже просто, что и говорила-то, позабыла… вот я тебе как, сударь, скажу…
– Господин ратман, вы можете засвидетельствовать, что Кузьмовна созналась в том, что она знает Тебенькову?
– Да помилуй, сударь, разве ты судом меня спрашивал? ведь тот разговор у нас по душе был.
– Здравствуйте, матушка Мавра Кузьмовна! – сказала в это самое время Варвара Тебенькова, подошедшая, по знаку моему, к допрашиваемой.
Если бы в эту минуту слетел огонь с неба, то и он не поразил бы Мавры Кузьмовны в такой степени, как слабый и тихий голос Тебеньковой. Кузьмовна растерялась и как будто совсем ослабла; первым ее движением было перекреститься, вторым – опуститься на стоявший вблизи стул. Казалось, впечатление было полное, подавляющее; Кузьмовна задыхалась, стонала и беспрестанно крестилась. Я ожидал, что вот-вот вырвется у нее признание. Однако, минуты через две, она немного успокоилась, встала и не только не созналась, но продолжала запираться еще с бо́льшим ожесточением.
– Извините, ваше благородие, – сказала она голосом еще неуспокоившимся, – очень уж я испужалась… словно из земли незнакомый человек вырос… Да кто ж ты такая, голубушка, что я словно не припомню тебя? – продолжала она, обращаясь к Тебеньковой.
– Чтой-то, матушка, будто уж смиренной Варсонофии не припомните? чай, не день и не два с вами жили.
– Какая же ты, голубушка, Варсонофия? была у нас горбуша Варсонофия, так неужто ты та самая и есть?
– Вишь, как пришло ей узлом, вишь, какую чушь городить начала! Память, что ли, у те отшибло, старая, что Варвару не узнаешь? – сказал Половников.
– Куда, чай, узнать? – отозвалась Варвара с горечью, – мы люди темные, подначальные, поколь в глазах, дотоль нас и знают… А вспомните, может, матушка, как вы меня в холодном чулане без пищи держивали, за косы таскивали… али вам не в диковину такие-то дела, али много за вами этого водилось, что и на памяти ничего не удержалось?..
– Повтори свое показание, – сказал я.
VII
– Осталась я после мамыньки по восьмому годку; родитель наш не больно чтобы меня очень любил, а так даже можно сказать, что с самых детских лет, кроме бранных слов, ласки от них я не видывала. Должно полагать, что на мамыньку они неудовольствие питали, потому что и меня часто ею попрекали, что будто бы я как не ихняя дочь, а какого-то приказного. По этой самой причине родитель наш меня с собой и не держал, а соблюдал больше на кухне с рабочими людьми. Родитель наш человек суровый, словно как даже без души совсем…
– Вот как нынче об родителях-то говорят, – отозвалась Кузьмовна, язвительно улыбаясь.
– Конечно, ихние добродетели вам больше известны, матушка, потому как ихнее к вам большое пристрастие было, особливо насчет Манефы Ивановны…
– Еще и Манефу Ивановну какую-то приплела… ну, плети, плети свои сплётки, голубушка.
– В дево́чках я точно что больно шустра была, ваше благородие. Известно, без призору, как крапива у забора росла, так и норовишь, бывало, озорство какое ни на есть сделать. Добру учить было некому, а и начнет, бывало, родитель учить, так все больше со злом: за волосы притаскает либо так прибьет, а не то так и прищемить норовит… как еще жива осталась… Вот матушка Мавра Кузьмовна сказывала вам, будто родитель наш плакался, как меня в скиты привез, так это они напрасно сказали. Родитель наш такое сердце в себе имеют, что даже что такое есть слезы не знают… А если и в са́м-деле плакали, так это потому, что по обычаям в таком деле слезы следуют, а без слез люди осудят. Была у нас суседка, старуха старая, так она только одна и жалела меня, даже до господина надзирателя доходила с жалобой, как родитель со мной обходится, только господин надзиратель у родителя закусил и сказал, что начальство в эти дела не входит. Так старуха-то, бывало, только дивится, как это я жива состою: вот какое житье было…
Тебенькова закручинилась и утирала концом платка, которым повязана была ее голова, катившиеся из глаз слезы. Кузьмовна, напротив, стояла совершенно бесстрастно, сложивши руки и изредка улыбаясь.
– Конечно, сударь, может, мамынька и провинилась перед родителем, – продолжала Тебенькова, всхлипывая, – так я в этом виноватою не состою, и коли им было так тошно на меня смотреть, так почему ж они меня к дяденьке Павлу Иванычу не отдали, а беспременно захотели в своем доме тиранить? А дяденька сколько раз их об этом просили, как брат, почитая память покойной ихней сестры, однако родитель не согласились ихней просьбы уважить, потому что именно хотели они меня своею рукой загубить, да и дяденьке Павлу Иванычу прямо так и сказали, что, мол, я ее из своих рук до смерти доведу…
Половников вздохнул.
– Вот они каковы все, – сказал он, – по наряду, где написано плакать, во всякое время плакать готовы, а християнскую душу загубить ничего не значит.
– Что делать! каковы уродились, таковы и есть, не посетуй, родимый! – заметила иронически Кузьмовна, – у тебя бы поучиться, да ты, вишь, только ложечки ковырять умеешь, а немца наймовать силы нетутка.
– Жила я таким родом до шестнадцати годков. Родитель наш и прежде каждый год с ярмонки в скиты езживал, так у него завсегда с матерями дружба велась. Только по один год приезжает он из скитов уж не один, а с Манефой Ивановной – она будто заместо экономки к нам в дом взята была. Какая она уж экономка была, этого я доложить вашему благородию не умею…
– Будто уж и не умеешь? – прервала Кузьмовна.
– А ты почему знаешь, что умеет? – спросил я.
– Да ведь и по виду, сударь, различить можно, что девка гулящая, – сказала она.
– Только стало мне жить при ней полегче. Начала она меня в скиты сговаривать; ну, я поначалу-то было в охотку соглашалась, да потом и другие тоже тут люди нашлись: «Полно, говорят, дура, тебя хотят от наследства оттереть, а ты и рот разинула». Ну, я и уперлась. Родитель было прогневался, стал обзывать непристойно, убить посулил, однако Манефа Ивановна их усовестили. Оне у себя в голове тоже свой расчет держали. Ходил в это время мимо нашего дому…
Тебенькова потупилась и покраснела. Несколько секунд стояла она таким образом, не говоря ни слова, но потом оправилась и продолжала свой рассказ тем мягко-застенчивым голосом, в котором слышались слезы молодой и не испорченной еще души.
– Ходил в это время мимо нашего дому молодой барин. Жили мы в ту пору на Никольской, в проулке, ну, и ходил он мимо нас в свое присутствие кажной день… Да это нужно ли, ваше благородие?
– Ничего, продолжай.
– Только больно уж полюбился мне этот барин. Девчонка я была молодая, не балованная, а он из себя казал такой смирный да тихонький. Идет, бывало, мимо самых окошек, а сам в землю глядит, даже на окошко-то глаза поднять не смеет. Одет, бывало, чистенько, из лица бледный, глазки большенькие, и все песенку про себя мурлычет. Поначалу хаживал он только утром, в присутствие и назад, а потом начал и вечером учащать. И столько я любила смотреть, как он, бывало, идет по улице, что даже издальки завидишь, так словно в груде у тебя похолодеет.
Тебенькова задумалась, несколько минут крепилась и потом вдруг горько и сосредоточенно зарыдала.
– Ничего, матушка, бог даст, соединитесь с своим предметом, – заметил, в виде утешения, Половников.
– Только раз, сижу я это вечером под окошком, и вижу, что идет мой барин милый. Поравнялся он с моим окошечком, да и стал тутотка; говорить ничего не говорит, а словно замешался… Я тоже сижу, будто в пяльцах работаю, а сама даже ничего не вижу, только дрожу вся. Вот он постоял-постоял и пошел, однако, своею дорогой, не сказавши слова. А мне и невдомек, что в этой же горнице Манефа Ивановна сидели, и все за нами выслеживали; только тогда и догадалась, как оне заговорили со мной. «А что, говорит, Варвара Михайловна, или вам господин приказный по ндраву пришел?» Только я испужалась, даже дыханье у меня захватило. «Нет, говорю, никакого приказного я не знаю». – «Ну, полноте же, моя голубушка, от меня скрываться вам нечего; я, говорит, давно за вами примечаю, и хотя в иночестве нахожусь, однако слабость человеческую понимать могу; так вы, говорит, лучше во всем мне откройтесь – может, заодно как-нибудь и устроимся». Ну, я тоже на это ей говорю: «Коли вы уж так, говорю,
Манефа Ивановна, так я перед вами скрыться не могу: давно уж я в Митрия Филипыча очень влюблена». Ну, и точно-с, на другой это день, родителя нашего дома не было, идет Митрий Филипыч мимо, а Манефа Ивановна в окошко глядит. «Позвольте, говорит, вас просить, господин приказный, не угодно ли побеседовать». Он и вошел; натурально, угощенье тут подали. «Верно, – говорит Манефа-то Ивановна, – вам наши горницы полюбились, что очень часто мимо нас ходите». Ну, он точно сознался, что влюблен. «А коли так, – опять говорит Манефа Ивановна, – я вам препятствия делать не стану». И оставила нас вдвоем. Только что́ у нас тут с ним было, до подлинно сказать вашему благородию не могу, потому как я даже рассудка своего ровно как лишилась. Больно уж он меня любил; стал это меня обнимать да целовать: «Варенька, говорит, жизнь вы моя, очень я по вас сокрушаюсь». А сам это, знаете, все ласкается да целует. Однако я поначалу виду не подавала: «Мужчины, говорю, все обманщики, и вы тоже обманете». Ну, и все такое…
– Да хошь бы ты покороче, что ли, рассказывала, – прервала Мавра Кузьмовна с худо скрытою досадой.
– Прикажете, что ли? – спросила меня Тебенькова.
– Разумеется, продолжай.
– Таким родом пробыли мы с полгода места, и хоша и был у нас разговор, чтобы наше дело законным порядком покончить, однако Манефа Ивановна отговорила родителя этим беспокоить, а присоветовала до времени обождать. Только в полгода времени можно много и хорошего, и худого дела сделать; стало быть, выходит, что я не сильна была свою женскую слабость произойти и…
Тебенькова опять вспыхнула и потупилась.
– Что ж, чай, тоже забеременела, скитница?! – заметила Кузьмовна, – такое хорошее дело и не в месяц сделать можно!
– Ваше благородие! прикажите мне одной говорить, – сказала Тебенькова.
– Замолчи, Кузьмовна, твоя речь впереди.
– Вот как этакое-то дело со мной сделалось, и стали мы приступать к Манефе Ивановне, чтоб перед родителем открыться. «А что, говорит, разве уж к концу дело пришло?» И заместо того чтоб перед родителем меня заступить и осторожненько ему рассказать, что вот господин хороший и поправить свой грех желает, она все, сударь, против стыда и совести сделала. Сама меня, можно сказать, в грех ввела, да и сама же с руками родителю и выдала. Стал он допрашивать меня, что и как, и столько я, сударь, в то время побоев и ругательства приняла, что, кажется, не помни я завсегда, что християнская во мне душа есть, так именно смертию умереть следовало. Порешили они на том, чтоб в скиты меня на всю жизнь погребсти. Ну, наше дело детское: что над нами родители захотят сделать, то и сделают, потому как мы и слов против них не имеем. Меня хошь за вину в скиты сослали, а то вот у Мавры Кузьмовны в обители купеческая дочь Арина Яковлевна жила, так та просто молодой мачихе не по нраву пришлась, ну и свезли в скиты. Вот тоже и Филат Финагеич вашему благородию истинную правду про купеческого сына рассказывал, которого родители малоумным захотели сделать; нашей власти тут нет, чего старики захотят, то мы и исполнять должны.
– Какую-то там еще Арину Яковлевну приплела – только чудо, право! – заметила Мавра Кузьмовна, улыбаясь и покачивая головой.
– Видно, старые грехи гвоздем выходят, Мавра Кузьмовна; откуда слез ни брать, а, стало быть, плакать приходится, – сказал Половников.
– В скитах чего уж со мной не делали! вот эта самая Мавра Кузьмовна надо мною тешилась: и в холодний-то чулан запирала, и голодом морила, и на цепь саживала. Думаю я так, что оне с Манефой Ивановной извести меня захотели, чтоб я, значит, померла, и им после того родительский капитал весь получить. Только, видно, бог не попустил до этого; хошь и больно я от ихних побоев захворала, однако разрешилась благополучно младенцем…
– Куда ж младенца-то девали?
– А сказывали, что на деревню к мужичку в сыновья отдали, да после будто бы помер, – отвечала Тебенькова, но потом, обратившись к Кузьмовне, как будто внезапная мысль озарила ее голову, прибавила: – Нет, ты скажи, куда ты Мишутку-то девала?
Кузьмовна все так же улыбалась, а изредка даже пожимала плечами.
– Нет, ты скажи, однако, – приставала к ней Тебенькова, – ведь ты, может, его в помойную яму выкинула – у вас в обители на это мода была…
– Отвечай же, Кузьмовна, – сказал я.
– Да что же я, сударь, скажу, когда уж я показала раз, что и ее-то совсем не знаю… об каком она Мишутке еще спрашивает? право, чудо!
– Ну, слушай же.
«18** года, марта… дня, нижеименованные лица, быв спрошены, по расколу и прикосновенности, без присяги, показали:
1) Михаилом зовут меня, сыном Трофимовым, по прозванию Тебеньков, от роду имею лет, должно полагать, шестьдесят, а доподлинно сказать не умею; веры настоящей, самой истинной, «старой»; у исповеди и св. причастия был лет восемь тому назад, а в каком селе и у какого священника, не упомню, потому как приехали мы в то село ночью, и ночью же из него выехали; помню только, что село большое, и указал нам туда дорогу какой-то мужичок деревенский; он же и про священника сказывал. Под судом бывал ли, не знаю, а по следствиям тоже волочили, без этого не бывает; об штрафах тоже сказать не умею; разве что в консисторию гоняли, так это точно бывало. Дочь моя Варвара, точно, ушла от меня в скиты своею охотой и с моего благословения, и жила там в обители у игуменьи Магдалины, которая ныне мещанкой в городе С *** приписана и зовется Маврой Кузьмовной. Чтобы она напредь того была беременна, того я не знаю, и где она теперь находится, также не умею сказать, потому что с тех пор, как скиты разогнали, никаких известий оттуда не имею. Манефа Ивановна, старушка, точно у меня живет, однако не в любовницах, а в домоправительницах. Что показал по сущей справедливости и пр.
2) Манефа Ивановна Загуменникова, от роду имею тридцать лет; состою по расколу и жила в скитах, в обители у игуменьи Магдалины, где пострижена в иноческий образ под именем Маремьяны. Варвара Тебенькова, дочь моего хозяина, точно ушла от родителя своего в скиты, где и жила в той же самой Магдалининой обители, но про беременность ее ничего не знаю. Какая причина заставила ее идти в скиты, сказать не умею, потому как хотя я в то время и жила у Михаила Трофимыча в ключах, однако в ихние дела не вступалась, и любовницей у хозяина моего тоже не бывала, и с чего это взято, мне не известно. Что показав справедливо и пр.
3) Лжеинокини Иринарха, Дорофея, Павлина, Аполлинария и другие, ныне мещанки разных городов, быв спрошены, каждая порознь, показали, что означенная Варвара Тебенькова прибыла в их скиты, в Магдалинину обитель, ночью, и в скором времени родила мальчика, но куда девала его настоятельница, того они не знают. Они же сознались, что Магдалина действительно вынуждала Тебенькову различными истязаниями остричься, что последняя наконец и исполнила, и даже как будто примирилась с настоятельницей, почему, не за долгое время до разогнания их из скитов, была даже послана в разные места за сбором милостыни».
– Из всех этих показаний ясно, во-первых,что ты напрасно запираешься в знакомстве с Тебеньковым и в укрывательстве дочери его; во-вторых,что Варвара Тебенькова действительно родила в твоей обители, и сын ее неизвестно куда пропал… Куда девала ты этого сына?
– Что ж, сударь, вся ваша власть: хочь в железы меня куйте, хочь бейте, хочь в куски режьте – я вся тут, – отвечала Кузымовна по-прежнему с бесстрастием, в котором даже проглядывало еще более решимости.
– Приходится прочитать тебе и еще документец.
По молитве
Почтеннейшему благодетелю Михайле Трофимычу аз, грешная и. Магдалина, земно кланяюсь. Дочка ваша на вчерашнюю ночь распросталась благополучно сынком, и я насчет его поступила по вашему желанию, а Варваре Михайловне матушки сказали, что отдали его в деревню в сыны к мужичку, и она очень довольно об этом тужила, что при ней его не оставили. После можно будет сказать, что он и помер, и вы бы, наш благодетель, были в том без сумнения, что это дело в тайности останется, и никто об том, кроме матушки Меропеи, не знает…
– Позвать сюда Меропею! – сказал я полицейскому и потом, обращаясь к Кузьмовне, прибавил: – Ну, что ж ты на это скажешь?
– А что сказать? что прежде говорила, то и теперь скажу: не знаю я ничего; хочь что хотите со мной делайте, а чего не знаю, так не знаю.
– Ишь скаред какой! – заметил Половников, терявший терпение, – так тебя и послушают, незнайка!
– Так, видно, и взаправду Мишутку-то в яму свалили! – сказала Тебенькова, всхлипывая, и потом, обращаясь к Кузьмовне, прибавила: – Черт ты этакой, че-орт!
– Продолжай свое показание, – сказал я.
– Да чего больше сказывать-то! жила я, сударь, в этой обители еще года с два, ну, конечно, и поприобыкла малость, да и вижу, что супротивничеством ничего не возьмешь, – покорилась тоже. Стали меня «стричься» нудить – ну, и остриглась, из Варвары Варсонофией сделалась: не что́ станешь делать. В последнее время даже милостыню сбирать доверили, только не в Москву пустили, а к сибирским сторонам…
– Как же тебя такую молоденькую отпустили?
– Да по-ихнему, сударь, что моложе, то лучше: купцы больше денег дают. Уж, конечно, тут больше грех один, да по скитскому правилу то и хорошо, что грех, потому что «не согрешивши возмечтаешь, не согрешивши не покаешься, а не покаявшись не спасешься». Вот я и ходила таким родом месяцев с семь, покуда до Камы не дошла; там, сударь, город есть такой, в котором радетелей наших великое множество проживает. Стала я оттуда писать в скиты, что пачпорту срок вышел, а тут, заместо пачпорта-то, весть пришла, что и скиты все разогнали…
– Ваше высокоблагородие! извольте сюда пожаловать! – кликнул показавшийся в дверях полицейский.
Я вышел.
– В ихнем доме господин исправник с понятыми – архиерея изловили, сейчас сюда будут-с!
– А Меропея?
– Мерошка в бесчувствии-с.
VIII
В эту самую минуту на улице послышался шум. Я поспешил в следственную комнату и подошел к окну. Перед станционным домом медленно подвигалась процессия с зажженными фонарями (было уже около 10 часов); целая толпа народа сопровождала ее. Тут слышались и вопли старух, и просто вздохи, и даже ругательства; изредка только раздавался в воздухе сиплый и нахальный смех, от которого подирал по коже мороз. Впереди всех приплясывая шел Михеич и горланил песню.
– Господи! что такое с нами будет? – бормотала ветхая старушонка, ковыляя мимо окна и размахивая руками.
– А то, матушка, будет, что, видно, умирать наше время пришло! – отвечал какой-то старик, стоявший у ворот, и, вздрогнув всем телом, прибавил: – Ишь ты, господи!
– Прочь с дороги! – кричал Михеич, который, по-видимому, распоряжался всей процессией, – эй, вы! стойте тут, на дворе, покедова я его высокоблагородию доложу.
– Соколов привели, ваше высокоблагородие! – сказал он, входя в мою комнату, – таких соколов, что сам Иван Демьяныч, можно сказать, угорел. А! Маремьяна-старица, обо всем мире печальница! – продолжал он, обращаясь к Мавре Кузьмовне, – каково, сударушка, поживаешь? ну, мы, нече сказать, благодаря богу, живем, хлеб жуем, а потроха-то твои тоже повычистили! да и сокола твоего в золотую клетку посадили… фю!
Я взглянул на Мавру Кузьмовну; она была совершенно уничтожена; лицо помертвело, и все тело тряслось будто в лихорадке; но за всем тем ни малейшего стона не вырвалось из груди ее; видно было только, что она физически ослабла, вследствие чего, не будучи в состоянии стоять, опустилась на стул и, подпершись обеими руками, с напряженным вниманием смотрела на дверь, ожидая чего-то. Приветствие Михеича не коснулось слуха ее. Очевидно, ей было не до него и его цинических выходок, что все ее мысли, все чувства были сосредоточены на этой драме, которой последний акт так неожиданно разрешился без всякого участия с ее стороны.
– А именно, ваше высокоблагородие, понял я теперь, что мне в полицейской службе настоящее место состоит! – продолжал между тем Михеич, – именно, в самой, можно сказать, тонкой чистоте всю штуку обработали… Ваше высокоблагородие! не соблаговолите ли, в счет будущей награды и для поощрения к будущим таковым же подвигам, по крайности стакан водки поднести? Сего числа, имея в виду принятие священнического сана, даже не единыя росинки чрез гортань не пропущал.
– Имею честь поздравить ваше высокоблагородие с крестничком! – сказал Маслобойников, входя в комнату, – кончили все благополучно-с. Даже со всеми онёрами изловили-с. И тот самый здесь, про которого изволили спрашивать… Прикажете позвать-с?
Лицо Маслобойникова сияло; он мял губами гораздо более прежнего, и в голосе его слышались визгливые перекатистые тоны, непременно являющиеся у человека, которого сердце до того переполнено радостию, что начинает там как будто саднить. Мне даже показалось, что он из дому Мавры Кузьмовны сбегал к себе на квартиру и припомадился по случаю столь великого торжества, потому что волосы у него не торчали вихрами, как обыкновенно, а были тщательно приглажены.
– Стало быть, этот купец и был Тебеньков? – спросил я.
– Так и родитель наш тут же схвачен… Господи помилуй! – вскричала Тебенькова.
– Точно так-с, моя красавица! и ему тоже бонжур сказали, а в скором времени скажем: мусьё алё призо́! [178]178
пожалуйте, сударь, в тюрьму! (искаж. франц.)
[Закрыть]– отвечал Маслобойников, притопывая ногой и как-то подло и масляно подмигивая мне одним глазом, – а что, Мавра Кузьмовна, напрасно, видно, беспокоиться изволили, что Андрюшка у вас жить будет; этаким большим людям, в нашей глухой стороне, по нашим проселкам, не жительство: перед ними большая дорога, сибирская. Эй, Андрюшка! поди, поди сюда, любезный!







