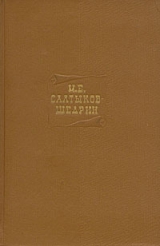
Текст книги "Том 2. Губернские очерки"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц)
Праздники
ЕлкаНа дворе очень холодно; мороз крепко сковал и угладил дорогу и теперь что есть мочи стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уж вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит с заоблачных высот, глядит добродушно и весело, и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собою санки с сидящим в них губернским аристократом, поспешающим на званый вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом мало-помалу разрастаются в великолепные иллюминации. Я иду по улице и, всматриваясь в окна, вижу целые снопы света, около которых снуют взад и вперед милые головки детей… «Ба! да ведь сегодня сочельник!» – восклицаю я мысленно.
Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ чиновников, которые препоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Туруханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении – это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременною обязанностью купить на базаре елку и, украсив ее незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам, а иногда и просто Ванькам и Машкам.
Иду я по улице и поневоле заглядываю в окна. Там целые выводки милых птенцов, думаю я, там любящая подруга жизни, там чадолюбивый отец, там так тепло и уютно… а я! Я один как перст в целом мире; нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора, некому ни приютить, ни приголубить меня, некому сказать мне «папасецка», некому назвать меня «брюханчиком»; в квартире моей холодно и неприветно. Гриша * вечно сапоги чистит или папиросы набивает… Господи, как скучно!
И я как-то инстинктивно останавливаюсь перед каменными хоромами одного крутогорского негоцианта, выписывающего себе «камзолы» от Руча. И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашена и что по поводу ее присутствует в доме многочисленное стечение как большого, так и малого люда. В пространной зале горит это милое дерево, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дети чинно расхаживают по зале, только издалека посматривая на золотые яблоки и орехи, висящие в изобилии на всех ветвях, и нетерпеливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление. В боковой комнате присутствуют взрослые мужчины; несмотря на то что на соборной колокольне только что пробило шесть часов, круглый стол, стоящий перед диваном, ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и тенерифом. В Крутогорске это называется «не терять золотых мгновений», и господа негоцианты действительно не теряют их, потому что я вижу их беспрерывно подступающих к круглому столу и, разумеется, не за тем, чтоб проводить время праздно. В зале владычествует хозяйка; в гостиной – хозяин. Я вижу его с улицы, подходящего даже к знакомому мне сидельцу, который скромно стоит у окна, заложивши руки назад и не осмеливаясь присесть при «хозявах». Хозяин, простирая длань по направлению к закуске, сначала словесно уговаривает его вкусить от плода хлебного, но сиделец, как видно, оказывает сопротивление, потому что негоциант берет его за руку и силой подводит к столу.
Но покуда я занимаюсь наблюдениями над взрослою компанией, рядом со мной незаметно становится другой наблюдатель, в лице маленького и шустрого мальчугана, который подскакивает с ноги на ногу в своем дубленом полушубке.
– Чай, скоро и рушить начнут! – беззастенчиво обращается он ко мне.
И снова начинает подплясывать на одном месте, изо всех своих детских сил похлопывая ручонками, закоченевшими на морозе.
– Вона, вона! ишь как Оську-ту задрали! – продолжает он как будто про себя.
Я смотрю внимательнее в окно и вижу, что действительно какие-то два мальчика подрались, и один из них, как должно полагать по его оскорбленному лицу, испускает пронзительнейшие стоны.
– Ты знаешь этого мальчика? – спрашиваю я моего маленького товарища.
– Это Оська рядский, – отвечает он мне, – ишь раззевался, смерд этакой! Я бы те не так еще угостил!
– А тот мальчик, который прибил Оську?
– Это сын ихнего хозяина, он завсегда его так бьет, – отвечал он, всхлипывая от смеха, – намеднись песком так глаза засорил, что насилу отмыли… Эка нюня несообразная! – прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается.
Около обиженного мальчика хлопотала какая-то женщина, в головке и одетая попроще других дам. По всем вероятиям, это была мать Оськи, потому что она не столько ублажала его, сколько старалась прекратить его всхлипыванья новыми толчками. Очевидно, она хотела этим угодить хозяевам, которые отнюдь не желали, чтоб Оська обижался невинными проказами их остроумных деточек. Обидчик между тем, пользуясь безнаказанностию, прохаживался по зале, гордо посматривая на всех.
– Вот кабы этакая-то елка… – задумчиво произнес мой собеседник.
Вероятно, он хотел сказать «у нас», но остановился, не докончив фразы, как это часто бывает с детьми, когда они о чем-нибудь серьезно задумаются.
– Вона! вона! рушат! ломают! – вскричал он вдруг таким неестественным голосом, что я вздрогнул. – Ах ты батюшки! смотри-ка, Оська-то, Оська-то!
В окнах действительно сделалось как будто тусклее; елка уже упала, и десятки детей взлезали друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь из тех великолепных вещей, которые так долго манили собой их встревоженные воображеньица. Оська тоже полез вслед за другими, забыв внезапно все причиненные в тот вечер обиды, но ему не суждено было участвовать в общем разделе, потому что едва завидел его хозяйский сын, как мгновенно поверг несчастного наземь данною с размаха оплеухой.
Началась прежняя сцена увещеванья и колотушек, и мне сделалось невыносимо тяжко.
– Я бы еще не так тебе рожу-то насалил! – произнес мой товарищ с звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению.
– Отчего ты не любишь Оську? – спросил я.
– А пошто его любить-то! вишь, как он нюни распустил… козявка этакая!
– А если б тебя так прибили?
– Ну, это, видно, после дождичка в четверг будет! я сам сдачи не займую. А вот, ей-богу, я здесь останусь… хошь из-за угла эту плаксу шарахну.
Однако он не остался и, простояв еще несколько минут, с глубоким и сосредоточенным вздохом стал отходить от окна. Я тоже пошел с ним рядом.
– Да ты чей? – спросил я.
– Кузнеца Потапыча сын.
Я знаю Потапыча, потому что он кует и часто даже заковывает моих лошадей. Потапыч старик очень суровый, но весьма бедный и живущий изо дня в день скудными заработками своих сильных рук. Избенка его стоит на самом краю города и вмещает в себе многочисленную семью, которой он единственная поддержка, потому что прочие члены мал мала меньше.
– А ведь тебе далеконько идти, – говорю я.
– Ничего-таки, будет! только вот тятька беспременно заругает.
– За что?
– А я еще утрось из дому убег, будто в ряды, да вот и не бывал с тех самых пор… то есть с утра с раннего, – прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дискантом запел: – «На заре ты ее не буди * …»
– Кто тебя научил этой песне?
– А что, песня важнецкая! наш учитель приходский только и дела, что мурлычет ее.
– Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?
– А то нет? сказано: с утра раннего… неужто ж пропустить экой праздник!
– А дома у вас разве нет елки?
– Какая елка! У нас и хлеба поди нет… чем еще разговеемся завтра!
Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Герольштейна * , который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в tapis francs [96]96
притоны ( франц.).
[Закрыть]и запанибрата разговаривал с шуринёрами * . Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем Fleur-de-Marie, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинцияльной гостиницы * . Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мною мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.
– Хочешь ко мне пойти? – спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза.
– Я тебе пряников дам, – продолжаю я.
– Мне что пряники! – говорит он, – я, пожалуй, и вино пью.
Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.
– Что ж, я и вина дам, – говорю я.
Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.
Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.
– Это еще кого привели? – сердито ворчит он.
Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.
– Есть у нас пряники, Гриша? – спрашиваю я.
– Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят! – говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: «Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!»
– Ну, нет ли хоть яблок, винограду? – говорю я, несколько смущенный.
– Этому-то слюняю я винограду дам? – восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.
Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренно негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением – не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.
– Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! – говорит Гриша, – а то еще винограду выдумали!
– Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, – говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.
– Да и вина уж кстати подай, холоп! – прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.
– Ах ты мозглец ты этакой! – кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, – ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!
Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.
– Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, – говорю я, возвышая голос.
– Ну, что же! – отвечает Гриша, – пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!
Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.
– Да и ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!
Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.
Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылки тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.
– Ишь шельмец какой! – замечает Гриша.
Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав, и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: «Ишь постреленок!», что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.
– Что ж ты не берешь яблок? – спрашиваю я.
– На что мне?.. Разве сестрам взять?
– А много у тебя сестер?
– А кто их знает? я не считал…
– Ишь пострел! – отзывается Гриша.
– Как же они теперь праздник встречают?
– Спят, чай… Намеднись тятька приговаривался, что свинью убить надо…
– Ну, а велики ли у тебя сестры?
– Одна есть большая, а другие – мелюзга.
– И мать у вас есть?
– Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает… больно уж он ноне зашибаться зачал – это, пожалуй, и не ладно уж будет!
– За что ж он ее бьет?
– За́ что бьет! пришла – не так, и ушла – не так! вот и бьет!
Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьян, и Гриша начинает смотреть на него как на отличную для себя потеху.
– Вели закладывать поскорее лошадей, – говорю я Грише.
– А что-с! видно, наскучили мы вашему благородию? – спрашивает мальчуган.
– Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня «благородием»? откуда перенял все эти романсы?
– Не́што мы образованного опчества не знаем?
– Скажите на милость! тоже об образовании заговорил! – удивляется Гриша.
Через четверть часа докладывают, что лошади готовы, и я остаюсь один. Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник. Зато Гриша очень весел и беспрестанно смеется, приговаривая: «Ах ты постреленок этакой!» Я уверен, что в сердце его не осталось ни тени претензий на меня и что, напротив, он очень мне благодарен.
Я ложусь спать, но и во сне меня преследует мальчуган, и вместе с тем какой-то тайный голос говорит мне: «Слабоумный и праздный человек! ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку, и с этими данными хочешь найти добро окрест себя! Пойми же наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этою деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие – и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души!»
Душа моя внезапно освежается; я чувствую, что дыханье ровно и легко вылетает из груди моей… «Господи! дай мне силы не быть праздным, не быть ленивым, не быть суетным!» – говорю я мысленно и просыпаюсь в то самое время, когда веселый день напоминает мне, что наступил «великий» праздник и что надобно скорее спешить к обедне.
«Христос воскрес!»Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих, отчего в небе горят миллионы звезд, отчего природа одевается радостью, отчего сердце у меня словно саднит от полноты нахлынувшего вдруг веселия, отчего кровь приливает к горлу, и я чувствую, что меня как будто поднимает, как будто уносит какою-то невидимою волною?
«Христос воскрес!» – звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах города; «Христос воскрес!» – журчат ручьи, бегущие с горы в овраг; «Христос воскрес!» – говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями; «Христос воскрес!» – приветливо шепчут вечные огни, горящие в глубоком, темном небе; «Христос воскрес!» – откликается мне давно минувшее мое прошлое.
Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту славную весть, от которой сердце мое всегда билось какою-то чуткою надеждой. Я еще вчера видел, как добрая купчиха Палагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков.
– Куда вам такое множество куличей, Палагея Ивановна? – спросил я ее.
– И, батюшка, все изойдет для «несчастненьких»! – отвечала она, набожно осеняя себя крестным знамением.
Ужасно люблю я Палагею Ивановну. Это именно почтеннейшая женщина! «Несчастненькими» она называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтоб как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем: разбойник ли он, вор или просто «прикосновенный». В глазах ее все они просто «несчастненькие», и вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и «несчастненькие» благословляют имя Палагеи Ивановны, зовут ее «матушкой» и «кормилицей»… И я того мнения, что если кто-нибудь на сем свете заслужил царствие небесное, то, конечно, Палагея Ивановна больше всех.
Еще вчера свечеру я чувствовал, что в городе делалось что-то необычайное. В половине двенадцатого во всех окнах забегали огни, и вслед за тем потянулся по всем улицам народ, и застучали разнородные экипажи крутогорской аристократии.
И я тоже с каким-то особенным, давно непривычным мне чувством радости выслушал утреню и вышел из церкви, вынося с собою безотчетное и светлое чувство дружелюбия, милосердия и снисхождения.
«Христос воскрес!» – думал я. – Он воскрес для всех; большие и малые, иудеи и еллины, пришедшие рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие – все мы равны пред его воскресением, пред всеми нами стоит трапеза, которую приготовила победа над смертью.
Недаром существует в народе поверье, что душа грешника, умершего в светлый праздник, очищается от грехов и уносится в райские обители.
Может ли быть допущена идея о смерти в тот день, когда все говорит о жизни, все призывает к ней? Я люблю эти народные поверья, потому что в них, кроме поэтического чувства, всегда разлито много светлой, успокоивающей любви. Не знаю почему, но, когда я взгляну на толпы трудящихся, снискивающих в поте лица хлеб свой, мне всегда приходит на мысль: «Как бы славно было умереть в этот великий день!..»
Для всех воскрес Христос! Он воскрес и для тебя, мрачный и угрюмый взяточник, для тебя, которого зачерствевшее сердце перестало биться для всех радостей и наслаждений жизни, кроме наслаждений приобретения и неправды. В этот великий день и твоя душа освобождается от тяготевших над нею нечистых помыслов, и ты делаешься добр и милостив, и ты простираешь объятия, чтобы заключить в них брата своего.
Он воскрес и для вас, бедные заключенники, несчастные, неузнанные странники моря житейского! Христос, сходивший в ад, сошел и в ваши сердца и очистил их в горниле любви своей. Нет татей, нет душегубов, нет прелюбодеев! Все мы братия, все мы невинны и чисты перед гласом любви, всё прощающей, всё искупляющей… Обнимем же друг друга и всем существом своим возгласим: «Други! братья! воскрес Христос!»
Он воскрес и для тебя, бедный труженик, кроткая жертва свирепой бюрократии! Добрый начальник Сергей Александрыч велел выдать всем чиновникам пособие из «остаточков» на праздник – и вот является у тебя на столе румяный кулич и рядом с ним красуется добрая четверть телятины. Не велик твой угол, не веселит ничьего взора твое убожество, но в этот день и твоя бедная комнатка вымыта и прибрана по-праздничному, дети одеты в чистеньких ситцевых рубашонках, а жена гордо расхаживает в до невозможности накрахмаленной юбке. Дети твои беспрестанно подходят и к румяному куличу, и к заманчивой телятине: они ждут не дождутся, когда все эти великолепные вещи сделаются их достоянием. Но ты ласково сдерживаешь их нетерпение; ты знаешь, что в этот день придут к тебе разговеться такие же труженики, как и ты сам, не получившие, быть может, на свою долю ничего из «остаточков»; сердце твое в этот день для всех растворяется; ты любишь и тоскуешь только о том, что не можешь всех насытить, всех напитать во имя Христа-искупителя.
Он воскрес и для тебя, серый армяк! Он сугубо воскрес для тебя, потому что ты целый год, обливая потом кормилицу-землю, славил имя его, потому что ты целый год трудился, ждал и все думал: «Вот придет светлое воскресенье, и я отдохну под святою сенью его!» И ты отдохнешь, потому что в поле бегут еще веселые ручьи, потому что земля-матушка только что первый пар дала, и ничто еще не вызывает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда!
Для всех воскрес Христос! Все мы, большие и малые, богатые и убогие, иудеи и еллины, все мы встанем и от полноты душевной обнимем друг друга!
Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко, но как светло оно сияло, как тепло оно грело! На улицах было сухо; недаром же говорят старожилы, что какая ни будь дурная погода на шестой неделе поста, страстная все дело исправит, и к светлому празднику будет сухо и тепло. Мне сделалось скучно в комнате одному, и я вышел на улицу, чтоб на народ поглядеть.
– Христос воскрес! – кричит мне Порфирий Петрович, влекомый парой кауреньких лошадок, – там будете?
И, не дождавшись моего ответа, прибавляет:
– То-то же! сегодня грех! сегодня не такой день, чтоб в карты играть! Сегодня, по древнему обычаю, пораньше спать лечь следует.
Я иду дальше и в скором времени равняюсь с домиком «матушки» Палагеи Ивановны, у которой все окна, по случаю великого праздника, настежь.
– Ну, что, как «несчастненькие»? – спрашиваю я у этой милой женщины, которой кроткое лицо отрадно и освежительно действует на мою душу.
– А что? Все слава богу! чуть не затискали меня, старуху, совсем! Да не побрезгуй, барин любезный, зайди ко мне разговеться! Поди, чай, тебе, сердечному, одному-то в такой праздник как скучно!
И мне действительно делается внезапно так грустно и горько, что я чувствую, как слезы душат и давят меня. Я в самом деле припоминаю, что мне чего-то недостает, что я как будто лишний на белом свете, что я один, всегда один. И я вдвое начинаю любить эту милую Палагею Ивановну за то, во-первых, что она назвала меня «сердечным», а во-вторых, за то, что она от всей души пригрела и приютила меня в великий праздник. Неизвестно почему, но Палагея Ивановна всегда как-то особенно вздыхает и покачивает головой, когда со мной говорит. Иногда мне случается подметить ее взор, устремленный на меня в то время, как я разговариваю с ее племянниками и племянницами, с ее сиротками, которых у нее полон дом, и взор этот всегда бывает полон какой-то тихой, любящей грусти. Нет сомненья, что она и во мне видит одного из толпы «несчастненьких», что она охотно полюбила бы меня, как любит своих сироток, если бы я, на мое несчастие, не был чиновником. Чиновнический вицмундир во многих случаях лишал меня возможности наслаждаться бездною приятных вещей. Палагея Ивановна высокая и полная женщина; должно полагать, что смолоду она была красавицей, потому, во-первых, что черты лица ее и доселе говорят еще о прошедшей красоте, а во-вторых, потому, что женщина с истинно добрым сердцем, по мнению моему, должна, непременно должна быть красавицей.
Между тем я вхожу во двор, на котором взапуски веселится и резвится молодое поколение. Палагею Ивановну эта резвость очень утешает. Как женщина истинно добрая, она сама очень весела, и потому любит, когда другие веселятся. С той минуты, как я вхожу в ее двор, моя хандра исчезает мгновенно. Малолетные племянники и племянницы со всех сторон обступают меня и хвастаются передо мною своими обновками, потому что Палагея Ивановна всех для праздника наделила. В стороне, у забора, положено бревно, поперек которого брошена доска, и две девушки, лет по двенадцати, делают величайшие усилия, чтобы подскакнуть как можно выше. Около служб мирно пасется стая индеек, и несколько мальчишек усердно дразнят огромного индюка, который изо всех сил топырится, а по временам и наскакивает стремительно на обидчиков, мгновенно рассыпающихся в разные стороны.
– Ваня! а Ваня! что петуха, голубчик, дразнишь? – кричит Палагея Ивановна, вышедшая навстречу мне на крыльцо.
Но дети так тесно обступают меня, что я не имею никакой возможности пробраться к моей хозяйке. Они громко и деспотически требуют гривенника на пряники, который и получают с знаками всеобщего и шумного удовольствия.
– Ишь пострелята, как завладели барином! – говорит Палагея Ивановна, но слово «пострелята» выходит у ней как-то совсем не бранно.
Я наконец освобождаюсь и вхожу в горницу, в которой присутствует уж большая компания. В переднем углу сидит дедушка Иван Гаврилыч; он уж лет десять ничего не видит и не слышит, и лицо его от старости покрылось каким-то мохом. Однако ж Палагея Ивановна и до сих пор никакого дела не затевает, не испросивши наперед его благословения, и мне положительно известно, что ключи от денежного сундука до сих пор хранятся у «дедушки», который выдает деньги с величайшею скупостью. Рядом с ним сидит старуха, свекровь хозяйкина, и эта почтенная фигура напоминает мне о муже Палагеи Ивановны. Муж этот еще жив, но он куда-то услан за дурные дела, и нет сомнения, что это обстоятельство имеет большой вес в том сострадании, которое чувствует Палагея Ивановна к «несчастненьким». Тут же присутствует и спившийся с кругу приказный Трофим Николаич, видавший когда-то лучшие дни, потому что был он и исправником, и заседателем, и опять исправником, и просто вольнонаемным писцом в земском суде, покуда наконец произойдя через все медные трубы, не устроил себе постоянного присутствия в кабаке, где, за шкалик «пенного», настрочить может о чем угодно, куда угодно и какую угодно просьбицу захмелевшему мужичку. Но в этот великий праздник и Трофим Николаич считает за грех идти в кабак и отправляется с поздравлением к разным благодетелям, которых у него очень много в купеческом и мещанском сословии. Он, впрочем, очень редко подходит к большому столу, на котором стоят куличи и другие пасхальные принадлежности, а больше придерживается малого стола, стоящего у стенки, на котором красуются рюмки и графины с водкой. Несколько молодых бабенок и парней дополняют картину.
– Пожалуйте! просим покорно побеседовать! – говорит Палагея Ивановна, вводя меня в комнату. – Батюшка! Николай Иваныч пришел!
Но «дедушка» не слышит и только чавкает.
– Вы старика-то моего не обессудьте, барин любезный, – продолжает Палагея Ивановна, – что он, по старости лет, почтения вам отдать не в силах.
Меня усаживают подле старика, хотя мне скорее желалось бы побыть с молодушками; с другой стороны, молодушки, по всем вероятиям, подметили мою кислую физиономию, потому что я вижу, как они смеются втихомолку.
– Кушай, батюшка, кушай! – говорит Палагея Ивановна приказному, который, подняв рюмку, не может ничего уже выразить словесно и только устремляет на нее долгий, умоляющий взор.
Беседа, прерванная моим приходом, возобновляется, но весьма умеренно.
– Так-то, – шамкает дедушка, – так-то вот, детки, стар, стар, а все пожить хочется… Все бы хоть годиков с десяток протянул, право-ну!
Молодухи смеются.
– Да тебе бы, дедушка, и жениться так в ту же пору, – говорит одна из них побойчее, – какой ты еще старик!
– Ась? – спрашивает дедушка.
Палагея Ивановна подходит к нему и на ухо, как можно громче объясняет, что вот Варвара от живого мужа за него, старика, замуж собирается.
– Да, да, – отвечает дедушка, – я еще старик здоровенный… здоровенный старик, только вот ноженьки плохо ходят… плохо, куда плохо ходят ноженьки…
Молодушки смеются пуще прежнего.
– А что, как торги, дедушка? – спрашивает свекровь, наклоняясь к самому уху старика.
– Плохо, сударыня, плохо! совсем ноне плохо стало; сам я вот недослышу что-то, а Палагеюшка у меня еще молода… Об ину пору так разнеможешься, словно и взаправду старость пришла. А пуще всего ноженьки! мозжат это, знаешь, мозжат, словно вот винтом тебе кость-ту винтит!
Трофим Николаевич подходит, пошатываясь, к дедушке и, наклонясь к его уху, хочет, вероятно, пожелать ему доброго здравия, но только икает и как-то неблаговидно сопит, что чрезвычайно смешит молодушек; дедушка же, почуяв носом сильный запах сивухи, пятится ближе к стене.
– Батюшка! Трофим Николаич доброго здоровья тебе желает! – кричит Палагея Ивановна и, обращаясь к приказному, прибавляет, – кушай, батюшка, кушай на здоровье!
– Ой ли! – шамкает старик, – а я было думал, что из суседнего кабака дверь отворилась… право-ну! А как-то ты, крыса приказная, век доживаешь, винцо попиваешь?
– С-с-с-лав-ва вввсе-ввышнему! – успевает, не без больших усилий, проговорить Трофим Николаич.
– Чего, чай, «слава всевышнему»! – замечает Иван Гаврилыч, – поди, чай, дня три не едал, почтенный! все на вине да на вине, а вино-то ведь хлебом заедать надо.
– Это п-п-правильно! – произносит Трофим Николаич.
– То-то! а еще благородный прозываешься!
– Да что ж вы-то, любезненький, ничего не прикушаете? – обращается ко мне Палагея Ивановна, – хошь бы тенерифцу пожаловали или вот орешками с молодушками позабавились! А может, вам и скучненько со стариками-то? Пожалуйте, барин, хошь в ту горницу: там наши молодухи сидят!
Я выхожу в другую комнату, но и там мне не весело. Есть какой-то скверный червяк, который сосет мою грудь и мешает предаваться общему веселью. Я сижу с четверть часа еще и ухожу от Палагеи Ивановны.
Уж два часа; на улицах заметно менее движения, но около ворот везде собираются группы купчих и мещанок, уже пообедавших и вышедших на вольный воздух в праздничных нарядах. Песен не слыхать, потому что в такой большой праздник петь грех; видно, что все что ни есть перед вашими глазами предается не столько веселию, сколько отдохновению и какой-то счастливой беззаботности.
– Что вы всё одни да одни! зайдите хоть к нам, отобедаем вместе! – говорит мне мой искреннейший друг, Василий Николаич Проймин * , тот самый, которому помещик Буеракин в великую заслугу ставит его наивное «хоть куда!» [97]97
См. «Влад. Конст. Буеракин». ( Прим. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
И я отправляюсь, совершенно счастливый, что мне есть с кем разделить трапезу этого великого дня. Василий Николаич окончательно разгоняет мою хандру своим добродушием, которому «пальца в рот не клади»; супруга его, очень живая и бойкая дама, приносит мне истинное утешение рассказами о давешнем приеме князя Льва Михайловича; детки их, живостью и юркостью пошедшие в maman, a добродушием и тонкою наблюдательностью в papa, взбираются мне на плечи и очень серьезно убеждаются, что я лошадка, а совсем не надворный советник.
Я счастлив, я ем с таким аппетитом, что старая экономка Варвара с ужасом смотрит на меня и думает, что я по крайней мере всю страстную неделю ничего не ел.







