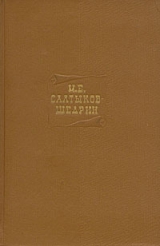
Текст книги "Том 2. Губернские очерки"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Помощник был у меня на все такие дела предошлый. Прозывался он по-простому Андрияшкой, и как бы вам сказать, не ошибиться, за полтину серебра душу свою готов был на всякое дело продать. Где и в каких он делах не бывал, этого я вам и объяснить не умею: довольно сказать, что у комедиянтов подсказчиком был… изволите знать, что по городам комедиянты бывают. Он и стихи слагать умел, особливо про пустынножительство или вот насчет антихристова пришествия. Одно слово, остроумный, живой парень был. Конечно, промеж нас-то он будто заместо шута состоял, а в темном народе тоже свою ролю разыгрывал. Часто самому мне случалось слышать, как его величали «горняго жития ревнителем», ну, и он ничего, даже глазом не моргнет. Так вот этакой-то проходимец и вызвался быть моим помощником. И точно: подделать ли что под старый манер, рассказать ли так, чтоб простой человек уши развесил, – на все на это у него такой талант был, что, кажется, если бы да на хорошую дорогу его поставить, озолотил бы, не расстался бы с ним.
Как пошла у меня эта торговля, я и место бросил. Слухом земля полнится; стали и на Москве знать, что есть-де такой-то ревнитель; ну, и засылать ко мне зачали. Получаю я однажды писемцо, от одного купца из Москвы (богатейший был и всему нашему делу голова), пишет, что, мол, так и так, известился он о моих добродетелях, что от бога я светлым разумом наделен, так не заблагорассудится ли мне взять на свое попечение утверждение старой веры в Крутогорской губернии, в которой «християне» претерпевают якобы тесноту и истязание великое. А средством к утверждению предлагалось открытие постоялого двора, в котором могли бы иметь пристанище все «християне». Ну, разумеется, и деньги на обзаведение тут же посулил, десять тысяч рублев на бумажки… «А мы, говорит, богу произволящу, надеемся в скором времени и пастыря себе добыть доброго, который бы мог и попов ставить, и стадо пасти духовное: так если, мол, пастырь этот к вам обратится когда, так вы его, имени Христова ради, руководствуйте, а нас, худых, в молитвах пред богом не забывайте, а мы за вас и за всех православных християн молимся и напредь молиться готовы».
Ну, что ж, думаю, это дело хорошее. Поехал в Крутогорск, взял с собой Андрияшку, снюхался там с кем следует и открыл въезжий двор. Крутогорская эта сторона, доложу я вам, сплошь населена нашим братом; только все это там у них, с позволения сказать, какая-то тарабарщина. От дикости ли это ихней, а только что́ ни деревня у них, то толк новый, даже в одном и том же селенье по нескольку бывает. Одни на воду веруют; соберутся, знашь, в избе, поставят посреди чан с водой и стоят вокруг, доколе вода не замутится; другие девку нагую в подполье запирают, да потом ей кланяются; третьи говорят: «Несогрешивый спасенья не имет», – и стараются по этой причине как возможно больше греха на душу принять, чтоб потом было что замаливать. Есть даже такие изуверы, что голодом себя измаривают, только ноне этих стало мене заметно.
Надлежало, стало быть, всех этих разнотолков в одно согласить, и задача трудненька-таки была. Писал я об этом в Москву к своему благодетелю, так он отвечал, что это ничего, лишь бы были все «християне». Ну, я так и действовал.
Конечно, сударь, как теперь рассудить, так оно точно выходит, что в этих делах много сумнительного бывает. На этот счет, доложу я вам, трех сортов есть люди. Одни именно сердцем это дело понимают, и эти люди хорошие, примерно вот как родитель мой. Правы они или не правы, это статья особенная, да по крайности они веруют. И вы, барин, не подумайте, что они из-за сугубой аллилуии или из-за перстов так убиваются. Нет, тут совсем дело другое; тут, сударь, вот антихрист примешался, тут старина родная, земство, и мало ли еще чего. Известно, Андрея Денисова * ученики. Эких людей немного, а ноне, пожалуй, и совсем нет. Эти на все готовы: и смерть принять, и поругание претерпеть – все это даже за радость себе почитают. А вот другой есть сорт, так эти именно разбойники и святотатцы. Это больше всё люди богатые или хитрые; заводят смуты не для чего другого, как из того, чтобы прибыток получить, или еще для того, чтоб честь ему была. Хуже, злее этих людей на свете нет: готов полсвета зарезать, чтоб прихоть свою исполнить. Сам он не только в старую, а, просто сказать, ни в какую веру не верует; знали бы ему только, что, мол, вот он каков: слово скажет, так четь-России этого слова слушает. Ну, и подлинно слушают, потому что народ не рассуждает; ему только скажи, что так, мол, при царе Горохе было или там что какой ни на есть папа Дармос был, которого тело было ввержено в реку Тивирь, и от этого в реке той вся рыба повымерла, – он и верит. Это третий сорт.
И еще доложу вам, сударь, такой, примерно, предмет, что сколько вот я ни бродил по свету, сколько ни знавал «особников», а истинной, настоящей то есть любви в них не видал. Все они как есть «особники». Нет того, чтоб душу свою за ближнего положить, а пуще горло ему перегрызть готовы. Мало в них общительности, мало и радушия и милосердия. Кто больше их подает милостыни? Кто больше их жертвует на общее дело? А все как-то сразу замечаешь, что тут истинного мало, что все это: и жертва и приношения – один хазовый конец. Конечно, есть же какая-нибудь этому причина, что сердце в них словно зачерствело, что они на свет божий сурово глядят, а только это истинная истина, что к общению их мало тянет. Иной богатый купец тысячи бросит, чтоб прихоть свою на народе удовольствовать, а умирай у него с голоду на дворе душа християнская – он и с места не двинется…
Дела мои шли ладно. На дворе, в бане, устроил я моленную, в которой мы по ночам и сходились; анбары навалил иконами, книжками, лестовками, всяким добром. Постояльцев во всякое время было множество, но выгоднее всех были такие, которых выгоняли в город для увещаний. Позовут их, бывало, в присутствие, стоят они там, стоят с утра раннего, а потом, глядишь, и выйдет сам секретарь.
– А вы, мол, кто такие?
– А мы, батюшка, вот такие-то; нельзя ли, кормилец, над нами скорее конец сделать?
– А, – скажет секретарь, – ну, теперь поздно, пора водку пить, приходите завтра.
Придут и завтра; тоже постоят, и опять: «Приходите завтра». Иной раз таким-то манером с месяц томят, пока не догадаются мужички полтинничек какой-нибудь приказной крысе сунуть. Тут их в один день и окрутят – известно, остались все непреклонны, да и вся недолга. И диво бы не остались, барин! Дома-то он один; видит ли, нет ли перед собой такого же сиволапа, как и сам, а тут придет в город, остановится, примерно, хошь у меня или у другого такого же – и чего-чего ему в уши-то тут не нашепчут. Как из деревни-то он шел, совесть-то у него, может, шаталася, а тут, гляди, совсем другой человек сделался. «Не хочу, да не хочу!» да и полно; а почему «не хочу» – молчит: просто, говорит, не хочу! – что ж с ним станешь делать!
Ну, а для нас, крохоборцев, оно и хорошо. Простоят они этак с месяц – глядишь, ан на коем тридцать, на коем сорок бумажками. А расходу для них не бог знает сколько: только за тепло да за ласку, потому что хлеб у него завсегда свой, и такой, сударь, хлеб, что нашему брату только на диво, как они его едят. Как приходится домой идти да объявишь каждому расчет, так он только вздыхает. И денег-то у него нет, и припас-от весь извел, потому что сбирался на неделю одну, а продержали месяц. Ну, мы насчет этого не прекословим; тут же и условимся, чтоб заместо денег хлебом, или медом, или холстом по ихней, то есть, цене, и доставка тоже ихняя. Это дело очень выгодное и обманов тут не бывает – чего? еще гостинцу всякий раз присылают!
Однажды получаю я письмо от своего милостивца, что вот добыли они себе пастыря, мужа честна и добра, и что по-хотел он овцы своя у́зрети и даже наш город предположил посетить.
Вот и подлинно приехал он. Приехал ночью, с возами, будто извозчик; одет словно мещанин простой в кафтанчике и в желетке, и волосы в кружок обстрижены, и пашпорт при нем – только чужой али фальшивый, доложить не могу. Приняли мы его с честью великою, под благословенье, как следует, подошли: только сам он словно необычно держал себя: чуть немного не по нем, он не то чтоб просто забранить, а все норовит обозвать тебя непотребно. Служил он (такая при нем церковь походная была) и за службой уставщика то и дело ругал азартно, словно не в церкви, а в кабаке он действует. Смотрел я на него, смотрел: сам вижу, словно морда у него знакомая, а припомнить не могу. Что ж, сударь, открылось? Кончил он всю эту комедию, поломался-таки перед нами досыта и остался со мной уж один на один.
– Что ж, – говорит, – или не признаешь меня, Александра Петрович?
– Нет, мол, не признаю; это точно, что сдается, будто тебя знаю, а где и когда видал – доподлинно сказать не умею.
– А не припомнишь ли, – говорит, – Степку, казанского дворника?
– Да что ты, шутишь, что ли?
– Нет, не шучу; вот мы теперь решим и вяжем и какое хошь таинство творим.
– Господи ты боже мой! Так вот, мол, ты кто таков!
А знаете ли вы, сударь, кто этот Степка? В Казани он был дворником и за блудную жизнь да за воровство в некруты присужден был от общества.
Вот он и бежал; старую веру, слышь, принял, да потом нашими благоприятелями и уставлен к нам пастырем! И ума-то даже хитрого не имел, да, видно, по этой причине и полюбился нашим милостивцам, что на нем подозренья держать было нельзя; весь он был в их руках.
Только наказал же меня за него бог! После уж я узнал, что за ним шибко следили и что тот же Андрияшка-антихрист нас всех выдал. Жил я в Крутогорске во всем спокойствии и сумнения никакого не имел, по той причине, что плата от меня, кому следует, шла исправно. Сидим мы это вечером, ни об чем не думаем; только вдруг словно в ворота тук-тук. Посмотрел я в оконце, ан там уж и дом со всех сторон окружен. Обернулся, а в комнате частный. «Что, говорит, попался, мошенник!»
Только я к нему: «Помилосердуйте, говорю, ваше благородие, за что ж конфузить! Кажется, с меня и то сходит не мало, а это, мол, наш приятель; человек заезжий, и пашпорт при нем. За что его-то беспокоить».
– Да, – говорит, – это точно, что от тебя приношение бывает, и мы, говорит, оченно за это тебе благодарны; да то, вишь, приношение вообще, а Степка в него не входит. Степка, стало быть, большой человек, и за этакого человека с другого три тысячи целковых взять нельзя: мало будет; ну, а тебя начальство пожаловать желает, полагает взять только три. Так ты это чувствуй; дашь – твой Степка, не дашь – наш Степка.
А Степка сидит в углу словно неживой. Я поначалу заупрямился было.
– Ну, – говорит, – жаль мне тебя, Александра Петрович, а делать нечего – надевай, брат, кандалы. А разоришься-то ты, все-таки разоришься…
Ну, и Андрияшка тут смеется, сосуд сатанин, словно от того ему радость сердечная, что вот благодетеля своего погубил. Бывают, сударь, экие скареды, что просто тебя из-за ничего, без всякой, то есть, выгоды загубить готовы.
Делать нечего, отдал я тут все деньги, какие через великую силу всякими неправдами накопил; он и покончил дело. Сам даже Степку при себе снарядил и со двора выпроводил: ступай, говорит, на все четыре стороны, да вперед не попадайся, а не то, не ровён час, не всякий будет такой добрый, как я.
Ну, да это все бы еще ничего. Сижу я на другой день один, будто горюю; смотрю, частный опять ко мне на двор едет: что бы это за оказия такая?
И, главное, ведь вот что обидно: они тебя, можно сказать, жизни лишают, а ты, вишь, и глазом моргнуть не моги – ни-ни, смотри весело, чтоб у тебя и улыбочка на губах была, и приветливость в глазах играла, и закуска на столе стояла: неровно господину частному выпить пожелается. Вошел он.
– Ну, – говорит, – ты теперича, пожалуй, собираться в дорогу можешь.
– Как, – говорю, – собираться? куда?
– Ну, да вот хоть туда, откуда к нам приехал.
– А дом-то как?
– А дом продашь нау́скори: у меня уж и покупщик такой сыскался.
– Да помилуй, ваше благородие, за что же ты три-то тысячи вчерась взял?
– Это, – говорит, – не твое дело; нынче порядок такой. Мы вот начальству докладывали, что Степка, мол, неизвестно куда из дому твоего скрылся, так начальство изволит говорить: если уж так, что Степку изловить не могли, так, по крайности, чтоб духу твоего в городе не пахло: развращаешь ты весь народ.
– Господи ты боже мой! да что ж, ограбить, что ли, вы меня, удавить, что ли, хотите?
Он, знашь, вспыхнул.
– Как, – говорит, – ограбить? Кто здесь грабит?
Да ногами так и затопотал, и ручищи вперед выпятил – знамо для чего.
– Счастлив твой бог, – говорит, – что человек-то я добрый: вижу, что ты больно уж огорчен, не в своем будто уме такие дела говоришь.
Ну, и представили мне покупщика на́ дом, а покупщик-от Андрияшка. Выложил он мне тут же тысячу серебряных рублей, однако и те частный взял: «Ты, говорит, пожалуй, с деньгами-то здесь останешься, да опять смуту заводить станешь, а вот, говорит, тебе на дорогу двадцать целковеньких, ступай восвояси». Я было попросить хотел – так куда? «Ты, говорит, видно брыкаться задумал, так ведь у нас дело-то еще не кончено; пожалуй, и теперь еще в казамат угомонить можно, яко пристанодержателя и развратителя – это все в наших руках».
В ту же ночь я отправился пешком на родину, а Андрияшка и доселе в моем дому хозяйствует.
Что уж не передумал я дорогой – этого вашему благородию и пересказать не могу. А пуще того голова у меня словно онемела; вижу, поля передо мной, снег лежит (тогда первопутка была), лес кругом, с возами мужики едут – и все будто ничего не понимаю: что́ лес, что́ снег, что́ мужик – даже различить не могу. А не то вот словно дурость найдет: все еще думается, что я богат, что скоро обедать надо, что свечи дома все вышли, что с такого-то вот рубль донять следует, а Мокея оковского и постращать не лишнее. И всякая, знаете, в голову чепуха лезет, точно сам-то не думаешь, а одни прежние остатки сами собой в тебе дорабатываются.
Пришел я домой нищ и убог. Матушка у меня давно уж померла, а жена даже не узнала меня. Что́ тут у нас было брани да покоров – этого и пересказать не могу. Дома-то на меня словно на дикого зверя показывали: «Вот, мол, двадцать лет по свету шатался, смотри, какое богачество принес».
К тому же и болезнь в это время посетила меня. От огорченья, что ли, или просто от простуды – только сделался я словно робенок, ни одним, то есть, суставом пошевелить не могу. По телу пошли струпья, и чувствовал я, будто весь живой истлеваю. Господи! чего уж я в это время не передумал, чего не перестрадал. Голова не болит, а словно перед тобой в тумане все ходит. То будто кажется, что вдруг черти тебя за язык ловят, то будто сам Ведекос на тебя смотрит и говорит тебе: «И приидут вси людие со тщанием…» В глазах у него свет и тьма, из гортани адом пышет, а на главе корона змеиная. Вся моя прежняя блудная жизнь встала передо мной, все эти грехи: и святотатство, и наругательство, и любострастие, и обманы, и кривда, и прелюбодеяние, и разбой. То будто за руку меня повесили, или вот каленым железом глаза и уста прижигают. Однажды даже вся преисподняя мне открылась: сидит Вельзевул на престоле огненном, а кругом престола слузи его хвостами помавают, а крыле у них словно у мыши летучей. Завидел он меня еще издалека и завопил: «Се грядет верный слуга наш, он нашу паству добре приумножил, примем его с честью великою». Подхватили меня тут бесы под руки и поволокли к самому престолу. Оглянулся я, сзади ровно знакомые всё лица: и точно, все тут были, которых я в свою жизнь на пагубу настроил.
Однако, сударь, случилось тут со мной чудо. Стал я выздоравливать; кровь словно отошла маленько, и хошь вставать я с печки не мог, да по крайности черти в глазах не вертелись. И вдруг, знаете, сижу я один, будто сном забывшись, и слышу, что по избе благовоние разливается: фимиам не фимиам, а такого запаху я и не слыхивал – одно слово, по душе словно мягким прошло: так оно сладко и спокойно на тебя действует. Открыл я глаза – это точно я помню, что открыл, – и вижу перед собой старца, ликом чудна и облаком пресветлым озаренного. Трепет объял меня. Порывался я броситься на землю, чтобы облобызать честные нозе его, и не мог: словно тайная сила оковала все суставы мои и не допустила меня, недостойного, вкусить такого блаженства. «Господи! – мог я только произнесть, – грешен я, грешен я, господи!»
Что́ со мной потом сталось, я рассказать не могу. Должно быть, больно я испужался, что и в памяти-то у меня ничего не осталось. Однако, проснувшись, ощутил себя здрава и тут же положил сбросить с себя суету греховную и удалиться в пустынножительство.
Сказывали мне странники, что такие есть места в Чердынском уезде, в самом то есть углу, где божьи люди душу свою спасают. Там по рекам: Лупье, Пильве, Лёле и Колве, в лесах дремучих, построены, дескать, кельи и в них не мало-таки народу живет. Сказывают, что даже из Москвы в те места благочестивые старцы спасаться ходят, что много там есть могил честных и начальство про то не знает и не ведает. А то вот и про другое тоже место сказывали. В Оренбургской губернии, около Златоуста, в горах, такие же пустынники обитают, и всё больше в пещерах, и одна такая пещера есть, что в ней денно и нощно свеща горит, а чьей рукой возжигается – неизвестно. В этих, барин, пещерах люди без одежды ходят, питаются злаками земными, и даже промеж себя редко общание имеют. Ну, к этакой жизни я еще не считал себя готовым, по той причине, что спервоначала надлежало плоть в себе добре умертвить. К тому же и на места эти не все одинако указывают; один говорит: «Дойдешь до Златоуста, вороти на сивер»; другие: «От Златоуста на восход ступай». Вот и удумал я идти сперва на Лупью, а там, буду, мол, жив, постепенно душу спасать стану.
И подлинно, только начал я силами владеть, не сказал никому ни слова, взял с собою часослов древний да тулупчик и скрылся из дому, словно тать ночью.
Шел я туда с месяц места, потому что от нас будет туда верст боле шестисот. Шел я Христовым именем, словно сам он с небеси меня подкреплял на подвиг душевный. Сказали мне, что там деревнишка такая есть – пермяки в ней живут – оттуда, мол, всякой мальчишка тебе укажет, как пройти к пустынникам. И точно, пришел я туда, спросил только старцев, мне и проводника ту ж минуту дали, и маточкой– такой канпасик есть крестьянский – снабдили [169]169
Маточкойназывается небольшой компас или, лучше сказать, грубо сделанная коробочка с крышкою; внутри коробки, под самою крышей, вделывается бумажный кружок, на котором означены страны света, на дне же ее прикрепляется железная шпилька, на которой вращается магнитная стрелка. Эта маточкасоставляет необходимую принадлежность всякого охотника между пермяками и зырянами. ( Прим. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]. Пермяки эти к старцам большое почитанье имеют, и не только сами их не трогают, а даже от полиции всячески укрывают. Причина тому, сударь, простая. У старцев и хлеб завсегда водится, и порох, и припас всякий, всего этого им довольно из окольных мест в милостыню присылают, ну, а пермяки народ бедный, хлеба у них или совсем не родится, или родится такая малость, что только по праздникам им лакомятся. Едят они совсем мало, а больше пьют; такая у них брага из овса делается: и хмельно, и питает. Хмель тем для него хорош, что словно как себя при нем забываешь, а болтушка эта мучнистая хоть и не больно сытна, а живот от нее довольно-таки пучит: ему это тоже на руку, потому что он хошь и не сыт взаправду, а все будто сыт. Одежи они тоже почти не знают; в самый сильный мороз на нем пониток из холста, только и всего. Какая же им, стало быть, причина старца тревожить, когда он от него, можно сказать, и продовольствие и промысел свой получает за то только одно, чтоб не мешать ему душу спасать?
Шли мы этак с час времени, и шли всё на лыжах, потому что простыми ногами в таких снегах и ходить невозможно. Хоть зима была уж на исходе (под благовещенье почти подходило дело), однако в тех местах снег даже не тронулся совсем. Шли мы сначала полем – этак с версту, – а потом пошел лес, да такой частый, заплутанный, что даже пройти трудно, не то что проехать. Дивное это дело; кажется, вот и жи́ло тут не далеко, человек, стало быть, действует, а в этих местах словно ноги человеческой не бывало: кроме звериного следу, все ровно и гладко.
Там, в самой чаше, наткнулись мы под конец на лачужку. Стояла она неподалеку от оврага, в котором речка Ворчан бежит; позади ее, саженях этак в двадцати, полянка расчищена; на речке меленка маленькая, по-нашему мутовка. Кажись бы, все хозяйство тут – как бы жилья не найти? Однако ж без проводника именно не сыщешь, по той причине, что уж оченно лес густ, а тропок и совсем нет: зимой тут весь ход на лыжах, а летом и ходить некому; крестьяне в работе, а старцы в разброде; остаются дома только самые старые и смиренные.
Старец Асаф, к которому я пристал, подлинно чудный человек был. В то время, как я в лесах поселился, ему было, почитай, более ста лет, а на вид и шестидесяти никто бы не сказал: такой он был крепкий, словоохотный, разумный старик. Лицом он был чист и румян; волосы на голове имел мягкие, белые, словно снег, и не больно длинные; глаза голубые, взор ласковый, веселый, а губы самые приятные.
Он меня согрел и приютил. Жил он в то время с учеником Иосифом – такой, сударь, убогонький, словно юродивый. Не то чтоб он старику служил, а больше старик об нем стужался. Такая была уж в нем простота и добродетель, что не мог будто и жить, когда не было при нем такого убогонького, ровно сердце у него само пострадать за кого ни на есть просилось.
Никому из пустынников не было ведомо, откуда он пришел и когда в лесах поселился, а сам он никому об этом не сказывал. Раз как-то, однако же, стал я об этом, любопытства ради, его спрашивать, так старик и невесть как растужился.
– Кая для тебя польза, – отвечал он мне (а говорил он все на манер древней, славянской речи), – и какой прибыток уведать звание смиренного раба твоего, который о том только и помыслу имеет, чтоб самому о том звании позабыть и спасти в мире душу свою? И кая тебе польза от того, что очам твоим раны мои душевные объявятся и гноище мое узриши? И станешь ли ты вестника, глашающего тебе весть добрую, вопрошать о том, откуду он, и не посадишь ли его, вместо того, за стол и не насытишь ли глад его? Аз есмь для тебя вестник добрый, аз душу твою обрел и из пламени адова исхитил ю, а ты мене же вопрошаешь, откудов я!
– Да хотелось бы узнать, отче святый, – отвечал я, – какими, то есть, путями ты ангельского жития похотел и суетою многомятежною и прелестьми житейскими возгнушался, возлюбив всем сердцем Христа и спаса нашего.
Но он только головой потряс да сказал мне, что житие его, яко сон блудницы, во мраке нощи прейде, и сам он, яко скоморох бесстудный, во тьме метахся.
– Да по крайности, скажи мне, как ты иночество получил? – спросил я.
– А как бы тебе сказать? – отвечал он, – пришед в пустыню, пал ниц перед господом вседержителем, пролиял пред ним печаль сердца моего, отрекся от соблазна мирского и стал инок… А посвящения правильного на мне нет.
На том мы с ним и покончили.
Время, которое я провел с Асафом в пустыне, самое для меня памятное. В ту пору не завелось еще в тех местах ни бесчинств, ни разврату; проводили мы дни в тишине, труде и молитве. А труд был один: книги божественные переписывали. Придет, бывало, весна, старцы, кои помоложе, сплывут с книгами вниз, да и продадут их там, а по осени домой с выручкой возвращаются. Разговоров промеж себя у нас было мало, разве что поучения отца Асафа слушали. Говорил он очень складно, особливо про антихристово пришествие. Он и выкладки такие делал, и выходило, что быть тому делу вскорости, однако вот и до сей поры не дождались.
Насчет антихриста, доложу я вам, вещь эта подлинно любопытная. У «особников» всякое почесть слово антихрист выходит, потому что вся эта механика, можно сказать, у него в руках. Недостанет у него в слове числа, он тебе прибавит букву, какую ему нужно; лишняя есть буква, он и отсечет, не задумается. А не то возьмет, примерно, хоть русское слово; не выходит оно по выкладке, он по-гречески переведет, и опять в числа. Бывает, что и так не выходит – он титлу прибавит: господин, или граф, или князь, или дух тьмы. До тех пор этак действует, покуда и подлинно антихрист выдет. На простой народ это большое действо имеет.
А впрочем, живучи в пустыне, и не до разговору, барин. Там человек совсем будто другой делается. Особливо летом. Выдешь это на лужайку: вверху синё, кругом лес неисходный; птица всякая тебе поет, особливо кукушечка; там будто заяц пробежит, а вдалеке треск: значит, медведь себе дорогу прокладывает. И ведь все слышно; слышно даже будто, как травка растет… Запах такой мягкий, милый, потому что все это дичь, все словно лесом, землею пахнет. И на сердце ни печали, ни досады, ни заботы нет; тут и неверующий в бога поверует. Это нужды нет, что край там холодный, что в нем больше тундра да мокрое место: лето прежаркое, и такие места боровые случаются, что, кажется, и не расстался бы с ними.
Или вот опять ветер гудёт; стоишь в лесу, наверху гул и треск, дождик льет, буря вершины ломит, а внизу тихо, ни один сучок не шелохнется, ни одна капля дождя на тебя не падет… ну, и почуди́шься тут божьему строению!
Как поживешь этак в пустыне да приходит иное время, что месяц-другой живого лица не увидишь, так именно страсть можно к такой жизни получить. Никто тебя не трогает, никакой тебе, стало быть, ниоткудова досадности нет, значит, бодр, не тосклив, всегда в своем виде. Древние отцы пустынники даже отвращение к миру получали: так оно хорошо в пустыне бывает. Оглядишься кругом, все так пространно: и в высь, и в ширь, и в глубь идет; всяка былинка малая, и та, сударь, жизнь имеет: ну, и восчувствуешь тут, что и сам ты словно былинка.
Хорошо тоже весной у нас бывает. В городах или деревнях даже по дорогам грязь и навоз везде, а в пустыне снег от пригреву только пуще сверкать начнет. А потом пойдут по-под снегом ручьи; снаружи ничего не видно, однако кругом тебя все журчит… И речка у нас тут Ворчан была – такая быстрая, веселая речка. Никуда от этих радостей идти-то и не хочется.
И как все оно чудно от бога устроено, на благость и пользу, можно сказать, человеку. Как бы, кажется, в таких лесах ходить не заблудиться! Так нет, везде тебе дорога указана, только понимать ее умей. Вот хошь бы корка на дереве: к ночи она крепче и толще, к полдню тоньше и мягче; сучья тоже к ночи короче, беднее, к полудню длиннее и пушистее * . Везде, стало быть, указ для тебя есть.
И народ-то там словно лучше, добрее. Напоследях и в нем порча заводиться начала, потому что стали там проходить возы с товарами на Вочевскуюпристань: [170]170
Устьвочевскаяпристань (Вологодской губернии) находится в верховьях Северной Кельтмы, впадающей в Вычегду. Товары, сплавляемые с этой пристани, преимущественно заключаются в разного рода хлебе и льняном семени, привозимом туда гужем из северо-западных уездов Пермской губернии: Чердынского, Соликамского и отчасти Пермского и Оханского. Вообще, Вологодская губерния изобилует судоходными и сплавными реками, особенно в северо-восточной части (уезды: Устьсысольский, Никольский и Устюжский), которые приносят пользу не столько для Вологодского края, в этой части безлюдного и негостеприимного, сколько для соседних губерний: Вятской и Пермской. Известно, например, что вся торговля северной части Вятской губернии почти исключительно направлена к Архангельскому порту, куда товары (хлеб и лен) сплавляются по рекам: Лузе (пристани: Ношульская и Быковская), Югу (пристань Подосиновская) и Сысоле (пристань Кайгородская). Ко всем этим пристаням ведут коммерческие тракты, весьма замечательные по своему торговому движению. К сожалению, должно сознаться, что этот факт, узаконенный естественною силою обстоятельств, обратил на себя еще слишком мало внимания. Так, например, дорога от городов: Орлова, Слободского и Вятки до Ношульской пристани находится в самом печальном состоянии, а от тех же городов до Быковской пристани почти вовсе не существует дороги, между тем как проложение до нее удобного тракта, по причине выгоднейшего ее положения, сравнительно с Ношульскою пристанью, было бы благодеянием для целого края. Вообще, изучение торгового движения по коммерческим трактам северо-восточной России, и в особенности Вятской губернии, и сравнение его с движением, совершающимся по трактам официяльным (почтовым), представило бы картину весьма поучительную. На первых – деятельность и многолюдство, на последних – пустыня и мертвенная тишина. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать по коммерческому тракту, издревле существующему между городами и уездами: Глазовским и Нолинским, и потом прокатиться по почтовому тракту, соединяющему губернский город Вятку с тем же Глазовом. На первом беспрестанно встречаете вы длинные ряды обозов, нагруженных товарами; там же лежат богатые и торговые села: Богородское, Ухтым, Укан, Уни, Вожгалы (последние два немного в стороне) – это центры местной земледельческой промышленности; на втором все пустынно, торговых сел вовсе нет, и в течение целой недели проедет лишь почтовая телега, запряженная парой и везущая два предписания и сотню подтверждений местным дремотствующим властям, да письмо к секретарю какого-нибудь присутственного места от губернского его кума и благоприятеля. Нельзя сомневаться, что торговые обороты много терпят от продолжительности времени, которая сопровождает сношения частных лиц. ( Прим. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]ну, знамо дело, постоялые дворы завелись, пошли барыши да расчеты, а допрежь того, кроме звериного промысла, никаких других делов народ этот и не знавал. Зверя там всякого множество: олени, лоси, лисицы, медведи, горностайки, даже соболи попадаются. А белка да зайцы просто кишмя кишат. И птица всякая стадами летает: рябцы, курочки белые (куропатки) – всего, кажется, и в жизнь не перестреляешь. Пермяки и зыряне целую зиму по лесам ходят; стрельба у них не с руки, а будто к дереву прислонясь; ружья длинные, по-ихнему туркойпрозываются; заряд в него кладется маленький, и пулька тоже самая мелконькая: вот он и норовит белке или горностайке в самый, то есть, конец мордочки попасть. Эта статья самая любопытная.
Прожили мы в этом спокойствии года три; все это время я находился безотлучно при Асафе, по той причине, что должен был еще в вере себя подкрепить, да и полюбил он меня крепко, так что и настоятельство мне передать думал. Однако этому делу статься было нельзя потому, что другие пустынники смотрели на нашу приязнь злобно. Человек их было с десяток и жили все от Асафа неподалечку: у кого в двух, у кого в трех верстах кельи были. Особливо отец Мартемьян был – старец преехиднейший – большую он над прочими силу имел, и даже против Асафа нередко их сомущал. Выходит, что вся эта братия только и держалась, покуда жив был старик.
Однажды приходит к нам в келью мужик – а привел его Мартемьян.
– Откудов, мол, и зачем? – спрашивает наш старик.
– А вот, – говорит, – с Зюздина [171]171
Бывшая Зюздинская, ныне Порубовская, волость находится в Глазовском уезде Вятской губернии, неподалеку от описываемого здесь места действия, которое составляет как бы угол, где сходятся границы трех обширнейших в Русском царстве губерний: Вологодской, Вятской и Пермской. ( Прим. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
– Зачем же к нам пожаловал?
– Да поселиться бы здеся желательно, отец святой. Подати добре одолели, да вот и парнишку ноне в некрута́ тащат, а идти ему неохота, да и грех.
– Так ты семьянистый?
– Да, мол, семья есть; жена-старуха, две дочки-девки да трое сынов.
– Где ж ты поселишься?
– Здесь вот, около вас бы желательно; я уж и на деревню к пермякам ходил; они говорят: «Пожалуй, заводись: куды нам эко место!»
– Так ты, стало, от податей бегаешь?
– Да оно точно, что тово… подати больно уж совсем одолели… [172]172
Ревизские сказки Порубовской волости Глазовского уезда и Юксеевской – Чердынского могут засвидетельствовать о чрезвычайном количестве крестьян, находящихся в безвестной отлучке. Замечательно, что в Вятской губернии, где подати везде выплачиваются бездоимочно, только Порубовская и Трушниковская (Слободского уезда) волости считают за собой постоянную недоимку. Впрочем, накопление недоимок в последней волости зависит от причин особых, сюда не относящихся. ( Прим. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]
– Да что, святой отец, – вступился тут Мартемьян, – словно ты к допросу его взял! Если ты об вере радеешь, так не спрашивай, от какой причины в твое стадо овца бежит, потому как тебе до эвтого дела касательства нет.
Начался у нас совет. Сколько ни отстаивал Асаф свою правду, а Мартемьян перемог. Крупненько-таки они, сударь, поговорили, и если б не я, так, может, этот Мартемьяшка, сосуд сатанин, и руку бы на старика поднял.
– Ты, – говорит, – вот семьдесят годов здесь живешь, а какой от тебя святой вере прибыток? Этакое дело большое затеяли, а чихнуть здесь боимся; еще где становой запах даст, а мы уж в леса бежим, от него, от антихриста, хоронимся. Нет, отец, стар ты стал. По-нашему, это дело так вести следует, чтоб он носу своего здесь не показал, а показал – так чтоб туркаего в разум привела. Вот, посмотришь, на Пильве старцы живут: и видно, что народ крепкий. По этой причине они и стороной всей завладели, а ты только сумненье кругом посеял. Какие же это дела?
Старик только стонал да крестился.
– Ну, – сказал он под конец, – вижу, что и подлинно я стар стал, а пуще того вам не угоден… Знаю я, знаю, чего тебе хочется, отец Мартемьян! К бабам тебе хочется, похоть свою утолить хощешь у сосуда дьявольского… Коли так, полно вам меня настоятелем звать; выбирайте себе другого. Толь ко меня не замайте, Христа ради, дайте перед бога в чистоте предстать!
Начали было уговаривать его не оставлять братию: иные искренно, а бо́льшая часть только для виду, потому что всем им из лесу вон хотелось. Кончилось, разумеется, тем, что выбрали из среды своей того же Мартемьяна, который всю смуту завел.
Вскоре после того и преставился старец Асаф. Словно чуяло его сердце, что конец старой вере, конец старым людям пришел.
После него все пошло по-новому. Сперва поселился Мокей зюздинский с бабами, а за ним семей еще боле десятка перетащилось. Старцы наши заметно стали к ним похаживать, и пошел у них тут грех и соблазн великий. Что при старике Асафе было общее, – припасы ли, деньги ли, – то при Мартемьяне все врозь пошло; каждый об том только и помыслу имел, как бы побольше милостыни набрать да поскорее к любовнице снести.







