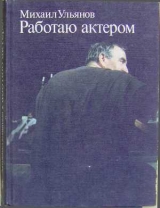
Текст книги "Работаю актером"
Автор книги: Михаил Ульянов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
И дома и на съёмках, раздумывая о роли, я, в общем-то, правильно представлял её сущность. Я понимал Дмитрия как человека, доведённого до отчаяния всем страшным укладом жизни. Он погибает, так ничего и не доказав. И попытка самоубийства – это бунт, это крик, отчаяние, это невозможность поступить по-иному. Загубленный, замученный человек хочет любви от людей, помощи от бога. Но люди не понимают друг друга, люди убивают друг друга.
И бог тоже не помогает. А Митя правдолюбец, и если он буянит, то от того, что никто не верит ему, не понимает его. Он мучительно ищет правду, ищет настойчиво, ищет в людях, в их взаимопонимании, казнит себя за свои ошибки и пороки, сам себя казнит больше всех других и от отчаяния и муки идёт на преступление, А в тюрьме приходит к окончательному выводу – в любви к людям надо искать правду. По существу, весь ход роли – это непрерывное исступлённое стремление осмыслить одну тему: почему люди так плохо, так пакостно живут? Почему люди так ненавидят друг друга? Это главная тема роли. И к себе он прислушивается: что же такое с ним происходит, почему он-то всё путает, неправильно, не по-человечески поступает, и ещё мучительнее становятся его ощущения.
В поисках пути к характеру Мити, в поисках его смысла, в попытке постичь мировоззрение моего героя я пришёл даже к такому сравнению: в Мите есть что-то от Мышкина. Может быть, эту мысль можно опровергнуть, не принять. В конце концов я не предлагал свою концепцию, я, как актёр, искал почву под ногами, чтобы понять этот прекрасный и страшный характер. Важно, что это сравнение мне давало какое-то новое ощущение роли.
Ведь действительно Митя живёт в мире чудовищного отчуждения людей друг от друга. Люди сочиняют философию, угодную своему индивидуализму. В келье у старца Зосимы высказывается мысль: «…уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже антропофагия».
«– Позвольте, – неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Фёдорович, – чтобы не ослышаться: «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника!» Так или не так?»
Сколько здесь потрясения этим холодным заявлением Ивана, сколько содрогания Мити, чистого человека, от этой жуткой мысли, сколько испуга! Да, да, чистого, ибо его размашистый характер простодушен и наивен.
«А вы у нас, сударь, всё равно что малый ребёнок. И хоть гневливы вы, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит бог», – говорит ему Смердяков.
«Во всяком случае, здесь было много и простодушия со стороны Мити, ибо при всех пороках своих это был очень простодушный человек», – утверждает сам автор.
И как же этот открытый, простодушный человек беззащитным сердцем ударяется об острые углы людской разобщённости, буйствует, ищет связей между людьми! Он изнемогает от непонимания мира. «Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал.
Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека! Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды».
И чем больше я погружался в этот смятенный мир, тем больше меня била дрожь. Я старался передать эту смятенность и всё больше кричал и надрывался. Сердце обливалось кровью, мне хотелось как можно глубже показать все мучения Митеньки, а на экране метался орущий непонятно о чём человек. Руки опускались. Я заходил в тупик. Даже не заходил, а залетал в судорогах, с неистовым рёвом. А где выход?!
Выбраться из этого бурлящего потока я уже не мог. А Иван Александрович, понимая мир Достоевского как неистовое столкновение страстей, требовал от актёров предельной отдачи, темперамента, неистового жития. Он был сам полон страстей, которые в нём бурлили и зачастую выливались через край.
О моём недовольстве собой, о мучительности поисков лучше всего могут сказать те краткие записи, которые я и на этот раз вёл во время съёмок.
25 января 1967 г.
3-й съёмочный день
Продолжение съёмок Лягавого. Страшно хочется скорее посмотреть материал – я не знаю, как сниматься. Страшно наиграть. Вроде внутренне подготовлен к сцене – внутренне подготовлен снять глубже. А начинается мотор, и идёт жим. Жим от характера, который мне представляется, за характером можно упустить мысль, содержание роли. А за мыслью теряется характер. А впрочем, это всё чепуха! И мысль и характер едины.
Пырьев требует страстей. А может быть, это сторона, которая сейчас не нужна и смешна? Чёрт её знает. Игра втёмную, вслепую.
26 января
4-й съёмочный день
Сегодня закончили сцену у Лягавого. Скорей смотреть надо материал. Где же грань, где идёт Достоевский и где наигрыш, дурной вкус, старомодный театр? Современная манера игры? А предельная насыщенность героев Достоевского? Ведь действительно, фантасмагория. Митя едет к чёрту на рога и находит человека, от которого вся жизнь зависит, мертвецки пьяным; измучившись, засыпает, утром, проснувшись, опять видит Лягавого пьянее вина, и тот ещё называет его подлецом. Ну не чертовщина? И в каждой сцене есть такая фантасмагория. И как же чувствовать и как надо играть, чтобы передать эту реальнейшую фантасмагорию? Реализм, доведённый до высшего предела, до чертей (как у Ивана).
7 февраля
7-й съёмочный день
Снимали сцену перед Лягавым – дома с Марфой Осиповной. По логике поведения сняли сцену вроде правильно. Митя весёлый, полон надежд, летящий к счастью. Всё так. Но когда подумаешь о всей глубине образа, темы Достоевского, берёт оторопь. Что-то слишком просто. А так ли надо? Как передать всю психологическую борьбу и муку Мити? И как сделать, чтобы это было понятно и больно сегодняшнему зрителю? Иван в этом смысле современнее. С его эгоцентрической философией – всё дозволено, он, вероятно, ближе современной молодёжи. Смотрели первый материал. Манера игры – игры острой и броской, с глубиной, наверное, правильная. Но всё на грани возможного, на грани – ещё чуть-чуть, и всё будет за пределом. Или перегиб, или недобор. Где взять силы – понять всю глубину, весь трагизм Мити, всю философию.
23 марта
12-й съёмочный день
Переснимали сцену «кухня» – пестик. Первый раз сняли сцену, и она оказалась очень плохой. Во-первых, ничего не понятно по линии логики. С чем влетел, почему, какой, что знает, чего не знает – ничего не ясно. Отсюда неясность поведения. Во-вторых, я прилагал так много сил, так старался, так устал, а на экране это всё выглядит убого и абсолютно не впечатляет и даже раздражает. И в-третьих, сняли общим планом, и ни черта не понятно. Самое неприятное, что и сегодня, при пересъемках, мы сняли почти так же. И. А. давит, давит и давит. И опять вообще, и опять нажим.
И нет разнообразия, нет неожиданности. Всё снимаем поверхностно, лобово, не то, что написано. Это может быть ужасно. Снимаем обозначения чувств, иероглифы. Нет многосложности, нет многоплановости, нет неожиданности. И я не знаю, как этого добиться.
12 апреля
18-й съёмочный день
Снимали вход Дмитрия в дом Фёдора Павловича. Где Грушенька? Опять крик. А как по-другому?
13 апреля
19-й съёмочный день
Сцена, когда Дмитрий бьёт отца, и уход. Темперамент, а где мысль?
26 апреля
22-й съёмочный день
Сняли сцену, когда Митя вынимает пестик у окна и отец зовёт Грушеньку. Один режиссёр сказал: я не понимаю, за что Митя бьёт этого симпатичного старика. Хорошенькое дело! Если Митя будет только обезумевший буян и слепой ревнивец? И всё?
27 апреля
23-й съёмочный день
Продолжаем сцену в тюрьме. В этот день что-то новое появилось. Наив и простодушие Мити. И Пырьев был согласен. Как на экране получится? И всё-таки идёт театр, примитив. Нет оригинальных решений.
15 мая
30-й съёмочный день
Досняли сцену у Самсонова и пересняли один план в тюрьме с Грушенькой. Тюрьма получилась очень хреновой. Так и лезет декорация.
Смотрел часть материала. Сцену драки с отцом. Это получилось страшновато. Может быть, как говорят некоторые, очень страшно. Но мне кажется, что это хорошо. А в тюрьме обычные планы. Вероятно, тюрьму будут переснимать. Пусть Митя будет наивным. Но это не должно выглядеть глупым. Чтобы не был дурак. Сумасшедший дурак. Это ещё хуже. Это крайность. Чистый, измученный проклятыми вопросами человек, который наивно полагает, что люди должны жить мирно, а кругом ужас.
19 июня
38-й съёмочный день
Продолжали сцену в тюрьме. Сняли два плана. Очень медленно. Сегодня поспорил с Пырьевым. Я отстаивал то, что актёр имеет право предлагать. Сказал, что я не первый раз снимаюсь. А Пырьев ответил, что это ему надоело, я всё время лезу со своими предложениями, я, дескать, и сам очень хочу, чтобы Митя получился, и что я тоже народный артист. Но как с ним разговаривать? Либо надо уходить с роли, чего, конечно, я не сделаю, либо прекратить спорить, так как Ивана не переспоришь и осложнять обстановку на съёмках не в моих правилах и силах. Значит, нужно искать выход в подобной нелёгкой обстановке. Ко всему, я заболел гриппом и не знаю, смогу ли завтра приехать на съёмку. Сегодня еле дотянул съёмочный день.
8 января 1968 г.
71-й съёмочный день
Вот уже год, как мы снимаем «Братьев», А впереди осталось самое главное и самое важное. А Иван Александрович плохо себя чувствует. Сил у него всё меньше. Такого у меня’ в кино ещё не было. И с зарплаты нас сняли, потому что кончился договор, И вот теперь надо снимать самое главное. И. А. опять слёг на две недели. И когда мы закончим картину? Сегодня снимали сцену в беседке. Решается она, по-моему, правильно. Вот как бы доиграть то наивное, доверчивое. А это как раз в сцене есть. Сняли начало сцены.
15 февраля
72-й съёмочный день
Всё бесконечно осложнилось. 7 февраля умер Иван Александрович. Не выдержало сердце. Картина остановилась.
Фильм, давно задуманный режиссёром, в самый разгар съёмок потерял своего руководителя. Многое уже было сделано, многое задано, многое сложилось – пырьевское решение уже предопределило фильм.
Руководство студии не решилось передать картину какому-либо другому режиссёру – замысел И. А. Пырьева был очень своеобразен и не каждый режиссёр мог его принять безоговорочно. Но и не переснимать же огромное количество материала… И тогда руководство «Мосфильма» решилось на ответственный, но правильный шаг: закончить картину предложили мне и Кириллу Лаврову. Ответственный потому, что ни я, ни Кирилл никогда не стояли по ту сторону камеры, и, значит, тут была немалая доля риска. А правильный потому, что никто так, как мы, актёры, не был заинтересован в судьбе этой картины. Никто так не хотел её закончить, ибо много мы вложили в неё. И ещё потому, что год работали с Иваном Александровичем и знали, чего он добивался, привыкли к его почерку, к его манере. Потому-то была надежда, что нам удастся дотянуть картину, не меняя её стилистики.
Мы согласились на это страшноватое для нас предложение. Другого выхода не было. В этот сложнейший момент нам очень помог Лев Оскарович Арнштам. Он был назначен официальным руководителем постановки. Как опытный режиссёр, Лев Оскарович был настойчив и внимателен к нам в подготовительный период, но совершенно не заглядывал в павильон на съёмку. Зная меру ответственности, которая на нас легла, он понимал, что при его появлении в павильоне мы начнём оглядываться на него и потеряем остатки решительности, какая ещё у нас была.
Досняв оставшиеся незаконченными несколько эпизодов, мы приостановили съёмки, чтобы подготовиться к работе над основными сценами. Наконец, более или менее подготовившись, мы приступили к съёмкам.
Естественно, что-то мы во время подготовки и во время съёмок делали по-своему. Но это делалось в рамках основного решения: мы не считали себя вправе, да, пожалуй, и не сумели бы строить эпизоды иначе, чем уже развёрнутые игровые сцены в данной декорации, «сгущать» изобразительное решение или же применять несвойственные Пырьеву монтажные приёмы. И не потому, что новое не склеилось бы, не совместилось бы с ранее сделанным. И не из одной только доброй памяти нам хотелось донести замысел Ивана Александровича. В меру наших сил и возможностей мы старались, чтобы зритель ощутил тоску по сильным характерам, могучим страстям, всеохватывающим переживаниям, полюбил бы открытость в поиске правды, как бы ни был тягостен и горестен этот поиск, то есть добивались того, чего хотел, как нам казалось, И. А. Пырьев.
Мы доснимали большие эпизоды, монтировали немало сцен и не претендовали на самоличное авторство. Хотели развить то, чего добивался Пырьев. Пожалуй, сами мы могли бы совсем иначе подойти и к роману и к Достоевскому вообще, но нас поддерживала убеждённость, что замысел Ивана Пырьева интересен и страстен.
Желая этот замысел сохранить, мы шли прежней дорогой, но своими шагами. Особенно это коснулось характера Мити. Ещё в долгих разговорах с Пырьевым мы приходили к горькой для нас обоих мысли, что мой Митя перехлестнут – не хватает в нём человеческой пронзительности. С экрана идёт один крик. Теоретически я и Иван Александрович это понимали, а начинались съёмки, и, постепенно накаляясь, я опять начинал безумно кричать. Бился я в этой ловушке всё время.
И вот, готовясь к съёмкам сцен в Мокром, я ещё и ещё раз перечитывал эти страницы. В романе у Мити выспренняя речь, «опрокинутое лицо». И вдруг я понял, сердцем понял, что не нужно ни вытаращенных глаз, ни сверхчеловеческого темперамента. Меня как бы прожгла одна ясная и такая будто на поверхности лежащая тема. После ареста и первоначального допроса Митя так потрясён всем этим, что физически смертельно устаёт и просит разрешения немного отдохнуть. Ему разрешают, и он на короткое время засыпает на сундуке. И приснился ему сон: словно он едет через погорелую деревню, а по обочинам дороги стоят бедные и голодные мужики, измождённые бабы, и слышно, как плачет дитя.
«– Да отчего оно плачет? – домогается, как глупый, Митя. – Почему ручки голенькие, почему его не закутают?
– А иззябло дитё, промёрзла одежонка, вот и не греет.
– Да почему это так? Почему? – всё не отстаёт глупый Митя.
– А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят.
– Нет, нет, – всё будто ещё не понимает Митя, – ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от чёрной беды, почему не кормят дитё?
И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить и что именно так и надо спросить. И чувствует он ещё, что поднимается в сердце его какое-то никогда ещё не бывалое в нём умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и чёрная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слёз от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским».
И, как часто бывает, в долгих поисках самой сути, самой сердцевины роли, неожиданно натыкаясь на неё, несколько недоумеваешь: как же ты её раньше-то не нашёл? Так было и здесь. Не темперамент Мити, не его карамазовский характер, не его безумную любовь и муку надо передать. Это всё написано, но это только скелет и мясо роли. А душа, сердце вот в этом: «…хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и чёрная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слёз от сей минуты ни у кого…»
Вот самая главная трагедия Митеньки. Вот почему он кричит: не от характера, а от боли, потому что слёзы льются рекой, а он не знает, как их остановить. Через такое ощущение мира воспринимаются им и Грушенька, и Катерина Ивановна, и брат Иван. Всё остаётся: и характер и страсти, но и всё освещается каким-то иным, глубинным светом.
Митя порывистый, с ясными, как ему кажется, устремлениями, бросается, чтобы ухватиться за человеческую руку, а натыкается на острые углы и с удивлением видит на своих руках кровь. Он ребёнок. Он верит, что взрослые поймут его и помогут ему. Разве можно равнодушно пройти мимо или обидеть его?
Трагизм в том, что слова Мити, отразившись от равнодушных людей, возвращаются к нему, оправленные в официальный холодок бессердечия, и он не может узнать в них, в отражённых, свои бесхитростные и доверчивые чувства; трагизм в обострённой Митиной жажде контактов человеческих. «Я, человек, достоин того, чтобы меня поняли», – говорит он.
Это чувство вообще удивительно сильно в героях Достоевского. Они кажутся необычными, но только потому, что поставлены писателем в условия, гиперболизирующие чувства, эмоции. Хотя это фантастическое преувеличение всегда оправдано психологически. Герои Достоевского предельно искренни в самораскрытии – искренни до беспощадности. Именно эта беспощадность больше всего подкупает.
Возможно, она преувеличена, но преувеличение не убивает достоверности. Достоевский не забывает главного – правды характера. Даже тогда, когда он показывает самое отвратительное в человеке, он не теряет веры в возможность нравственного очищения, в торжествующую силу добра.
Митя Карамазов сохранил в себе детскую наивную способность удивляться и сострадать – удивляться, отчего плачет дитё, почему люди не обнимаются. Не за то ль истерзала его жизнь, исчернила его? Да так ведь и не одолела присущих ему наивности и сострадания. Он не пришёл к покорной безысходности. Его нельзя причислить к разряду кротких, слабых людей. Ему предназначен другой путь, путь людей сильных, волевых, бунтующих. Он не желает покоряться судьбе. Проследив возрождение души Мити от мрака к просветлению, мы видим, как мучительно и трагически искал он своё солнце. Я не говорю здесь о богоискательстве, о раздвоенности личности самого писателя. Меня чрезвычайно волнует другое: правда человеческих характеров Достоевского, предельная обнажённость внутреннего мира героев.
История Дмитрия Карамазова потрясает глубиной проникновения в характер человека, потрясает мастерством, с которым она написана. А ведь если обнажить сюжетную схему, это история несчастного влюблённого, у которого папаша пытается отбить возлюбленную; из-за этой женщины и каких-то проклятых денег он, никого не убивая, обвиняется в убийстве и осуждается. Может ли такая, в сущности, примитивная детективная история взволновать современного человека? Вот я и пытался в характере Мити ухватиться за важную, основную для меня тему.
Не знаю, насколько мне это удалось, кто-то принимает мою работу, кто-то нет. Я к этому отношусь совершенно трезво, понимаю, что иначе не может быть, потому что у каждого в Достоевском свой горизонт, и, естественно, у одних он совпадает с моим, у других – нет.
Мотив непонимания сложности человеческих взаимоотношений в этом мире, сложности судеб может волновать каждого отдельного человека. Кто не сталкивался с почти трагическим непониманием твоей беды, твоего горя?! Редкие люди умеют болеть чужой болью.
И мне показалось важным сыграть в Мите Карамазове историю человека, который ищет понимание, который понимает боль других, но хочет, чтоб его тоже поняли. Он хочет, чтобы люди стали добрее друг к другу, чтобы не жили только собой, в своей скорлупке. И от этого он мечется. Так как, несмотря на свой буйный нрав, он нежен сердцем, то не может мириться с уставом этой жизни и от этого бунтует, от этого мучается. Иван Карамазов в принципе противоположен Дмитрию.
Я подумал, что история борьбы за человечность взаимоотношений, за доброту, отзывчивость, внимательность и чуткость должна прозвучать как нельзя более современно. Ведь мы живём в такой скоротечный, судорожный век, когда месяцами даже не находишь времени позвонить друзьям. Не потому, что плохо к ним относишься, – просто не успеваешь. В череде бесконечных повседневных дел не только о других – о себе некогда подумать. Мы редко встречаемся, редко беседуем. На ходу, в трамвае, в машине, на студии перекидываемся всего лишь двумя-тремя словами. Помню, у Куприна кто-то из героев говорит, что, мол, в их время люди любили разговаривать друг с другом, а сейчас не умеют.
Без Ивана Александровича мы сняли три эпизода, очень важных не только с точки зрения фабулы, но и всей концепции фильма, – «Мокрое», «Суд над Митей Карамазовым» и «Разговор с чёртом».
Мне трудно сказать, насколько удалось нам это сделать. Предполагается, что те, кто участвует в съёмках картины, обязательно должны быть единомышленниками. Они должны быть со-причастны к единому замыслу, который в будущем определит успех произведения. Или неуспех его.
Мы были единомышленниками. Нас подкупал неукротимый темперамент Пырьева. Мы разделяли его взгляды на творчество Достоевского, на то, какими должны быть Карамазовы на экране. Его сверхзадача – раскрыть в «Карамазовых» беспощадную любовь к человеку – стала нашей общей осознанной целью.
Режиссёр предполагал строить народную общепонятную картину: яркое, вызывающее бурную реакцию зрелище.
Многочисленные отклики зрителей с первого показа картины говорят о любопытном: люди, сжившиеся с романом Достоевского, фильм приемлют как один из возможных подходов. Много хуже встречают экранизацию единожды прочитавшие оригинал. Сильно и глубоко задевает картина тех, кто Достоевского толком не знает.
Не к этим ли зрителям обращался Иван Пырьев – не побудит ли их новая картина пристальней вглядеться в классику и разглядеть в ней себя? Три серии «Братьев Карамазовых» подтверждают такое понимание. Разве это малого стоит? По-моему, предельно злободневно – убедить нашего современника, нашего соотечественника, что он не обеднел духовной содержательностью; черты богатства внутреннего мира, подмеченные Достоевским, – его черты, как бы ни меняло время условия существования.







