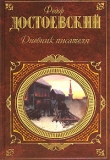Текст книги "Том 8. Рассказы, очерки, фельетоны, статьи, выступления"
Автор книги: Михаил Шолохов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Из речи на похоронах А. Н. Толстого*
Большую потерю понес наш народ. Сильна горечь утраты. Умер большой писатель, посвятивший всю свою жизнь, свой могучий талант родному народу.
Алексей Толстой – писатель большой русской души и разностороннего яркого дарования. Он находил простые, задушевные слова, чтобы выразить свою любовь к советской отчизне, к ее людям, ко всему, что дорого сердцу русского человека. Он находил страстные, раскаленные гневом слова, клеймя ими фашистских извергов, которые пытались надеть ярмо раба на русского человека, на советских людей.
В благодарной памяти народа не забудутся слова любви и веры, сказанные писателем в грозные дни, которые переживала наша родина.
1945
Победа, какой не знала история*
(Из статьи)
Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941–1945 годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала побед более блистательных, и ни одна армия, кроме нашей армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия.
В Восточной Пруссии после взятия нашими войсками города Эйдткунена на стене вокзала, рядом с немецкой надписью «До Берлина 741,7 километра» появилась надпись на русском языке. Размашистым почерком один из бойцов написал: «Все равно дойдем. Черноусов».
Какая великолепная уверенность в этих простых словах русских солдат! И они дошли, да еще как дошли, навсегда похоронив под развалинами разбойничьей столицы бредовые мечтания гитлеровцев о мировом господстве.
Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии.
1945
Речь перед избирателями в станице Вешенской*
Товарищи избиратели! Разрешите поблагодарить за высокую честь и доверие, которые вы мне оказали, выдвинув своим кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
Мне приятно выступать перед вами – моими одностаничниками. Все вы меня знаете хорошо, и я вас отлично знаю каждого. Поэтому я не буду говорить о себе. Скажу несколько слов о предстоящих нам с вами задачах. Советское правительство и наша партия требуют от нас скорейшего залечивания ран, нанесенных войной. Надо приложить все старания к восстановлению разрушенного хозяйства. Возрождая сельское хозяйство, тем самым мы усилим мощь нашей родины.
Нам, вешенцам, помимо общих задач, которые мы будем решать вместе со всем народом, предстоит возродить былую славу и красоту своего района. На возрождение Вешенского района правительство отпустило большие средства. Но надо еще много приложить сил и старания для использования местных возможностей. Наша задача – в ближайшие год-два превратить разрушенную Вешенскую станицу в красивую, благоустроенную станицу, какой она была в довоенные годы.
Депутатские обязанности сложны. Депутат должен быть чутким ко всем просьбам и жалобам избирателей. Депутат – активный деятель, ревностный наблюдатель того, как на местах проводятся в жизнь решения правительства.
Я обязуюсь служить вашим интересам. Моя основная профессия – писатель. Я на литературном поприще буду работать так, чтобы вам не было стыдно за меня.
1946
Великий друг литературы*
Со смертью Михаила Ивановича Калинина, кончину которого с глубокой скорбью оплакивает сейчас весь советский народ, наша литература потеряла великого друга и подлинного, строгого ценителя писательского труда.
Воспитанный на русской классической литературе, безупречно знавший ее и до конца жизни любивший лучшие ее творения чистой, по-юношески свежей любовью, Михаил Иванович всегда проявлял живейший интерес и к молодому слову современных писателей.
Всего лишь два месяца назад мне довелось видеться с Михаилом Ивановичем. Внимательно расспросив о моих творческих планах, о том, как идет работа над романом «Они сражались за Родину», он сказал:
– Я давно хотел вас видеть, чтобы поговорить о вашей книге. Признаться, я побаивался, как бы вы, работая над романом об Отечественной войне, не упустили из виду следующего, как мне кажется, весьма важного обстоятельства, – и Михаил Иванович подробно изложил и обосновал, что, по его мнению, должно бы быть отображено в будущей книге.
Когда в ответ я сказал, что это входит в мои замыслы и что я непременно, в меру моих сил, постараюсь об этом написать, Михаил Иванович, сворачивавший папироску, исподлобья, из-под блеснувших очков весело взглянул на меня и, улыбнувшись милой стариковской улыбкой, как бы озарившей на миг все его лицо, сказал:
– Ну, вот и хорошо. Очень хорошо! Стало быть, опасения мои были напрасны. – И, уже посерьезнев, продолжал: – Поймите, мы, читатели, хотим от вас, писателей, не просто книг, а хороших книг, глубоко и всесторонне отображающих нашу жизнь. Этим обстоятельством и объясняется мое, так сказать, «вмешательство» в ваши планы. А о таком грозном событии, как минувшая война, из которой наш народ вышел с победой, с великой честью, мы тем более хотим читать настоящие книги, такие книги, которые жили бы, ну, скажем, десятилетия, если не говорить о большем. А то ведь как у некоторых писателей получается? Не выносил, не выстрадал, не обдумал как следует, поспешил, и вот, извольте, готова книга-поденка, а то, чего доброго, и две в год. А ты ее сегодня прочитал, а назавтра, смотришь, уже забыл этого капитана или лейтенанта – основного героя произведения – и героиню забыл, и фамилии их не помнишь, и содержание книги с трудом восстанавливаешь в памяти… Прошли перед тобой не живые люди, а серые, бесплотные тени, как же их упомнить? А если к этому добавить еще плохой язык автора и далеко не безупречную форму произведения, то и помнить-то незачем. Вот и выходит, что труд типографских рабочих, издательского аппарата, бумага, средства – все затрачено напрасно. Бесплодно будет потрачено и дорогое время читателей.
Недавно один писатель прислал мне пухлую книгу, изданную областным издательством, и письмо. В письме жалуется, что Союз писателей его затирает, не выдвинули книгу на соискание Сталинской премии, а книга, по его словам, достойна премии. Хоть и плохо у меня со зрением, но прочитал я этот объемистый труд. Прочитал и не ответил автору, – Михаил Иванович безнадежно махнул рукой, заулыбался. – Нехорошо, конечно, поступил, но иначе не мог. Книга не только Сталинской премии не достойна, но не достойна даже издания. Что же отвечать такому автору, у которого таланта ни на грош, а самомнения хоть отбавляй? Он, пожалуй, и мне бы не поверил. А вот старому умному писателю, который тоже не так давно прислал мне свою новую, но плохую книгу, я ответил… Ответил, что книга плохая, холодная. Так и сказал: плохая книга!
Михаил Иванович помолчал и, постукивая по столу пальцами, улыбаясь чему-то, может быть своим воспоминаниям, продолжал:
– Лет около пятидесяти тому назад, в тюрьме в Тифлисе, попалась мне книга известного писателя. В камере я был один, и книга у меня была одна. Читал я ее и перечитывал буквально десятки раз! Казалось бы, надо на всю жизнь запомнить эту книгу! А получилось так: только вышел на свободу и тотчас же забыл! И перечитать за всю жизнь, знаете ли, ни разу не потянуло. Не настоящая книга мне тогда попалась… А вот Толстого или Чехова раз прочитаешь и на всю жизнь запомнишь, перед глазами стоит. Станешь перечитывать – все знакомое, словно не сорок лет назад читал, а только вчера… Правда, бывают и у «бессмертных» писателей такие произведения, что прочитаешь труд, по форме совершенный, но написанный равнодушной рукой, и у тебя на душе становится холодно, вот так холодно, как будто руку на мрамор положил…
Михаил Иванович положил на стол свою маленькую, старчески сухую руку, и так выразительно и впечатляюще было это скупое, подчеркивающее высказанную мысль движение, что на нас, присутствующих, словно бы пахнуло мертвящим холодком безжизненности мрамора.
– А хорошая книга, по-моему, та, у которой под обложкой жизнь пульсирует, как кровь под кожей, которая запоминается если не навсегда, то надолго, которую еще раз захочется перечитать… Чеховскую «Степь» вы помните? – спросил, оживляясь, Михаил Иванович и с увлечением заговорил о Чехове, Толстом, Горьком.
Потом он пытливо расспрашивал о жизни колхозников на Дону и, вспомнив свою поездку на фронты гражданской войны, задумчиво сказал:
– Хороший там народ, как и везде у нас. С таким народом и воевать и строить можно. Особенно хороши у вас там женщины: трудолюбивые, упорные, с характером. Тогда, бывало, они при встрече со мной не ныли, не плакали, что вот, мол, ситца нет, мыла нет, иногда, когда уже сильно за живое брало, помню, поругивались… основательно поругивались… – И, посмеиваясь, прищурившись с эдакой крестьянской, непростой хитрецой, сказал: – Что же, по-моему, лучше выругаться, когда невтерпеж, чем ныть и хлюпать, а? Как вы думаете?
С любовью говоря о несокрушимой жизнеспособности нашего народа, Михаил Иванович рассказал о таком случае:
– …Тогда же, в двадцатых годах, в ваших краях проездом заехал я как-то на пасеку. Война только кончилась, пасека разорена, медком-то побаловались и белые и наши… А пасечник-старик встречает меня веселый, оживленный. Спрашиваю: «Ну, как живешь, дедушка?» – «Хорошо, Михайло Иваныч!» – «Чем же хорошо? Война-то разорила?» – «Тем и хорошо, что разорила, да не совсем: из сорока ульев один остался, и то – слава богу! Семья в этом улье могучая, скоро пчелки отраиваться будут. Приезжай, Михайло Иваныч, годика через три, пасеку не узнаешь, а сотовым медом дорогого гостя и сейчас угостить могу»…
Прощаясь со мной, Михаил Иванович спросил, когда я думаю закончить первую книгу. Я назвал приблизительный срок.
– Тогда я еще дождусь и почитаю, – сказал он. – А впрочем, вы не торопитесь и не особенно считайтесь с нашим читательским желанием: наше дело жать на писателя, чтобы книга была поскорее, а ваше дело – создать такую книгу, чтобы она была достойна внимания народа, которому вы служите. В конце концов, за книгу будете отвечать вы, а не читатель. Об этом не забывайте! – напутствовал меня Михаил Иванович.
Сейчас, когда еще свежи горечь и боль понесенной утраты, вспоминаются эта последняя встреча с Калининым и рассказанный им разговор со стариком пасечником. И невольно думается: кипит в светлом и чистом созидательном труде огромный советский улей, восстанавливает после войны свое хозяйство наша могучая родина. Пройдут многие годы, и потомки наши, проходя Красной площадью и склоняя головы перед Мавзолеем величайшего из людей нашей эпохи, с любовью и благодарностью остановятся и перед могилой того, кто всю свою жизнь отдал на служение родине, был верным товарищем Ленина и Сталина в их борьбе за счастье людей на земле.
1946
Слово о Родине*
Зима. Ночь…
Побудь немного в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг, закрой глаза, вспомни недавнее прошлое, и мысленным взором ты увидишь:
…Холодный, белесый туман призрачно клубится над лесами и болотами Белоруссии, над пустыми, давно покинутыми блиндажами, заросшими пожухлым папоротником, над обвалившимися траншеями и налитыми ржавой водой стрелковыми ячейками. Тускло мерцают на дне их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов…
Под густым северным ветром клонят вершины и глухо шумят иссеченные осколками сосны Смоленщины и Подмосковья.
Споро идет белый, пушистый снежок, словно спешит прикрыть истерзанную войной, священную для нашего народа землю в окрестностях бессмертного города Ленина.
Солнечные тени скользят по воскресшим полям Украины, много раз перепаханным снарядами, все еще помнящим громовые гулы невиданных боев.
Возле Курска и Орла, возле Воронежа и Тулы над исконной русской землей, три года стонавшей под тяжестью десятков тысяч танков, стелется косая метель; падают с деревьев последние, сожженные заморозком листья, и всюду – в полях, на большаках и проселках, вдоль и поперек, шаг за шагом исхоженных терпеливыми ногами нашей лучшей в мире пехоты, – краснеют они, как выступающая из-под снега кровь.
В бескрайних степях под Сталинградом, где каждый клочок земли, словно зерном, засеян осколками некогда смертоносного металла, где в прах и тлен превратились отборные гитлеровские дивизии, заволжский злой ветер гонит перекати-поле, такое же мрачное, ржаво-бурое, как и разбросанные всюду по степи остовы застывших навеки немецких танков и автомашин.
А в Крыму, в голубых предгорьях Кавказа еще плавают в прозрачном похолодевшем воздухе ослепительно белые нити паутины. Погожими утренними зорями там, где когда-то не затихали бои, окопы и воронки, опушенные по краям лохматым бурьяном, как серебряной сеткой, затянуты паутиной, и каждая ниточка ее прогибается и тихо дрожит, вся унизанная крохотными блистающими слезинками росы…
Но от Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцова моря, где бы, мой друг, ни остановился твой взгляд, всюду увидишь ты дорогие сердцу матери-Родины могилы погибших в сражениях бойцов. И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной советской власти, и величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»
Вспоминая прошлое, ты невольно подумаешь, ты не сможешь не подумать и о том, как много осиротевших людей стало на твоей родине после войны. В эту долгую и просторную для горестных воспоминаний зимнюю ночь не одна вдова, потерявшая в войну мужа, оставшись наедине с собой, прижмет к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ей пальцы горячие и горькие, как полынь, слезы; не одно детское сердце, на всю жизнь раненное смертью того, кто, верный воинскому долгу и присяге, погиб в бою за социалистическую родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания с недетской тоской. А быть может, будет и так: в маленькой комнатке, где грустная тишина живет уже годами, подойдет старик к своей седой жене-подруге, без слез оплакивающей погибших сынов, взглянет в тусклые глаза, из которых самое горькое на свете материнское страдание выжало все слезы, скажет глухим, дрогнувшим голосом: «Ну, полно, мать, не надо… Ну, не надо же, прошу тебя! Не у нас у одних такое горе…» – и, не дождавшись ответа, отойдет к окну, покашляет, проглотит короткое, как всхлип, сухое старческое рыдание и долго молча будет смотреть в затуманенное стекло невидящими глазами…
Мой дорогой друг и соотечественник! Пусть не стынет наша ненависть к врагу, даже поверженному! И пусть с удесятеренной яростью кипит, клокочет она в наших сердцах к тем, кому нет названия на человеческом языке, кто все еще не насытился прибылями, нажитыми на крови миллионов, кто в сатанинском слепом безумии готовит исстрадавшемуся человечеству новую войну!
Их зловещие имена с проклятиями, с гадливостью произносит каждый честный человек в мире, они обречены историей на черную погибель, и время со всей старательностью уже плетет для них надежные удавки. Но пока они живы, пока, не скупясь, отсыпают миллиарды долларов на создание атомных бомб, на подготовку новой чудовищной войны, – пусть живет и наша неистребимая ненависть к ним. Она пригодится в нужную минуту!
Вспомни, друг: за тридцать лет существования советской власти Страна Советов не знала поражений ни в войнах, ни в преодолении любых трудностей; ценою неслыханных жертв и народных страданий мы вышли победителями и в последней, величайшей из войн. Но жертвы, принесенные во имя спасения родины, не убавили наших сил, а горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа.
Бывает так, что по соседству с пшеничными полями, в цветущем густом разнотравье сизым дымом расстелется, раскустится степная полынь, и вот хлебное зерно, наливаясь и зрея, вбирает в себя полынную горечь. На баловство, на кондитерские изделия мука из такого зерна не годится. Но хлеб от горьковатого привкуса не перестает быть хлебом! И благодатным кажется он тому, кто работает, умываясь соленым потом, и ту же щедрую силу дает он человеку, чтобы назавтра было что тратить ему в горячем и тяжком труде!
С дивной, сказочной быстротой врачует народ-созидатель нанесенные войной раны: поднимаются из руин разрушенные города и сожженные села, вернулись к жизни шахты родного Донбасса, уже золотится хлебная стерня на тех полях, где два года назад чертополохом, злою непролазью дико щетинился бурьян, дымят трубы восстановленных заводов и фабрик, новые промышленные предприятия зарождаются там, где недавно были глушь и запустение. И даже бывалый, видавший виды советский человек, давно уверовавший в творческую силу своего трудового гения, узнав о досрочном пуске восстановленного гиганта металлургии или о всесоюзном рекорде доселе неизвестного стране стахановца, в радостном изумлении разводит руками.
А гордость родины – ленинградский рабочий класс – уже зовет трудящихся на завершение пятилетки в четыре года. И уже зримо встают перед глазами величавые контуры новой, прекрасной жизни…
Поистине невиданно могущественна партия, сумевшая организовать, воспитать, вооружить и повести за собой народ на свершение небывалых в истории подвигов! Поистине велик и непобедим народ, сумевший не только отстоять свою независимость и разгромить всех врагов, но и стать светочем надежды для трудящихся во всем мире!
Быть верным сыном такого народа и такой партии – это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? И не нас ли, ныне живущих, окрыляет на неустанный труд и новые подвиги суровая ответственность за судьбы отчизны, за дело партии, ответственность, которую мы несем не только перед грядущими поколениями, но и перед светлой памятью тех, кто сражался и шел на смерть, защищая родину.
* * *
В памятные ленинские дни трудящиеся мира, как и двадцать четыре года назад, как и всегда в день скорбной годовщины, склонят головы, вспоминая того, кто указал человечеству путь к новой жизни. Он – вождь великой партии и создатель первого в мире социалистического государства – сказал в 1919 году незабываемые слова:
«Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации – Советы, и этим Советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «Совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся».
«Советская власть, – говорил Владимир Ильич, – есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому – верный и потому – непобедимый».
Наша страна, страна победившего социализма, стоит несокрушимо в мире.
Друзья знают, из какого неиссякаемого источника черпали и черпаем мы силы и для войны и для мирного труда.
Враги остаются врагами: иные просто клевещут, клевещут с присущей им наглостью, примитивно и грубо, другие второпях вытаскивают из пыльных архивов изрядно траченные молью рассуждения о «загадочности славянской души», о «русском фанатизме» и, стыдливо прикрывая свое убожество и низость этими обветшалыми одеждами, делают вид, что никак не поймут, откуда берется всесокрушающая сила у советского народа.
А народ ценою долголетних страданий и великой революционной борьбы нашел для себя единственно справедливую власть, со всей решительностью и мужеством утвердил ее своей кровью, своим трудом, и никакие силы не смогут поколебать его веру в эту власть.
Как духовно преобразился русский человек, и в частности крестьянин, за время существования советского строя, какие новые и чудесные качества он обрел за годы пятилеток, уже будучи колхозником, – отчетливее видишь, сопоставляя недавнее прошлое с нынешним днем.
* * *
В январе 1930 года, когда на Дону проходила сплошная коллективизация, мне пришлось ехать со станции Миллерово в Вешенскую. Ни мой возница, ни я не тешили себя надеждами за короткий срок проделать сто шестьдесят восемь километров пути. Лошади были усталые, дорога, судя по рассказам, несносная – почти на всем протяжении в ухабах и выбоинах, – в степи курилась поземка, а густые лиловые тучи, стоявшие на востоке угрюмой грядой, обещали близкую непогодь.
Мы выехали с рассветом. Горький запах угольного шлака и дыма топящихся печей сменился за городом пресным и чистым дыханьем молодого снега, ароматом степного сена, растерянного по обочинам дороги, и терпким душком лошадиного пота. Глухое зимнее безмолвие нарушалось лишь скрипом полозьев, фырканьем лошадей да изредка, на спуске в глубокую рытвину, стуком барков о дышло саней.
Возница мой – бородатый, пожилой, но все еще, несмотря на годы, по-молодому статный казак с шельмовскими, глубоко запрятанными глазками и лихо зачесанным чубом – оказался человеком на редкость словоохотливым. Вначале он молча правил лошадьми, меланхолически посвистывая, думая о чем-то своем; я видел только его широкую спину, туго обтянутую нагольным полушубком, бурую, в морщинах шею да заиневший чуб, выбившийся из-под ухарски сдвинутого набок треуха, но стоило мне задать ему какой-то вопрос, как он тотчас же повернулся ко мне лицом, подоткнул под сиденье вожжи и, улыбаясь, заговорил:
– Поглядел бы, братец ты мой, что у нас на хуторах творится… Не дай и не приведи!
– А что?
– Да ведь колхозы же начались, ну, и заседает народ на собраниях, как и в Москве, небось, не умеют заседать!
– Как же это?
– Да так, что по трое суток подряд, днем и ночью!
– И многие вступили в колхоз у вас на хуторе?
– Раскололись пополам: часть вступила, а остальные пока еще мнутся, как овцы перед воротами на баз. А заседают все сообща и там же на драку сходятся, как молодые кочета… Там и смех и грех, всего не оберешься!
Сосед у меня есть, Михей Фомич, старичок он крайних годов, а с собрания выходит только по вострой стариковской надобности, а так – и ночует в сельсовете и кормится там же. Старуха принесет ему щей в чугунке, ну, пока она по снегу добредет, щи начисто остынут; похлебает Фомич холодненького и опять сидит, как гвоздь в стене… Страсть какой активист оказался!
– Колхозник?
– Какое там колхозник! Он активист с обратной стороны, из богатеньких середняков. Прямо супротив колхоза не выступает, а потихонечку сидит в задних рядах и яд пущает, то из священного писания, а то и сам от себя чего придумает. Перед поездкой пошел и я на собрание. Сидим тесно, я – с краю, по левую руку от меня – этот самый Михей Фомич, рядом с ним – вдовая женщина Ефросинья Мельникова. И вот Фомич и зудит, и зудит свое, слушать не дает. Она ему раз сказала: «Не мешай», два сказала, но он не унимается. Один приезжий партейный из района про колхоз рассказывает, а Фомич знай свое нашептывает: и то, мол, будет нехорошо, и другое вовсе плохо… А потом толкнул Ефросинью локотком и говорит потихонечку: «Сначала скотину заставят обществить, бабонька, а после и под общую одеялу спать загонят. Это мне верный человек говорил». Она, возьми, в шутку и скажи ему: «Что ж, мое дело вдовье, я в убытке не буду, только, не приведи бог, с тобой рядом придется спать, – тогда хоть из колхоза выписывайся». Ну, Фомич почуял недоброе и уже погромче спрашивает: «Это, то есть, почему же такое, паскудница ты этакая?» Фроська на эти слова рассерчала и уже вовсе громко говорит: «А потому, старый черт, что от тебя, как от пустого амбара, за версту мышиным пометом воняет!» Слово за слово – и завелись. Он ей: ты, мол, и бесстыжая, и такая-сякая, и про бога забыла, а она ему: «Тебе, подкулачнику, хорошо против колхоза говорить, у тебя две пары быков, пара лошадей, а я с одной коровенкой всю жизнь должна нужду трепать?» Он ее – ядреным словом, а она его – бабьим нескладным матом, ну, и дошло у них дело до драки. Фомич, как при старом режиме, платок с нее сбил и – за прическу. Ефросинья, не будь дура, за бороденку его ухватилась. Баба она молодая, при силе, сколько захватила в горсти волосьев – все у нее в руках и осталось. Насилу растянули их, ей-богу. После этого глянул я на Фомича, а у него полбороды как корова языком слизнула. Смех меня разбирает, но я скрепился и говорю: «Не ходи ты, Михей Фомич, на эти собрания, а то тебя бабенки ощипают, как резаного кочета, и пуху на развод не оставят». А он этак гордо на меня поглядел и говорит: «Последнего волоса лишуся, но с собрания не уйду!» Ужасный какой активист оказался, сроду и подумать нельзя было…
– А ты-то вступил в колхоз, Прокофьевич? – поинтересовался я.
Прокофьевич степенно разгладил каштановую с рыжеватым подсадом бороду и плутовски сощурил голубые беспокойные глазки.
– Я не спешу…
– Что так?
– Видишь, какое дело, на свадьбе или еще при какой гулянке я не спешу вперед людей за стол садиться. Когда после других с краю сядешь – при нужде скорее из-за стола вылезешь… – И, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений насчет его иносказания, добавил: – А может, за столом мне не понравится, – так за каким же нечистым духом я в самую середку, под божницу попрусь?
Смеясь, я сказал ему, что если долго выжидать и раздумывать, то можно совсем за стол не попасть. Но Прокофьевич упрямо мотнул головой.
– Я востро кругом гляжу! В колхоз и меня приглашают, по достатку я самый что ни есть колеблющий середняк: пара лошадей и немудрящая коровка – все имущество. Но только раз уж я колеблющий, как меня на собраниях обзывают, то я и хочу приглядеться как следует к этому колхозу, а сторчмя головой в него кидаться – все как-то не того… не очень, чтобы…
– Страшновато?
– Нет, на испуг я неподатливый, а опаску имею. На всякий случай имею. Ты вот лучше скажи: какой жизни надо дюжей опасаться, колхозной или единоличной? Боюсь ошибку понесть, потому что смолоду ученый и знаю: иной раз беды ждешь с одной стороны, а она на тебя – шасть – с другой, ну, и будь здоровенький! К примеру расскажу тебе такое: тридцать лет назад сосватали мне покойные родители невесту, и не в своем хуторе, а в чужом. Поехали невесту глядеть. И парень я был геройский, а как глянул на нее в первый раз, – сердце оборвалось, и только чую, что оно у меня уже где-то в глотке бьется… Вижу: стоит передо мной бой-девка, глаза отважные, с искрой, а сама красоты невозможной, как цветок лазоревый! Смотрит она на меня, а я слова не могу сказать, молчу, как мертвый. Ну, оставили нас одних в горнице, сидим мы рядом на сундуке, а я все молчу, оглядываю ее, глазами моргаю. Одно мне на вид кинулось: уж дюже у нее ручонки мелкие, прямо как у дитя. Я еще тогда, помню, подумал: с такими руками она и навильника не подымет, какая же из нее будет работница в хозяйстве? Головой думаю, а язык все не ворочается. Долго мы так молчали. Она терпела-терпела, а потом нагнулась ко мне и шепотом спрашивает: «Да ты, кажись, немой?» Я только головой помотал, а слова опять же не скажу, не получается, хоть плачь! Тогда она брови сдвинула и строго так говорит: «А ну, покажи язык! Может, ты его в дороге при тряске откусил?» Я сдуру возьми да и высунь язык… Ох, черт, до нынешнего дня стыдно, как вспомню, каким дураком тогда оказал себя! И тут она так засмеялась, что аж слезы у нее из глаз брызнули! Смеется, руки к груди прижала, от смеха не продыхнет, а сама шумит: «Маманя, иди сюда! Погляди на него! Да он же чисто глупой! Как же я за него замуж пойду?» Во, брат, как оно, дело-то, для меня гадостно обернулось!
И зло меня на нее взяло, и самому засмеяться охота, а тут как глянул нечаянно на ее зубы и опять обмер: зубы у нее белые-пребелые, прямо кипенные, один к другому слитые, вострые, и полон рот их у нее, как у волка-переярка. «Ну, вот это, – думаю, – попался я! Такими зубами смело можно телка-летошника разорвать, а что же со мной будет, когда женюсь? В случае какого семейного неудовольствия руками она со мной не совладает – мелковаты у нее ручонки для драки, – а, не дай бог, пустит зубы в дело, – и полетит с меня кожа клочьями! Она же из моей шкуры легочко может ремней на две шлеи надрать».
И то ли с испугу, то ли со злости, но только язык у меня стал ворочаться, и я говорю: «Гляди, девка, ныне ты смеешься, а выйдешь за меня – как бы плакать не пришлось». А она мне в ответ: «Слепой сказал – поглядим. Это еще неизвестно, кто от кого будет плакать!»
На том и сошлись. И ты думаешь, зубами она надо мной власть взяла? Как бы не так!
Нет, зубы она об меня не тупила, не попустил господь. У нее – даром, что старуха, – и сейчас их полон рот, и вишневые камушки она, проклятая, щелкает, будто подсолнуховые семечки грызет. Маленькими руками она власть захватила! Год от году потихонечку брала надо мной верх, а теперь я, может, и взноровился бы, да поздно, приобык к хомуту, притерпелся к беде, как паршивая лошаденка к коросте. В пьяном виде – я смирный человек, в трезвом – еще смирнее, вот она, вражина, и руководствует надо мною, как ей вздумается.
Иной раз в праздник соберемся мы, пожилые казаки, ну, выпьем на складчину по литре на брата, про старое вспомянем, кто где служил, кто с кем воевал, песни заиграем… Но ведь как жеребенку на лугу ни взбрыкивать, а придет время и к матке бежать. Прийду домой на голенищах или вроде этого, а жена уже в дверях ждет и сковородник, как ружье, на изготовке держит. Это, конечно, длинная музыка про все рассказывать, это даже неинтересно объяснять… Одно скажу: научила она меня спиной двери отворять, тут уж нечего греха таить. Какой бы выпитый ни был, а как только дойду до сенцов, сейчас же подаю сам себе команду: «Стоп, Игнат Прокофьевич, налево кру-у-гом!» Поворачиваюсь задом и таким путем вхожу в хату. Так оно получается надежнее, меньше урону несу… Утром проснусь, спина болит, будто на ней горох молотили, возле меня стоит миска с капустным рассолом, а жены нету. С похмелья я, может, и сорвал бы на ней злость, да ее до вечера сам черт с фонарем не сыщет. Ну, а к вечеру сердце у меня, конечно, перегорит, тут и она является, сладко так поглядывает: «Здорово, Игнат Прокофьевич, как живешь-можешь?» – «Живу, слава богу, – говорю ей, – да жалко, что мне ты с утра не попалась, проклятая, я бы из тебя щепок на растопку натесал!»
Она все упрашивает меня, чтобы я дубовый держак на сковородник сделал, но я тоже себе на уме: деревцо на держак выбираю самое что ни есть трухлявое и тоночко его обстругиваю, лишь бы сковороду держал, не ломался. Так и живем помаленьку…
К чему я все это тебе рассказывал? Да к тому, что при женитьбе опасался жениных зубов, а страдать от ее рук приходится. Так и теперь: опасаешься колхоза, а там, глядишь, как бы от единоличной жизни не пришлось по-волчиному выть… Останешься в этой единоличной жизни, – ну, и язык на сторону! Верно я говорю?