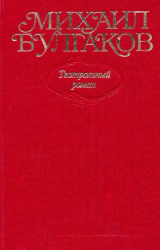
Текст книги "Том 8. Театральный роман (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)
Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать чернильные знаки.
Это продолжалось довольно долго.
Пилат, с трудом разбираясь в корявых знаках, иногда склонялся к пергаменту, морщась, читал написанное рукою бывшего сборщика податей.
Он быстро понял, что записанное представляет несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и обрывки стихов.
Пилат обратился к концу записанного, увидел и разобрал слова:
«Смерти нет…» – поморщился, пошел в самый конец и прочитал слова:
«…чистую реку воды жизни…», несколько далее…. «кристалл».
Это было последним словом. Пилат свернул пергамент, протянул его Левию со словом:
– Возьми. – Потом, помолчав, заговорил: – Ты книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть библиотека. Я могу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.
Левий встал и сказал:
– Нет, я не хочу.
Пилат спросил:
– Почему? – И сам ответил: – Я тебе неприятен, и ты меня боишься.
Опять улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:
– Нет, потому что ты будешь меня бояться.
Пилат побледнел, но сдержал себя и сказал:
– Возьми денег.
Левий отрицательно покачал головой.
Тогда прокуратор заговорил так:
– Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо если бы это было не так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь, – лицо Пилата задергалось, он поднял значительно палец вверх, – непременно взял бы. Ты жесток.
Левий вспыхнувшими глазами посмотрел на Пилата, а тот на коптящие огни.
– Чего-нибудь возьми, – монотонно сказал Пилат, – перед тем как уйти.
Левий молчал.
– Куда пойдешь? – спросил Пилат.
Левий оживился, подошел к столу и, наклонившись к уху Пилата, испытывая наслаждение, прошептал:
– Ты, игемон, знай, что я зарежу человека… Хватай меня сейчас… Казни… Зарежу.
– Меня? – спросил Пилат, гладя на язычок огня.
Левий подумал и ответил тихо:
– Иуду из Кериафа.
Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, усмехнувшись, ответил:
– Не трудись. Иуду этой ночью зарезали уже. Не беспокой себя.
Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:
– Кто это сделал?
– Не будь ревнив, – скалясь ответил Пилат и потер руки. – ты один, один ученик у него! Не беспокой себя.
– Кто это сделал? – шепотом спросил клинобородый Левий, наклоняясь к столу.
Пилат приблизил губы к грязному уху Левия и шепнул:
– Я…
Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал тихо;
– Возьми чего-нибудь.
Левий подумал, смягчился и попросил:
– Дай кусочек чистого пергамента.
Прошел час. Левия не было во дворце. Дворец молчал, и тишину ночи, идущей к утру, нарушал только тихий хруст шагов часовых в салу. Луна становилась белой, с края неба с другой стороны было видно беловатое пятнышко утренней звезды.
Светильники погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал, дышал беззвучно. В ногах лежал Банга, спал.
Стрельба в квартиреКогда Маргарита прочитала последние слова романа «…пятый прокуратор Иудеи…» и «…конец…», наступало утро. Слышно было, как во дворе на ветвях ветлы и двух лип вели беспокойный, быстрый разговор неунывающие никогда воробьи.
Маргарита поднялась, потянулась и теперь только ощутила, как изломано ее тело, как хочет она спать. Интересно отметить, что душевное хозяйство Маргариты находилось в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъестественно, что видела бал у сатаны, что чудом вернулся мастер к ней, что возник из пепла роман ее любовника, что был изгнан поганец и ябедник Алоизий Могарыч и мастер получил возможность вернуться в свой подвал. Словом, знакомство с Воландом не нанесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть.
Она ощутила радость, а тело ее усталость.
Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит мертвым сном, погасила настольную лампу и сама протянулась на диванчике, покрытом старой простыней. Через минуту она спала, и снов никаких в то утро она не видела.
Подвал молчал, молчал весь маленький домишко застройщика. Тихо было и в переулке.
Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал почти целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом громаднейшую площадь, которую специальные машины, разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным ночным светом, борющимся со светом восходящего дня.
Там шло следствие, и занято им было немало народу, пожалуй, человек десять в разных кабинетах.
Собственно говоря, следствие началось уже давно, со вчерашнего дня пятницы, когда пришлось закрыть Варьете вследствие исчезновения его администрации и безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии.
Теперь следствие по какому-то странному делу, отдающему совершенно невиданной не то чертовщиной, не то какою-то особенной, с какими-то гипнотическими фокусами уголовщиной, вступило в тот период, когда из разносторонних и путаннейших событий, происшедших в разных местах Москвы, требовалось слепить единый ком и найти связь между событиями. А затем вскрыть сердцевину этого чертова яблока. А также найти, куда, собственно, тянется нить от этой сердцевины.
Не следует думать, что следствие работало мешкотно, этого отнюдь не было.
Первый, кто побывал в светящемся сейчас электричеством этаже, был злосчастный Аркадий Аполлонович Семплеяров, заведующий акустикой. Днем в квартире его, помещающейся у Каменного моста, раздался звонок. Голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича заявила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти не может. Однако подойти ему пришлось. На вопрос супруги, кто спрашивает Аркадия Аполлоновича, голос назвал свою фамилию.
– Сию секунду… сейчас, сию минуту, – пролепетала обычно надменная супруга Аркадия Аполлоновича и как пуля полетела в спальню поднимать супруга с ложа, на котором лежал он, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем вечере.
Правда, не через секунду, но через две минуты Аркадий Аполлонович в одной туфле на левой ноге, в белье уже был у аппарата, внимательно слушая то, что ему говорят.
Супруга, забывшая на эти мгновения омерзительное преступление супруга против верности, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала:
– Туфлю надень!.. Туфлю…
На что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая зверские глаза ей, бормотал в телефон:
– Да, да… Сейчас же выезжаю…
Совершенно понятно, что после первого же разговора с Аркадием Аполлоновичем все в том же этаже учреждения, разговора тягостного, ибо пришлось, увы, правдиво, как на исповеди, рассказывать попутно и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, что, конечно, доставляло Аркадию Аполлоновичу невыразимые мучения…
Само собой разумеется, что сопоставление показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями служащих Варьете, и главным образом курьера Карпова, немедленно проложило дорогу куда надо, именно – в квартиру № 50 по Садовой в доме 302-бис.
И, конечно, следствие ничуть не удовольствовалось сообщениями о том, что в квартире Лиходеева никого нет, равно так же как и всякими сплетнями Аннушки о том, что Груня украла мешок рафинаду.
В квартире № 50 побывали еще раз. И не только побывали, но и осмотрели ее чрезвычайно тщательно, не пропустив даже каминов.
Однако никого не нашли в ней. Собственно говоря, достаточно было семплеяровских показаний, карповских показаний, а также показаний раздетых гражданок, чтобы твердо установить короткий путь от сеанса к некоему артисту Воланду, тут же заняться им и так или иначе его разъяснить. Но дело чрезвычайно осложнилось тем, что не только в квартире № 50, не только вообще где-либо в Москве не обнаруживалось следов пребывания этого Воланда со своим ассистентом и черным котом, но, что хуже, никак не устанавливался самый факт его приезда в Москву!
Решительно нигде он не зарегистрировался, нигде не предъявлял ни паспорта, ни каких-либо бумаг и никто о нем ничего не слыхал! Ласточкин из программного отдела зрелищ клялся и божился, что никакой программы, никакого Воланда он не разрешал и не подписывал и ровно ничего не знает о приезде мага Воланда в Москву. И уж по глазам Ласточкина можно было смело сказать, что он чист как хрусталь.
Тот самый Прохор Петрович – заведующий главным сектором зрелищных площадок…
Кстати, он вернулся в свой костюм так же внезапно, как и выскочил из него. Не успела милиция войти в кабинет, как Прохор Петрович оказался на своем месте за столом к исступленной радости Сусанны Ричардовны, но к недоумению зря потревоженной милиции…
Да, так Прохор Петрович, так же как и Ласточкин, решительно ничего не знал ни о каком Воланде.
Выходило что-то странное: тысячи зрителей, весь состав Варьете, Семплеяров, культурный и интеллигентный человек, видели мага и ассистента и кота, многие пострадали от их фокусов, а следов этого мага, иностранца, никаких в Москве нет!
Оставалось допустить, что он провалился сквозь землю, бежал из Москвы тотчас же после своего отвратительного сеанса или же другое: что он вовсе в Москву не приезжал.
Но если первое, то несомненно, что, исчезая, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если второе, то, стало быть, сама администрация, учинив предварительно какую-то пакость, скрылась из Москвы.
Разбитое окно в кабинете, опрокинутое кресло, поведение Тузабубен весьма выразительно свидетельствовало в пользу первого, и все усилия следствия сосредоточились на обнаружении Воланда и его поимке.
Надо отдать справедливость тому, кто вел следствие. Поплавского разыскали с исключительной быстротой. Лишь только дали телеграмму в Ленинград, на нее пришел ответ, что Поплавский обнаружен в гостинице «Астория» в № 412, том самом, что рядом с лифтом и в котором серо-голубая мебель с золотом.
Тут же он был арестован и допрошен. Затем в Москву пришла телеграмма, что Поплавский в состоянии полувменяемом, никаких путных ответов не дает, а плачет и просит спрятать его в бронированную комнату и приставить к нему вооруженную охрану. Была послана телеграмма: под охраной доставить финдиректора немедленно в Москву.
В тот же день, но позже был найден и след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Владикавказа был получен ответ о том, что Лиходеев был во Владикавказе и что он вылетел на аэроплане в Москву. Такие же точно вопросы о Варенухе пока что результатов не принесли. Известный всей столице администратор как в воду канул.
Тем временем тем лицам, которые вели следствие по этому необыкновенному делу, пришлось принимать и рассматривать все новый и новый материал о необычайных происшествиях в Москве. Тут оказались и поющие служащие, из-за которых пришлось останавливать работу целого учреждения, и временно пропавший Прохор Петрович, и бесчисленные происшествия с денежными бумажками, и таинственные превращения их то в иностранную валюту, то в обрывки газет, путаница, неприятности и аресты, связанные с этим, и многое другое все в этом же и очень неприятном роде.
Самое неприятное, самое скандальное и неразрешимое было, конечно, похищение головы покойного Берлиоза прямо из гроба среди бела дня из грибоедовского зала на бульваре, произведенное с поражающей чистотой и ловкостью. Пришитая к шее голова была отшита и пропала.
По ходу работы следствия, нечего и говорить, ему пришлось побывать и в знаменитой клинике Стравинского за городом, и здесь обнаружен был богатейший материал. К первому явились к злосчастному Жоржу Бенгальскому, но у него получили мало. Несчастный плакал, хватался за шею, волновался, нес бредовые путаные речи. Несомненно было только, что показания его совершенно сходились с показаниями Аркадия Аполлоновича и других: да, было трое, этот Воланд, длинный по кличке Фагот и черный кот.
Конферансье оставили в его комнате, успокоив ласковыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления и перешли к другим делам в этой же клинике.
Лучший следователь города Москвы, молодой еще человек с приятными манерами, ничуть не похожий на следователя, лишенный роковой проницательности в глазах, в то время как помощник его занимался с Жоржем Бенгальским, пришел к дежурному ординатору и попросил список лиц, поступивших в клинику за последнее время, примерно за неделю.
Он тот же час обратил внимание на Босого Никанора Ивановича, попросил историю его болезни, и второй помощник его проследовал к Никанору Ивановичу. Бездомный Иван Николаевич заинтересовал следователя еще более, чем Никанор Иванович, хоть он и не жил в доме на Садовой и к происшествиям в Варьете не имел никакого отношения.
Рассказы Ивана о консультанте, о Понтии Пилате, записанные в истории болезни, вызвали в следователе самое сугубое внимание, и к Ивану он отправился сам.
Дверь Иванушкиной комнаты отворилась, и в нее вошел упомянутый уже следователь, круглолицый, спокойный и сдержанный блондин. Он увидел лежащего на кровати побледневшего и осунувшегося молодого человека.
Следователь представился, сказал, что зашел на минутку потолковать именно о тех происшествиях, которых свидетелем был Иван позавчера вечером на Патриарших Прудах.
О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему раньше, в ночь на четверг, скажем, когда Иван исступленно добивался, чтобы его выслушали, чтобы кинулись ловить консультанта!
Да, к нему пришли, его искали и бегать ни за кем не надо было, его слушали, и консультанта явно, собирались поймать. Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он отвечал на мягкие и вежливые вопросы следователя довольно охотно, но равнодушие чувствовалось во взгляде Ивана, его интонациях. Его не трогала больше судьба Берлиоза.
Иванушка спал перед приходом следователя и видел во сне город странный. С глыбою мрамора, изрезанной колоннадами, с чешуйчатой крышей, горящей на солнце, на противоположном холме террасы дворца с бронзовыми статуями, тонущими в тропической зелени. Он видел идущие под древними стенами римские когорты.
И видел сидящего неподвижно, положив руки на поручни, бритого человека в белой мантии с кровавым подбоем, ненавистно глядящего в пышный сад, потом снимающего руки с поручней, без воды умывающего их.
Нет, не интересовали Ивана Бездомного более ни Патриаршие Пруды, ни происшедшее на них трагическое событие!
Следователь получил богатейший материал. Да, проклятый кот оказался и здесь. Длинный клетчатый также!
– Скажите, Иван Николаевич, а вы сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай? – спросил следователь.
Чуть заметная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил:
– Я был далеко.
– А как примерно… в скольких шагах?
Иван поморщился, припоминая, ответил:
– Шагах в сорока…
– Стояли или сидели?
– Сидел.
– А этот клетчатый был возле самого турникета?
– Нет, он сидел на скамеечке, недалеко.
– Хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?
– Помню. Не подходил. Он, развалившись, сидел.
– Разве так хорошо было видно за сорок шагов?
– Хорошо. Фонарь горел на углу Ермолаевского, и вывеска над турникетом.
Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, пожал руку Иванушке, пожелал скорее поправиться, выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.
– Нет, – тихо ответил Иван, – я больше стихов писать не буду.
Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность, что поэт сейчас в состоянии депрессии, но это скоро пройдет.
– Нет, – тихо отозвался Иван, глядя вдаль на гаснущий небосклон, – это не пройдет. Стихи, которые я писал, – плохие стихи, и я дал клятву их более не писать.
– Ну, ну, – усмехнувшись ответил следователь и вышел.
Сомнений более не было. На Патриарших Прудах действовал тот же самый со своим помощником, что и в Варьете. Значит, деятельность его началась еще ранее, чем на скандальном сеансе в Варьете. Деятельность эта, увы, началась с убийства. Следователь не сомневался в том, что Иванушка не повинен в ней. Он не толкал под страшные колеса своего редактора. Возможно, что клетчатый действительно был в некотором отдалении от турникета и физически не способствовал падению на рельсы.
Но, следователь в этом не сомневался, какая-то шайка во главе с сильнейшим гипнотизером, невиданно сильнейшим гипнотизером, внедрилась в Москву и совершила страшные вещи. Берлиоз шел на смерть загипнотизированным.
Все по сути было уже ясно. Теперь оставалось только одно: взять этого Воланда. А вот брать-то было некого! Хоть и было известно, что гнездо Воланда, вне всяких сомнений, в проклятой квартире № 50!
Днем, как нам известно, бывший барон Майгель напросился по телефону на вечер к Воланду. Ему отвечали. Шайка или кто-то входящий в нее был в квартире. Нечего и говорить, что ее навестили (по времени это было тотчас после ухода буфетчика) и ничего в ней не нашли. А между тем по всем комнатам квартиры прошли с шелковой сеткой, проверили все углы.
Под вечер в квартиру № 50 опять звонили, оттуда отвечал козлиный голос. Опять явились и опять – никого!
Тогда поставили наблюдение на лестнице, во дворе, под воротами. Этого мало: у дымохода на крыше была поставлена охрана. В квартиру время от времени звонили, квартиру время от времени навещали. Но всякий раз никого не заставали.
Так тянулось до полуночи. В полночь на лестнице появился барон Майгель в лакированных туфлях, во фраке, сверх которого было накинуто английского материала светлое пальто.
Барона впустили в квартиру и немедленно затем в квартиру без звонка, открыв дверь ключом, вошли и не обнаружили в ней барона.
Шайка явно шутила шутки, волнуя тех, на чьей обязанности было обнаружить Воланда с его приспешниками. Дело получалось невиданное, скверное. Мнения разделялись. Одни находили, что шайка гипнотизирует входящих и, таким образом, они перестают видеть ее, другие – что в квартирке, давно пользующейся омерзительной репутацией, есть тайник, в котором скрываются преступники при первых звуках открываемых дверей. Второе объяснение, как бы ни было оно хорошо, все-таки имело меньше сторонников, чем первое. Тайник-то тайник… Ну а где же он находится? Ведь квартиру-то выстукивали, осматривали так тщательно, что уж тщательнее и невозможно.
Тот лучший следователь, что разговаривал с Иваном, на вопрос о том, как он объясняет исчезновение Майгеля, сквозь зубы пробормотал прямо, что у него нет ни малейших сомнений в том, что барон убит.
Так дело тянулось вечером в пятницу и ночью в субботу, и, как уже сказано, пылал электричеством до белого дня бессонный встревоженный и, признаться, пораженный этаж.
В восемь часов утра на московском аэродроме совершил посадку шестиместный самолет, из которого вышли еще пьяные от качки трое пассажиров. Двое были пассажиры как пассажиры, а третий какой-то странный.
Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, неумытый, с красными глазами, без багажа и одетый причудливо. В папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких туфлях.
Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускаются из кабины, к нему подошли двое граждан, дожидавшихся прилета именно этого аэроплана, и ласково и тихо осведомились:
– Степан Богданович Лиходеев?
Пассажир вздрогнул, глянул отчаянными глазами и зашептал, озираясь, как травленый волк:
– Тсс! Да я… Лиходеев… Прилетел… Немедленно арестуйте меня, но, умоляю, незаметно… Умоляю… И отвезите к следователю…
Просьбу Степана Богдановича дожидавшиеся исполнили с великой охотой, ибо, признаться, за тем и приехали на аэродром.
Через десять минут Степан Богданович уже стоял перед тем самым следователем и внес существенный материал в дело.
После того как Лиходеев закончил свой рассказ о том, как у притолоки в собственной квартире упал в обморок, а после того очутился на берегу Терека во Владикавказе, после того как он описал и Воланда, и клетчатого помощника, и страшного говорящего кота, – решительно все уже разъяснилось. Этот Воланд проник в Москву под видом артиста, заключил договор с Варьете и внедрился в квартиру № 50, и с клетчатым негодяем в пенсне, и с котом, и еще с каким-то гнусавым и клыкастым, о котором следователь узнал впервые от Степы.
Материалу, таким образом, добавилось, но легче от этого не стало. Никто не знал, каким образом можно овладеть фокусником, умеющим посылать людей в течение минуты во Владикавказ или в Воронежскую область, исчезать и опять появляться.
Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру с приставленной к ней охраной, а перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток.
Варенуха, несмотря на данное им у Воланда обещание более не лгать, именно со лжи перед следователем и начал. Блуждая глазами, он заявлял, что напился у себя в квартире днем в четверг, после чего куда-то попал, а куда – не помнит, где-то еще пил старку, а где – не помнит, где-то валялся под забором, а где – не помнит. Лишь после того, как ему сурово сказали, что он мешает следствию по особо важному делу и за это может поплатиться, Варенуха разрыдался и зашептал, дрожа и озираясь, что он боится, что молит его куда-нибудь запереть, и непременно в бетонированную камеру.
– Далась им эта бетонированная камера, – проворчал один из ведущих следствие.
– Напугали их сильно эти негодяи, – ответил тихо наш следователь.
Варенуху успокоили как умели, поместили в отдельную, правда не бетонированную, но хорошо охраняемую камеру, а там он сознался, что все налгал, что никакой старки он не пил и под забором не валялся, а был избит в уборной двумя, одним клыкастым, а другим толстяком…
– Похожим на кота? – спросил мастер-следователь.
– Да, да, да, – зашептал, в ужасе озираясь, Варенуха.
…Что был вовлечен под ливнем в квартиру № 50 на Садовой, что там был расцелован голой рыжей Геллой, после чего упал в обморок, а затем в течение суток примерно состоял в должности вампира и был наводчиком. Что хотела Гелла расцеловать и Поплавского, но того спас крик петуха…
Таким образом, и тайна разбитого окна разъяснилась. Поплавского, которого после снятия с ленинградской стрелы уже вводили в кабинет следователя, можно было, собственно, и не спрашивать ни о чем.
Тем не менее его допросили. Но этот трясущийся от страху седой человек (в «Астории» он прятался в платяном шкафу) оказался на редкость стойким. Он сказал только, что после спектакля, будучи у себя в кабинете, почувствовал себя дурно, в помутнении ума неизвестно зачем уехал в Ленинград и ничего более не знает и не помнит.
Как ни упрашивали его, как ни старались на него повлиять, он не сознавался в том, что к нему Варенуха явился в полночь, что рыжая Гелла пыталась ворваться в кабинет через окно.
Его оставили в покое, тем более что приходилось допрашивать Аннушку, арестованную в то время, так как она пыталась приобрести в универмаге на Арбате пять метров ситцу и десять кило пшеничной муки, предъявив в кассу пятидолларовую бумажку.
Ее рассказ о вылетающих из окна людях и о дальнейшем на лестнице выслушали внимательно.
– Коробка была золотая, действительно? – спросил следователь.
– Мне ли золота не знать, – как-то горделиво ответила Аннушка.
– Но дал-то он тебе червонцы, ты говоришь? – спрашивал следователь, с трудом сдерживая зевоту и морщась от боли в виске (он не спал уже сутки).
– Мне ли червонцев не знать, – ответила Аннушка.
– Но как же они в доллары превратились? – спрашивал следователь, указывая пером на американскую бумажку.
– Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела никаких долларов, – визгливо отвечала Аннушка, – мы в своем праве. Нам дали, мы ситец покупаем…
И тут понесла околесину о нечистой силе и о том, что, вот, воровок, которые по целому мешку рафинаду прут у хозяев, тех, небось, не трогают…
Следователь замахал на нее пером и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.
Потом пошел Загривов, бухгалтер, затем Николай Иванович, арестованный утром исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей в два часа ночи знать в милицию о том, что муж ее пропал.
Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол дурацкое удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. Не очень большое внимание привлекли и его рассказы о том, как он возил по воздуху на себе голую горничную куда-то на реку купаться, но очень большое – рассказ о самом начале событий, именно о появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, об ее исчезновении. Надо присовокупить к этому, что в рассказе Николай Иванович несколько видоизменил события, ничего не сказав о том, что он вернулся в спальню с сорочкой в руках, о том, что называл Наташу Венерой. По его выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и что он…
– Повинуясь насилию… – рассказывал Николай Иванович и тут же просил ничего не говорить его супруге…
Что ему и было обещано.
За Николаем Ивановичем пошли шоферы, потом служащие, запевшие «славное море» (Стравинскому путем применения подкожных впрыскиваний удалось остановить это пение)…
Так шел день в субботу. В городе в это время возникали и расплывались чудовищные слухи. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после которого выскочили из театра в чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек в Ваганьковском переулке, что на Садовой завелась нечистая сила, что кот появился, ходит по Москве раздевает, что украли заведующего в секторе развлечений, но что милиция его сейчас же нашла, и многое еще, что даже и повторять не хочется.
Между тем время приближалось к обеду, и тогда в кабинете следователя раздался звонок. Он очень оживил вконец измученного следователя, сообщали, что проклятая квартира подала признаки жизни. Именно видели, что в ней открывали окно и что слышались из него звуки патефона.
Около четырех часов дня большая компания мужчин частью в штатском, частью в гимнастерках высадилась из трех машин, не доезжая до дома 302-бис по Садовой, подошла к маленькой двери в одном из крыльев дома, двери, обычно закрытой и даже заколоченной, открыла ее и через ту самую каморку, где отсиживался дядя Берлиоза, вышла на переднюю лестницу и стала подниматься по ней. Одновременно с этим по черному ходу стали подниматься еще пять человек.
В это время Коровьев и Азазелло сидели в столовой ювелиршиной квартиры, доканчивая завтрак. Воланд по своему обыкновению находился в спальне, а кот и Гелла неизвестно где. Но, судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот развлекался там, валяя дурака по обыкновению.
– А что это за шаги такие внизу на лестнице? – спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.
– А это нас арестовывать идут, – ответил Азазелло и выпил коньяку. Он не любил кофе.
– А?.. Ну-ну, – отозвался Коровьев.
Идущие тем временем были уже на площадке третьего этажа. Там двое возились с ключами возле парового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительными взглядами.
– Все, кажется, дома, – шепнул один из водопроводчиков, постукивая молоточком по трубе.
Тогда шедший впереди откровенно вынул маузер из-за пазухи гимнастерки, а шедший рядом с ним – отмычки.
Вообще шедшие были снаряжены очень хорошо. У двух из них в карманах были тонкие, легко развертывающиеся сети (на предмет кота), у одного аркан, еще у одного под пальто марлевые маски и ампулы с хлороформом. У всех, кроме этого, маузеры.
Вслед за человеком, вынувшим маузер, и другими с отмычками поднимался следователь и другие, а замыкал шествие знаменитый гипнотизер Фаррах-Адэ, человек с золотыми зубами и горящими экстатическими глазами. Он был бледен и, видимо, волновался. Все остальные шли без всякого волнения, стараясь не стучать, и молча.
Поднимаясь из третьего в четвертый этаж, Фаррах вынул из кармана зеленую стеклянную палочку, поднял ее вертикально перед собою, возвел взор сквозь пролет лестницы вверх. Цель его заключалась в том, чтобы загипнотизировать жильцов квартиры № 50 и лишить их возможности сопротивляться. Немножко задержались на площадке, чтобы Фаррах успел сосредоточиться. Затем он отступил, а вооруженные устремились к дверям. Двери открыли в две секунды, и все один за другим вбежали в переднюю, а затем рассыпались по всей квартире. Хлопнувшие где-то двери показали, что вошла и группа с черного хода через кухню.
На этот раз удача была налицо. Ни в одной из комнат никого не оказалось, как не было никого ни в ванной, ни в кухне, ни в уборной, но зато в гостиной на каминной полке рядом с разбитыми часами сидел громадный черный кот. Он держал в лапах примус.
В молчании вошедшие созерцали кота в течение нескольких секунд.
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, – недружелюбно насупившись, сказал кот, – и еще предупреждаю, что кот неприкосновенное животное.
– Да, неприкосновенное, но тем не менее, дорогой говорящий кот… – начал кто-то.
– Живым, – шепнул кто-то.
Взвилась шелковая сеть, и бросающий ее промахнулся. Захваченные сетью часы с громом и звоном рухнули на пол.
– Ремиз! – крикнул кот, еще громче вскричал: – ура! – и выхватил, отставив примус, из-за спины браунинг. Он мигом навел его на первого стоящего, но в этот момент в руке у того полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом кот шлепнулся вниз головой с каминной полки наземь, уронив браунинг и сбросив примус.
– Все кончено, – слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, – отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О, мой друг Азазелло! – сказал кот, истекая кровью, – где ты? – тут кот зарыдал, – ты не пришел мне на помощь… Завещаю тебе мой браунинг… – тут кот прижал к груди примус.
– Сеть, сеть, – беспокойно шепнул кто-то…
Шевельнулись… Сеть зацепилась у кого-то в кармане, не полезла. Тот побледнел…
– Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, – заговорил кот, – это глоток бензина… – И не успели присутствующие мигнуть, как кот приложился к круглому отверстию примуса и напился бензину. Тотчас перестала струиться кровь из-под верхней левой лопатки кота. Он вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним на камин, оттуда полез, раздирая обои, по стене и через секунду оказался высоко в тылу вошедших сидящим на металлическом карнизе.








